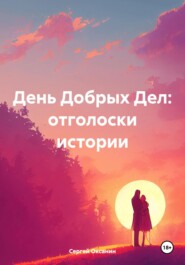По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
День Добрых Дел: история и ее предыстории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
День Добрых Дел: история и ее предыстории
Сергей Оксанин
История о пересечении человеческих судеб в маленьком городке. Две подружки детства, прожившие совершенно разные жизни, но сохранившие привязанность друг к другу до старости, знакомятся с главным героем, архитектором информационных систем, ожидающим в кафе своего друга пастора. Старушки вспоминают самые яркие события их жизней, первый фестиваль джаза в Ницце, Вудсток, чемпионат мира по футболу в Мексике, венскую рождественскую Волшебную флейту, но им невдомек, что их собеседники невольно и уже давно проникли в закоулки их прошлого. Не знает этого и главный герой, который за воскресными беседами прячет свою душевную неустроенность. Интуитивно он находит успокоительное лекарство. Так в его жизни появляется День Добрых Дел. Но действие этого лекарства оказывается непредсказуемым.
Сергей Оксанин
День Добрых Дел: история и ее предыстории
Памела и Синтия
Как и условились, в назначенный час старушки пришли в церковь. Они просили пастора помянуть Мориса по-скромному, пусть и в церкви, но по-домашнему, без хора. Да и приглашать особо уже было некого. Валета схоронили много лет назад. Дети Синтии жили далеко, а их память о дяде ограничивалась, по сути, одним давним днем. Старушки помнили гораздо больше, но, присев рука в руку на скамью, пастор начал читать на латыни, они закрыли глаза, и, не сговариваясь, вернулись к тому же самому дню.
Глава первая
Вот такой подарок на сорокалетие. Точнее, два подарка – один и еще один. Синтия вытерла запястьем набежавшую слезу. Бутерброд наслаивался машинально – сначала развалился на куски хлеб, потом масло размазалось как-то само собой, и на тарелку, с широкого лезвия ножа, соскочил ломоть ветчины. Синтия взяла тарелку и отвернулась от кухонного стола. На овальном столе посреди столовой уже дымились две чашки кофе. Когда я успела его сварить? Сейчас он войдет, мне придется посмотреть в его глаза, нет, он их спрячет, а чего уже прятать?
Вчера, за ужином, состоялся серьезный семейный разговор. Они дождались, пока Сандра уйдет к себе и – начали. Нет, папа не кричал, он уже давно стал на многое смотреть более спокойно, чем раньше, но его короткие реплики буквально выворачивали Давида наизнанку, так, что Синтии было больно смотреть на мужа, я не буду тебе ничего говорить про честь семьи, ты и так все понимаешь, но как ты мог такое проглядеть, ты, такой опытный и ответственный человек, гордость нашего городка. Давид что-то мямлил, про загруженность, про излишнюю доверчивость, но и папа, и дочь чувствовали, что здесь что-то не так, не мог так просто Давид, бессменный мэр последних лет, проглядеть ошибки в расчетах сметы дорожных работ, нет, дорогой зятек, не ошибки, а во-ров-ство, твоего же протеже, еще скажут, что и ты в доле, вы же знаете, что этого не может быть, я-то знаю, но поверит ли тебе прокурор, когда все это выплывет наружу, при этом отец почему-то посмотрел не на Давида, а на Синтию. Та съежилась под взглядом заросших бровями светлых, холодных глаз, машинально подумалось, папа, прости, я давно не приводила твои брови в порядок, а Давид дрожащей рукой стал наполнять бокал, вино выплеснулось на скатерть, вот также опрокинешь чернильницу в прокуратуре, папа уже много лет не посещал присутственные места и просто не знал, что чернильниц там давно нет, как тебе тогда поверят?, ладно, я сам завтра им позвоню, думаю, что мы сможем уладить вопрос, но твой говнюк-помощник должен вернуть деньги, как? – не знаю. Да, – отец взял свою салфетку, вытер стол и сам наполнил свой бокал, пригубил, покачал головой, все-таки такое столовое, гренаш, кариньян и шираз, много вкуснее, – и на следующий год – никаких выборов. Ты – прекрасный инженер, по крайней мере, был таким, надеюсь и остался, найдешь себе работу в городе. Не найдешь здесь – поедешь к авиастроителям. Или к атомщикам. Домой будешь приезжать на выходные. А Синтия побудет со мной, правда, доченька?
Синтии ничего не оставалось, как кивнуть головой. Хотя Морис пока ничего не рассказывал в деталях, но по его телефонным разговорам, по этой срочной поездке в столицу на переговоры с самим Кусто, они уже давно поняли, что Морис куда-то собирается. Поэтому на брата рассчитывать в присмотре за отцом было нельзя.
После смерти жены, папа разрешил упокоить ее в их семейном склепе, Морис уволился из армии, вернулся домой и открыл здесь школу аквалангистов. Он стал очень замкнутым, полюбил пешие прогулки и каждый свободный день наведывался на кладбище. Его гнедой, подарок отца, медленно старел в конюшне, Морис изредка выводил его в поле, но – не седлал. Валет, друг его детства, заслуживший такое высокопарное прозвище за свою верность Морису, пытавшийся после войны даже заигрывать с Синтией, однажды далеко не скромно, та надолго запомнила запах дешевого табака и жар руки, шарившей по платью скромной старшеклассницы, так и не устроивший толком свою жизнь, осевший на окраине городка в маленьком туристическом ранчо, где катал отдыхающих на доживавших свой век лошадях, Валет, изредка навещавший друга, уже несколько раз предлагал брату отдать ему гнедого, но Морис все медлил, или не мог решиться, а, может, просто боялся очередной потери близкого ему существа. Два дня назад он спешно уехал в столицу, должен был вернуться на сорокалетие сестры, то есть на-завтра, и Синтии стало немного легче от мысли, что Мориса сейчас нет за столом, и ей не надо краснеть за Давида еще и перед братом.
Но это завтра еще должно было наступить, и теперь уже оно не могло наступить просто так. Будущую именинницу ждал еще один – главный – подарок. Папа ушел к себе, Давид вышел на веранду выкурить свою сигару, а Синтия принялась за посуду. После смерти мамы отец рассчитал всю прислугу, взвалив заботы об огромном доме на плечи дочери. Правда, на мытье окон и уход за садом папа, скрипя зубами, не могу теперь я видеть чужих людей, согласился приглашать посторонних, но на то время, когда мойщики окон или садовник хозяйничали в доме и в оранжереях, он запирался в своем кабинете, и сыну, взявшему на себя стрижку газона, оставалось только подбирать окурки сигар, разбросанные на поляне под окном отцовского убежища, окно которого – единственное – Синтии приходилось мыть самой. Тогда вода в тазу быстро бурела от осадков табачного дыма, плотно покрывавших полупрозрачные стекла, за которыми угадывалась, отец не любил шторы, фигура, размахивающая руками в такт неслышимых в саду симфоний. Но руки Синтии, что было удивительно, не портились от воды, она не надевала перчаток, но все равно кожа оставалось гладкой. Поэтому и сейчас она быстро вымыла посуду, как в столовую вошел муж.
– Дорогая, послушай, – Давид присел на край стола, – я – не все тебе рассказал.
Синтия ощутила поток холодного воздуха, скользнувшего по полу столовой из-под оставшейся полуоткрытой двери на веранду. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то ужасное, она отвернулась от мужа к кухонному столу и начала переставлять коробочки со специями – ну, давай, говори.
– Вы с отцом чувствуете, я же это вижу, что смета – это не вся правда. И это – не моя невнимательность. Это – моя вина.
А сейчас разговор пойдет совсем не о деньгах, – догадалась Синтия.
– Я ему позволил сделать – это, – Давид явно не хотел произносить слово «воровство». – Потому, что…
Синтия вдруг поняла, что сейчас услышит. Последние годы муж, на праздники, ее именины или просто по случаю, ездил за цветами для нее в город. Он говорил, что здешняя цветочница недостаточно мастеровита в оформлении букетов. Синтии удивлялась, хотя, по правде, ей было приятно такое, немного расточительное, внимание. Теперь все стало сразу понятным. Он просто не хотел покупать цветы – мне – у нее. Хозяйка местного цветочного салона действительно была, при всей своей привлекательности, мужчины – заглядывались, не очень приятной особой. Каждый раз она встречала Синтию каким-то неуловимым насмешливым взглядом. Поэтому визиты к маме всегда были немного испытанием. А замужем хозяйка цветочного салона была как раз за помощником мужа, составившего ту самую скандальную смету. Поэтому, когда Синтия повернулась к мужу, он уже все прочитал на ее лице и – замолчал. Ничего дорогой, я тебе – помогу:
– Ты трахал его жену? И этот говнюк знал о вашей связи?
Синтия вдруг почувствовала невероятное облегчение. Она – узнала правду. В последние годы их совместной жизни сомнения возникали, но Синтия их привычно гнала. Привычно – потому, что молодость Давида и первые годы их совместной жизни особых иллюзий не вызывали. Давид учился в Высшей инженерной школе в столице, и приезжал в городок крайне редко. Здесь у него оставалась только бабушка Александра. Его родители, как и многие евреи из округи, были интернированы во время войны. Но бабушке, дочери чешского инженера и поклонника Яна Гуса, занесенного в эти края промышленной революцией, урожденной чешке, вышедшей здесь замуж за ювелира-еврея, удалось доказать свой «фольксдойче» и спасти внука. Давид вырос благодарным, и каждый год, в начале апреля, приезжал на ее день рождения. Они так и познакомились, почти случайно. Синтия тогда писала курсовую работу об истоках Реформации, и ей оказалось чрезвычайно полезным пообщаться с настоящей чешкой, никогда не бывавшей на родине, но сохранившей дневники своего отца. Согласившись с непреклонным требованием мужа-ювелира назвать внука в честь победителя Голиафа, бабушка Александра, растившая, как многие бабушки той эпохи, внуков, исподволь кормила малыша кнедликами и рассказами об истинном боге. Такое противоречивое воспитание не могло не дать свои плоды. Давид, он учился в старшем классе, вырос очень независимым и вызывающим молодым человеком. К этому добавилось и смешение крови, черные кудри, охватывающие слегка навыкате глаза, привлекали внимание многих школьниц, которые стеснительно, тот мальчик рос гораздо быстрее девочек, его усики пробивались уже тогда, когда Синтия еще примеривала первый бюстгальтер, обходили его стороной, а на вечеринках шептались, как булочник застал Давида со своей женой, правда то была или нет, но юноша с гордостью принес один раз в школьный двор здоровенный фиолетовый синяк под левым глазом. Поэтому сразу после школы бабушка Александра достала из сундука свои сбережения, потеребила почтой родственников мужа, восстановивших в столице после войны семейное ювелирное дело, и отправила внука на учебу. Его редкие приезды в городок стали событием, Давид всегда одевался, как всем казалось, по последней столичной моде, и обрастали слухами о его бурной студенческой жизни, поэтому, когда, в очередной раз, принеся старушке молоко, дневники уже давно были прочитаны, но связь с этой немногословной женщиной терять не хотелось, Синтия увидела в проеме открывшейся на стук двери живую местечковую легенду, ее сердце сразу сказало ей – да. Но и Давид был – повержен. Вечером того же дня он зашел к ним, вежливо постучался в кабинет отца и попросил разрешения пригласить его дочь в воскресение на бабушкин день рождения, она испечет такой замечательный весенний пирог, не будете ли вы против, бабушка очень ценит внимание вашей дочери. Он сделал предложение сразу, в вечер после дня рождения, но, поскольку все началось с разговора с отцом, то и закончилось невероятно долгим и глубоким, но всего лишь – поцелуем. Свадьбу сыграли ровно через год, на следующий день рождения бабушки Александры. Но за этот год Синтия успела не только потерять девственность, но и – забеременеть. Давид подрабатывал в столичной типографии, где коммунисты, получавшие помощь из Москвы, не стеснялись оплачивать ночной труд вдвое, чтобы новости об очередной победе коммунизма первыми попадали на газетные прилавки, поэтому раз в месяц он мог позволить себе приехать в город, куда Синтия уже спешила из их городка на электричке. Признаки беременности обнаружились уже после того, когда она рассказала отцу и матери о предстоящей свадьбе, поэтому объяснения дались легко. Несмотря на родовой герб, украшавший ворота их дома, отец не был ханжой и не кичился своими корнями, иначе как бы он отпустил бы дочь тем апрельским вечером с полукровкой? Больше ворчала мама, и это ворчание только усилилось после рождения Алекса – Александра, названного так по молчаливому согласию молодыми родителями в честь покровительницы их брака. Закончив учебу, Давид вернулся, но не совсем домой, ему предложили работу на строительстве атомной станции, отец поэтому сегодня об этом и вспомнил. Муж приезжал в городок только на выходные, и как-то раз, в середине недели, Синтия услышала ночную перебранку родителей, милый мой, ты что, слепой, ты не видишь, что он – бабник, дорогая, как можно стать бабником на атомной станции, там же излучение, дай бог, чтобы у него на дочку-то силенок хватило, а я тебе говорю, я же вижу, что ты видишь, да и вообще, пусть там отвлекается от этих атомов, вот если он позволит себе гадить здесь, у нас, вот тогда я его, что – его? – как что? – пристрелю. Синтия с Давидом никогда особенно не предохранялись, поэтому и Алекс, и потом – Сандра, такая же Александра, появились немного случайно. Но после того, подслушанного разговора, Синтия съездила в город, не у себя же в городке это покупать, и в очередные выходные Давиду пришлось напяливать на себя резинку. Тогда Синтию больше беспокоила возможность какой-нибудь неприличной инфекции, но резинка была подана на блюдечке планирования семьи. Понял ли ее сомнения Давид или нет, но с той поры ночная жизнь молодой семьи стала гораздо более насыщенной, так, что даже в летнюю жару приходилось закрывать окна. Вот этот-то пыл мужа и угас в последние годы. Синтия по привычке объясняла это загруженностью и нервами, теперь на посту мэра. Тем более, что делиться уже было не с кем. Мама – умерла, переехавший к ним Морис продолжал жить в своем прошлом, а отец, даже если о чем-то и догадывался, никогда не поднимал эту тему. А то пришлось бы действительно пристрелить зятя. Поэтому сейчас, глядя на поникшую голову мужа, вот тебе и твоя лысина, и ранняя седина, и бес в ребро, она облегченно произнесла:
– Хорошо, что ты об этом не рассказал за столом, – и, указывая, откуда в такой ситуации берутся силы для шуток, правда, совсем черных шуток, на старинное ружье, висевшее в столовой на стене, – а то папа пристрелил бы тебя. Ничего, приедет Морис, я ему все расскажу, и он – тебя – утопит. Как котенка. Оденет тебе незаряженный акваланг и – утопит.
Давид умоляюще взглянул на жену. Но ту уже невозможно было остановить:
– Конечно, роковая брюнетка, бедра-то – веером, да и номер, наверняка, четвертый. А? Ну, сучка, завтра я дам жизни твоим гладиолусам.
Последняя фраза сопроводила движение в пол-оборота к кухонному столу, над котором в гармоничном ряду, в подставке на стене, висели ножи. Синтия вытащила один, самый большой, мясной, покачала его на руке и с размаху вонзила в разделочную доску. Давид вздрогнул.
– Да, – Синтия вдруг впервые за многие годы ощутила себя хозяйкой положения, – а куда тебя положить? К Алексу? Нет. Да и к Морису тоже нельзя. Завтра они приедут, а ты еще занесешь к ним в кровать какую-нибудь гадость. Твоя молодка-то, небось, не только с тобой… Да и староват ты для нее. То-то она регулярно к поставщикам отъезжает. Вот, ты пойдешь на конюшню. Самое тебе место. И не думай мне завтра приносить цветы.
Давид покорно встал со стола и, опустив плечи, побрел к выходу. И Синтии вдруг стало его жалко, она вспомнила, с чего все началось:
– А этот, говнюк, что – шантажировал тебя?
Давид повернулся, на его глазах выступили слезы. Нет, я не могу делать ему больно. Слезы выступили и у нее, она отвернулась и махнула рукой – прошу тебя, уходи.
Вот и весь разговор. Ни о том – когда началось, где и как часто, все это для Синтии уже не было важно. Главное, что он нашел в себе силы сказать правду.
Поэтому сейчас, автоматически прожевывая бутерброд и запивая его кофе, может, этот засранец специально подсунул ему свою жену, чтобы своровать, а мой-то и уши развесил, нет, не уши, а яйца, как тот барсук, она вспомнила детские хулиганские куплеты, сейчас – она – ждала мужа. Вторая чашка еще продолжала испускать горячий аромат, когда она услышала шум подъезжающей машины. Он, что, все-таки поехал за цветами? Она приоткрыла занавеску, точно, за воротами мелькнул огромный букет, но машина, это была не машина Давида. Какой-то обшарпанный грузовик. Букет продолжал висеть в воздухе, когда грузовик, выпустив струю черного дыма, аллё, у нас, в городке, свыше трех с половиной тонн – запрещено, отъехал восвояси. Кто это может быть? Синтия, на ходу допивая кофе, быстро направилась к выходу и почти столкнулась с Давидом. Его пиджак был обсыпан сеном, дорогая, там,.. но Синтия, прожевав наспех – доброе утро – уже не слушала, а спешила на веранду. Такого просто не могло быть… За воротами, еще закрытыми в такой ранний час, одетая в солдатскую куртку, стояла, нет, не может быть, но стояла – Памела.
Синтия было сделала шаг по ступенькам вниз, но – беспомощно развернулась к мужу. А Давид, … Давид молча протягивал ей ключи от ворот.
От волнения Синтия не могла попасть в замочную скважину, поковырялась и бросила ключи на землю. Подруги стали обниматься и целоваться сквозь прутья чугунной решетки, бейсболка Памелы слетела на землю, за ней последовал и букет полевых цветов, Синтия тянула Памелу за руки, и куртка цвета надежного хаки, откуда силы после бессонной ночи, треснула в плечах. Сзади послышалось сопение, ворота наконец-то стали открываться, подруги разомкнули объятия, чтобы вновь броситься в них. Они топтались на походном солдатском мешке, на бейсболке, на букете, раздвигали ладонями пряди, и вновь – целовались, как вдруг, одновременно, обе заревели в голос. Потоки слез смывали дорожную пыль и утреннюю пудру, смешивали запах бензина с ароматом жасмина, стекали неровными порывистыми краями на рукава легкого халата и на потертые обшлага солдатской куртки. Соседский петух, взяв привычную утреннюю ноту, враз оборвал ее – как можно перекричать такое? Давид, машинально отряхивая сено с пиджака, растерянно смотрел на женщин. С днем рождения, дорогая.
Глава вторая
Пока Памела принимала душ, Синтия быстро набросала на стол завтрак для нее, папы и Давида. Сандра, по случаю дня рождения, осталась сегодня дома – помогать маме. Но эта помощь начнется не раньше обеда, поэтому она еще спала. Пользуясь утренним затишьем на детской половине второго этажа, Давид пошел приводить себя в порядок в их ванную комнату. Послышался и шум папиного туалета. Значит, пока можно успокоиться. Папа сейчас махнет своей анисовой, выкурит утреннюю сигару, почистит зубы, и только потом спустится к завтраку.
Синтия присела на стул. Они с Памелой не виделись почти двадцать лет. После смерти дяди, уступив за бесценок его участок отцу подруги, Памела перебралась на ранчо к Валету. Было ли что-то там, между ними, Синтия не выясняла, поскольку тогда хлопотала над родившейся слабенькой Сандрой. А Морис, Морис был далеко. В Италии. Искал останки военных самолетов. Точнее, одного самолета, покинувшего эфир тридцать первого июля сорок четвертого года. Так что отношениям Валета и Памелы, если таковые и были, ничто не могло помешать. Памела придумала для ранчо весь дизайн, и Валет послушно возводил из подсобных материалов макетные фасады банка, салуна и вигвамов. Но однажды, Синтия очень хорошо помнила тот день, у папы случился инфаркт, она с плачущей Сандрой на руках, мама уже тогда была тяжела на подъем, сидела на полу, рядом с диваном, в кабинете отца и, не понимая, что происходит, даже досадуя, надо же тебе тут скрючиться на этом треклятом диване, когда доченьке моей так плохо, вытирала с побелевшего лба холодный пот, тогда отец, немного порозовев, попросил стаканчик виски, и она, в истерике, положив Сандру на письменный стол, девочка сразу забила ножками, на пол слетела бронзовая чернильница, бросилась к буфету, тебе мало, да?, на, вот еще, бутылки летели на пол, туда же грохнулся родовой герб Данбаров, папина родословная тянулась вплоть до пятнадцатого века, когда один из равнинных шотландцев бежал от короля на континент, отец немощно глядел на дочь, это потом, когда его привезли в клинику, и врачи сделали кардиограмму, которая и показала обширнейший инфаркт, она уже билась о колени матери, а тогда, увидев, как белая кисть выскальзывает из-под рукава клетчатого халата и пытается пальцами добраться стоящей на краю журнального столика коробки с сигарами, она подняла сверток с дочерью со стола и пнула ногой уже почти пустую чернильницу, брызги долетели до опять побелевшего лба, но остальное она уже не видела, потому что выскочила в сад, и тут – наткнулась на Валета. Тот стоял, переминаясь и переминая – конверт.
– Это – тебе. Она попросила.
– Валет, прости, сейчас – не до тебя.
– Это она.
– Что она? Что – она? У меня мать в лежке, отец перепил, весь белый, дочка заходится. Мне сейчас – не до ваших фантазий.
– Белый? Это – плохо. Давай-ка позвоним врачу.
Качая Сандру, та, да и она сама, немного успокоились, в пол-уха слушая разговор Валета с врачом, Синтия распечатала конверт. Письмо было коротким – прости, ранчо здесь – не ранчо. Я уезжаю в настоящую Америку. Попутного ветра, Синяя Птица. Синтия раздраженно бросила конверт в помойное ведро, Валет достал сигарету, размял, я выйду на улицу, они сейчас приедут.
Уже во время первого, на месте, осмотра, они поняли, что все – серьезно. Позвони Морису. Валет пошарил взглядом по полкам, Синтия опять положила дочку, на этот раз на кухонный стол, устав, девочка заснула, а ее мама, одной рукой доставала бутылку и стакан для Валета, а другой – накручивала номер брата. Давид много заранее повесил второй аппарат рядом с кухонным столом. Корсиканский оператор, когда они научатся говорить правильно, несколько раз переспросил имя абонента, как вдруг – прилечу завтра. Валет услышал это и – побрел прочь.
Потом, из Америки, Синтии стали приходить нечастые, но регулярные весточки, иногда даже с фотографиями. Синтия писала подруге чаще, чувства – не притупились. Видимо, Памела нашла свою страну, именно страну, по которой она колесила на подержанном грузовике, обустроенным под мобильный домик. О своей личной жизни она не писала ни-че-го. Синтия догадывалась, что подруга не выходила замуж, но кто-то должен был время от времени ремонтировать грузовик? К чести Памелы, она заранее сообщала о своих переездах, поэтому Синтии не составляло труда писать «до востребования» в то место назначения, куда в очередной раз переезжала Памела. Зарабатывала она фотографиями, пейзажи входили в моду, и несколько раз ее снимки опубликовал даже Нэшнл Джиогрэфик. Давид тогда собирался в город и покупал журнал, который, после просмотра, ложился на полку секретера его жены, где она хранила письма своей подруги. Но несколько лет назад что-то случилось. Письма почти перестали приходить, почерк стал прерывистым и каким-то неровным. В газетах писали о хиппи, наркотиках, сексе, и Синтия с Давидом поняли, что с Памелой случилась беда. Помощь пришла неожиданно. Мориса направили на подводные учения в Северную Атлантику, после которых он выпросил отпуск и поехал на последний адрес Памелы. Вернувшись в Европу, он коротко отписал сестре, что виделся с ее подругой, что все не так гладко, но свет в конце туннеля – виден. И – все. Он обещал рассказать все подробно при встрече, но как раз тогда заболела его жена, Морису пришлось отменить свой визит домой, потом стало еще хуже, тема Памелы отошла на задний план, а, когда жена умерла, Морис приехал уже с палисандровым коффром, поэтому о подруге расспрашивать было совершенно некстати. Лишь однажды пришло некоторое подобие известия, Валет принес газету на английском языке, оставленную на ранчо кем-то из туристов, где рассказывалось о грандиозном музыкальном фестивале в Америке. Под статьей была опубликована фотография, на которой, среди множества длинноволосых физиономий угадывалось и лицо Памелы.
Но потом все изменилось. Памела вновь стала писать регулярно, правда пункты назначения были уже другие – Новый Орлеан, Роттердам, Марсель, Неаполь. Памела устроилась поваром-посудомойкой на сухогруз, возивший из Америки в Европу престижные «корветы» и «мустанги», а из Европы в Америку – не менее престижные «феррари» и «ламборджини». А однажды пришла фотография, где рядом с Памелой, на палубе, стоял широкоплечий, высокий, бородатый викинг. И Синтия поняла, что Мориса теперь расспрашивать, собственно, и не о чем. Но теперь придется расспросить саму Памелу. Письмо Синтии «до востребования» должно было ждать подругу в Марселе. В нем Синтия как раз напоминала о предстоящем юбилее и даже сделала намек, правда, безо всякой надежды, просто как выражение любви, что как было бы здорово, если подруга приедет ее поздравить вместе со своим викингом. Она – и приехала, но почему она приехала – одна?
Вытирая волосы, Памела, в белоснежном халате, вошла в столовую:
– Ну, подруга, рассказывай.
– Что рассказывать? Я тебе про все писала. Давай, лучше ты.
– Нет, не про все. Я хочу знать больше – про Алекса, про Сандру, папу, Мориса, Давида. Алекс – как его учеба?
– Какая учеба? Весь – в отца. Не проходит и пары месяцев, как он с новой девушкой.
– Но это же нормально.
Сергей Оксанин
История о пересечении человеческих судеб в маленьком городке. Две подружки детства, прожившие совершенно разные жизни, но сохранившие привязанность друг к другу до старости, знакомятся с главным героем, архитектором информационных систем, ожидающим в кафе своего друга пастора. Старушки вспоминают самые яркие события их жизней, первый фестиваль джаза в Ницце, Вудсток, чемпионат мира по футболу в Мексике, венскую рождественскую Волшебную флейту, но им невдомек, что их собеседники невольно и уже давно проникли в закоулки их прошлого. Не знает этого и главный герой, который за воскресными беседами прячет свою душевную неустроенность. Интуитивно он находит успокоительное лекарство. Так в его жизни появляется День Добрых Дел. Но действие этого лекарства оказывается непредсказуемым.
Сергей Оксанин
День Добрых Дел: история и ее предыстории
Памела и Синтия
Как и условились, в назначенный час старушки пришли в церковь. Они просили пастора помянуть Мориса по-скромному, пусть и в церкви, но по-домашнему, без хора. Да и приглашать особо уже было некого. Валета схоронили много лет назад. Дети Синтии жили далеко, а их память о дяде ограничивалась, по сути, одним давним днем. Старушки помнили гораздо больше, но, присев рука в руку на скамью, пастор начал читать на латыни, они закрыли глаза, и, не сговариваясь, вернулись к тому же самому дню.
Глава первая
Вот такой подарок на сорокалетие. Точнее, два подарка – один и еще один. Синтия вытерла запястьем набежавшую слезу. Бутерброд наслаивался машинально – сначала развалился на куски хлеб, потом масло размазалось как-то само собой, и на тарелку, с широкого лезвия ножа, соскочил ломоть ветчины. Синтия взяла тарелку и отвернулась от кухонного стола. На овальном столе посреди столовой уже дымились две чашки кофе. Когда я успела его сварить? Сейчас он войдет, мне придется посмотреть в его глаза, нет, он их спрячет, а чего уже прятать?
Вчера, за ужином, состоялся серьезный семейный разговор. Они дождались, пока Сандра уйдет к себе и – начали. Нет, папа не кричал, он уже давно стал на многое смотреть более спокойно, чем раньше, но его короткие реплики буквально выворачивали Давида наизнанку, так, что Синтии было больно смотреть на мужа, я не буду тебе ничего говорить про честь семьи, ты и так все понимаешь, но как ты мог такое проглядеть, ты, такой опытный и ответственный человек, гордость нашего городка. Давид что-то мямлил, про загруженность, про излишнюю доверчивость, но и папа, и дочь чувствовали, что здесь что-то не так, не мог так просто Давид, бессменный мэр последних лет, проглядеть ошибки в расчетах сметы дорожных работ, нет, дорогой зятек, не ошибки, а во-ров-ство, твоего же протеже, еще скажут, что и ты в доле, вы же знаете, что этого не может быть, я-то знаю, но поверит ли тебе прокурор, когда все это выплывет наружу, при этом отец почему-то посмотрел не на Давида, а на Синтию. Та съежилась под взглядом заросших бровями светлых, холодных глаз, машинально подумалось, папа, прости, я давно не приводила твои брови в порядок, а Давид дрожащей рукой стал наполнять бокал, вино выплеснулось на скатерть, вот также опрокинешь чернильницу в прокуратуре, папа уже много лет не посещал присутственные места и просто не знал, что чернильниц там давно нет, как тебе тогда поверят?, ладно, я сам завтра им позвоню, думаю, что мы сможем уладить вопрос, но твой говнюк-помощник должен вернуть деньги, как? – не знаю. Да, – отец взял свою салфетку, вытер стол и сам наполнил свой бокал, пригубил, покачал головой, все-таки такое столовое, гренаш, кариньян и шираз, много вкуснее, – и на следующий год – никаких выборов. Ты – прекрасный инженер, по крайней мере, был таким, надеюсь и остался, найдешь себе работу в городе. Не найдешь здесь – поедешь к авиастроителям. Или к атомщикам. Домой будешь приезжать на выходные. А Синтия побудет со мной, правда, доченька?
Синтии ничего не оставалось, как кивнуть головой. Хотя Морис пока ничего не рассказывал в деталях, но по его телефонным разговорам, по этой срочной поездке в столицу на переговоры с самим Кусто, они уже давно поняли, что Морис куда-то собирается. Поэтому на брата рассчитывать в присмотре за отцом было нельзя.
После смерти жены, папа разрешил упокоить ее в их семейном склепе, Морис уволился из армии, вернулся домой и открыл здесь школу аквалангистов. Он стал очень замкнутым, полюбил пешие прогулки и каждый свободный день наведывался на кладбище. Его гнедой, подарок отца, медленно старел в конюшне, Морис изредка выводил его в поле, но – не седлал. Валет, друг его детства, заслуживший такое высокопарное прозвище за свою верность Морису, пытавшийся после войны даже заигрывать с Синтией, однажды далеко не скромно, та надолго запомнила запах дешевого табака и жар руки, шарившей по платью скромной старшеклассницы, так и не устроивший толком свою жизнь, осевший на окраине городка в маленьком туристическом ранчо, где катал отдыхающих на доживавших свой век лошадях, Валет, изредка навещавший друга, уже несколько раз предлагал брату отдать ему гнедого, но Морис все медлил, или не мог решиться, а, может, просто боялся очередной потери близкого ему существа. Два дня назад он спешно уехал в столицу, должен был вернуться на сорокалетие сестры, то есть на-завтра, и Синтии стало немного легче от мысли, что Мориса сейчас нет за столом, и ей не надо краснеть за Давида еще и перед братом.
Но это завтра еще должно было наступить, и теперь уже оно не могло наступить просто так. Будущую именинницу ждал еще один – главный – подарок. Папа ушел к себе, Давид вышел на веранду выкурить свою сигару, а Синтия принялась за посуду. После смерти мамы отец рассчитал всю прислугу, взвалив заботы об огромном доме на плечи дочери. Правда, на мытье окон и уход за садом папа, скрипя зубами, не могу теперь я видеть чужих людей, согласился приглашать посторонних, но на то время, когда мойщики окон или садовник хозяйничали в доме и в оранжереях, он запирался в своем кабинете, и сыну, взявшему на себя стрижку газона, оставалось только подбирать окурки сигар, разбросанные на поляне под окном отцовского убежища, окно которого – единственное – Синтии приходилось мыть самой. Тогда вода в тазу быстро бурела от осадков табачного дыма, плотно покрывавших полупрозрачные стекла, за которыми угадывалась, отец не любил шторы, фигура, размахивающая руками в такт неслышимых в саду симфоний. Но руки Синтии, что было удивительно, не портились от воды, она не надевала перчаток, но все равно кожа оставалось гладкой. Поэтому и сейчас она быстро вымыла посуду, как в столовую вошел муж.
– Дорогая, послушай, – Давид присел на край стола, – я – не все тебе рассказал.
Синтия ощутила поток холодного воздуха, скользнувшего по полу столовой из-под оставшейся полуоткрытой двери на веранду. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то ужасное, она отвернулась от мужа к кухонному столу и начала переставлять коробочки со специями – ну, давай, говори.
– Вы с отцом чувствуете, я же это вижу, что смета – это не вся правда. И это – не моя невнимательность. Это – моя вина.
А сейчас разговор пойдет совсем не о деньгах, – догадалась Синтия.
– Я ему позволил сделать – это, – Давид явно не хотел произносить слово «воровство». – Потому, что…
Синтия вдруг поняла, что сейчас услышит. Последние годы муж, на праздники, ее именины или просто по случаю, ездил за цветами для нее в город. Он говорил, что здешняя цветочница недостаточно мастеровита в оформлении букетов. Синтии удивлялась, хотя, по правде, ей было приятно такое, немного расточительное, внимание. Теперь все стало сразу понятным. Он просто не хотел покупать цветы – мне – у нее. Хозяйка местного цветочного салона действительно была, при всей своей привлекательности, мужчины – заглядывались, не очень приятной особой. Каждый раз она встречала Синтию каким-то неуловимым насмешливым взглядом. Поэтому визиты к маме всегда были немного испытанием. А замужем хозяйка цветочного салона была как раз за помощником мужа, составившего ту самую скандальную смету. Поэтому, когда Синтия повернулась к мужу, он уже все прочитал на ее лице и – замолчал. Ничего дорогой, я тебе – помогу:
– Ты трахал его жену? И этот говнюк знал о вашей связи?
Синтия вдруг почувствовала невероятное облегчение. Она – узнала правду. В последние годы их совместной жизни сомнения возникали, но Синтия их привычно гнала. Привычно – потому, что молодость Давида и первые годы их совместной жизни особых иллюзий не вызывали. Давид учился в Высшей инженерной школе в столице, и приезжал в городок крайне редко. Здесь у него оставалась только бабушка Александра. Его родители, как и многие евреи из округи, были интернированы во время войны. Но бабушке, дочери чешского инженера и поклонника Яна Гуса, занесенного в эти края промышленной революцией, урожденной чешке, вышедшей здесь замуж за ювелира-еврея, удалось доказать свой «фольксдойче» и спасти внука. Давид вырос благодарным, и каждый год, в начале апреля, приезжал на ее день рождения. Они так и познакомились, почти случайно. Синтия тогда писала курсовую работу об истоках Реформации, и ей оказалось чрезвычайно полезным пообщаться с настоящей чешкой, никогда не бывавшей на родине, но сохранившей дневники своего отца. Согласившись с непреклонным требованием мужа-ювелира назвать внука в честь победителя Голиафа, бабушка Александра, растившая, как многие бабушки той эпохи, внуков, исподволь кормила малыша кнедликами и рассказами об истинном боге. Такое противоречивое воспитание не могло не дать свои плоды. Давид, он учился в старшем классе, вырос очень независимым и вызывающим молодым человеком. К этому добавилось и смешение крови, черные кудри, охватывающие слегка навыкате глаза, привлекали внимание многих школьниц, которые стеснительно, тот мальчик рос гораздо быстрее девочек, его усики пробивались уже тогда, когда Синтия еще примеривала первый бюстгальтер, обходили его стороной, а на вечеринках шептались, как булочник застал Давида со своей женой, правда то была или нет, но юноша с гордостью принес один раз в школьный двор здоровенный фиолетовый синяк под левым глазом. Поэтому сразу после школы бабушка Александра достала из сундука свои сбережения, потеребила почтой родственников мужа, восстановивших в столице после войны семейное ювелирное дело, и отправила внука на учебу. Его редкие приезды в городок стали событием, Давид всегда одевался, как всем казалось, по последней столичной моде, и обрастали слухами о его бурной студенческой жизни, поэтому, когда, в очередной раз, принеся старушке молоко, дневники уже давно были прочитаны, но связь с этой немногословной женщиной терять не хотелось, Синтия увидела в проеме открывшейся на стук двери живую местечковую легенду, ее сердце сразу сказало ей – да. Но и Давид был – повержен. Вечером того же дня он зашел к ним, вежливо постучался в кабинет отца и попросил разрешения пригласить его дочь в воскресение на бабушкин день рождения, она испечет такой замечательный весенний пирог, не будете ли вы против, бабушка очень ценит внимание вашей дочери. Он сделал предложение сразу, в вечер после дня рождения, но, поскольку все началось с разговора с отцом, то и закончилось невероятно долгим и глубоким, но всего лишь – поцелуем. Свадьбу сыграли ровно через год, на следующий день рождения бабушки Александры. Но за этот год Синтия успела не только потерять девственность, но и – забеременеть. Давид подрабатывал в столичной типографии, где коммунисты, получавшие помощь из Москвы, не стеснялись оплачивать ночной труд вдвое, чтобы новости об очередной победе коммунизма первыми попадали на газетные прилавки, поэтому раз в месяц он мог позволить себе приехать в город, куда Синтия уже спешила из их городка на электричке. Признаки беременности обнаружились уже после того, когда она рассказала отцу и матери о предстоящей свадьбе, поэтому объяснения дались легко. Несмотря на родовой герб, украшавший ворота их дома, отец не был ханжой и не кичился своими корнями, иначе как бы он отпустил бы дочь тем апрельским вечером с полукровкой? Больше ворчала мама, и это ворчание только усилилось после рождения Алекса – Александра, названного так по молчаливому согласию молодыми родителями в честь покровительницы их брака. Закончив учебу, Давид вернулся, но не совсем домой, ему предложили работу на строительстве атомной станции, отец поэтому сегодня об этом и вспомнил. Муж приезжал в городок только на выходные, и как-то раз, в середине недели, Синтия услышала ночную перебранку родителей, милый мой, ты что, слепой, ты не видишь, что он – бабник, дорогая, как можно стать бабником на атомной станции, там же излучение, дай бог, чтобы у него на дочку-то силенок хватило, а я тебе говорю, я же вижу, что ты видишь, да и вообще, пусть там отвлекается от этих атомов, вот если он позволит себе гадить здесь, у нас, вот тогда я его, что – его? – как что? – пристрелю. Синтия с Давидом никогда особенно не предохранялись, поэтому и Алекс, и потом – Сандра, такая же Александра, появились немного случайно. Но после того, подслушанного разговора, Синтия съездила в город, не у себя же в городке это покупать, и в очередные выходные Давиду пришлось напяливать на себя резинку. Тогда Синтию больше беспокоила возможность какой-нибудь неприличной инфекции, но резинка была подана на блюдечке планирования семьи. Понял ли ее сомнения Давид или нет, но с той поры ночная жизнь молодой семьи стала гораздо более насыщенной, так, что даже в летнюю жару приходилось закрывать окна. Вот этот-то пыл мужа и угас в последние годы. Синтия по привычке объясняла это загруженностью и нервами, теперь на посту мэра. Тем более, что делиться уже было не с кем. Мама – умерла, переехавший к ним Морис продолжал жить в своем прошлом, а отец, даже если о чем-то и догадывался, никогда не поднимал эту тему. А то пришлось бы действительно пристрелить зятя. Поэтому сейчас, глядя на поникшую голову мужа, вот тебе и твоя лысина, и ранняя седина, и бес в ребро, она облегченно произнесла:
– Хорошо, что ты об этом не рассказал за столом, – и, указывая, откуда в такой ситуации берутся силы для шуток, правда, совсем черных шуток, на старинное ружье, висевшее в столовой на стене, – а то папа пристрелил бы тебя. Ничего, приедет Морис, я ему все расскажу, и он – тебя – утопит. Как котенка. Оденет тебе незаряженный акваланг и – утопит.
Давид умоляюще взглянул на жену. Но ту уже невозможно было остановить:
– Конечно, роковая брюнетка, бедра-то – веером, да и номер, наверняка, четвертый. А? Ну, сучка, завтра я дам жизни твоим гладиолусам.
Последняя фраза сопроводила движение в пол-оборота к кухонному столу, над котором в гармоничном ряду, в подставке на стене, висели ножи. Синтия вытащила один, самый большой, мясной, покачала его на руке и с размаху вонзила в разделочную доску. Давид вздрогнул.
– Да, – Синтия вдруг впервые за многие годы ощутила себя хозяйкой положения, – а куда тебя положить? К Алексу? Нет. Да и к Морису тоже нельзя. Завтра они приедут, а ты еще занесешь к ним в кровать какую-нибудь гадость. Твоя молодка-то, небось, не только с тобой… Да и староват ты для нее. То-то она регулярно к поставщикам отъезжает. Вот, ты пойдешь на конюшню. Самое тебе место. И не думай мне завтра приносить цветы.
Давид покорно встал со стола и, опустив плечи, побрел к выходу. И Синтии вдруг стало его жалко, она вспомнила, с чего все началось:
– А этот, говнюк, что – шантажировал тебя?
Давид повернулся, на его глазах выступили слезы. Нет, я не могу делать ему больно. Слезы выступили и у нее, она отвернулась и махнула рукой – прошу тебя, уходи.
Вот и весь разговор. Ни о том – когда началось, где и как часто, все это для Синтии уже не было важно. Главное, что он нашел в себе силы сказать правду.
Поэтому сейчас, автоматически прожевывая бутерброд и запивая его кофе, может, этот засранец специально подсунул ему свою жену, чтобы своровать, а мой-то и уши развесил, нет, не уши, а яйца, как тот барсук, она вспомнила детские хулиганские куплеты, сейчас – она – ждала мужа. Вторая чашка еще продолжала испускать горячий аромат, когда она услышала шум подъезжающей машины. Он, что, все-таки поехал за цветами? Она приоткрыла занавеску, точно, за воротами мелькнул огромный букет, но машина, это была не машина Давида. Какой-то обшарпанный грузовик. Букет продолжал висеть в воздухе, когда грузовик, выпустив струю черного дыма, аллё, у нас, в городке, свыше трех с половиной тонн – запрещено, отъехал восвояси. Кто это может быть? Синтия, на ходу допивая кофе, быстро направилась к выходу и почти столкнулась с Давидом. Его пиджак был обсыпан сеном, дорогая, там,.. но Синтия, прожевав наспех – доброе утро – уже не слушала, а спешила на веранду. Такого просто не могло быть… За воротами, еще закрытыми в такой ранний час, одетая в солдатскую куртку, стояла, нет, не может быть, но стояла – Памела.
Синтия было сделала шаг по ступенькам вниз, но – беспомощно развернулась к мужу. А Давид, … Давид молча протягивал ей ключи от ворот.
От волнения Синтия не могла попасть в замочную скважину, поковырялась и бросила ключи на землю. Подруги стали обниматься и целоваться сквозь прутья чугунной решетки, бейсболка Памелы слетела на землю, за ней последовал и букет полевых цветов, Синтия тянула Памелу за руки, и куртка цвета надежного хаки, откуда силы после бессонной ночи, треснула в плечах. Сзади послышалось сопение, ворота наконец-то стали открываться, подруги разомкнули объятия, чтобы вновь броситься в них. Они топтались на походном солдатском мешке, на бейсболке, на букете, раздвигали ладонями пряди, и вновь – целовались, как вдруг, одновременно, обе заревели в голос. Потоки слез смывали дорожную пыль и утреннюю пудру, смешивали запах бензина с ароматом жасмина, стекали неровными порывистыми краями на рукава легкого халата и на потертые обшлага солдатской куртки. Соседский петух, взяв привычную утреннюю ноту, враз оборвал ее – как можно перекричать такое? Давид, машинально отряхивая сено с пиджака, растерянно смотрел на женщин. С днем рождения, дорогая.
Глава вторая
Пока Памела принимала душ, Синтия быстро набросала на стол завтрак для нее, папы и Давида. Сандра, по случаю дня рождения, осталась сегодня дома – помогать маме. Но эта помощь начнется не раньше обеда, поэтому она еще спала. Пользуясь утренним затишьем на детской половине второго этажа, Давид пошел приводить себя в порядок в их ванную комнату. Послышался и шум папиного туалета. Значит, пока можно успокоиться. Папа сейчас махнет своей анисовой, выкурит утреннюю сигару, почистит зубы, и только потом спустится к завтраку.
Синтия присела на стул. Они с Памелой не виделись почти двадцать лет. После смерти дяди, уступив за бесценок его участок отцу подруги, Памела перебралась на ранчо к Валету. Было ли что-то там, между ними, Синтия не выясняла, поскольку тогда хлопотала над родившейся слабенькой Сандрой. А Морис, Морис был далеко. В Италии. Искал останки военных самолетов. Точнее, одного самолета, покинувшего эфир тридцать первого июля сорок четвертого года. Так что отношениям Валета и Памелы, если таковые и были, ничто не могло помешать. Памела придумала для ранчо весь дизайн, и Валет послушно возводил из подсобных материалов макетные фасады банка, салуна и вигвамов. Но однажды, Синтия очень хорошо помнила тот день, у папы случился инфаркт, она с плачущей Сандрой на руках, мама уже тогда была тяжела на подъем, сидела на полу, рядом с диваном, в кабинете отца и, не понимая, что происходит, даже досадуя, надо же тебе тут скрючиться на этом треклятом диване, когда доченьке моей так плохо, вытирала с побелевшего лба холодный пот, тогда отец, немного порозовев, попросил стаканчик виски, и она, в истерике, положив Сандру на письменный стол, девочка сразу забила ножками, на пол слетела бронзовая чернильница, бросилась к буфету, тебе мало, да?, на, вот еще, бутылки летели на пол, туда же грохнулся родовой герб Данбаров, папина родословная тянулась вплоть до пятнадцатого века, когда один из равнинных шотландцев бежал от короля на континент, отец немощно глядел на дочь, это потом, когда его привезли в клинику, и врачи сделали кардиограмму, которая и показала обширнейший инфаркт, она уже билась о колени матери, а тогда, увидев, как белая кисть выскальзывает из-под рукава клетчатого халата и пытается пальцами добраться стоящей на краю журнального столика коробки с сигарами, она подняла сверток с дочерью со стола и пнула ногой уже почти пустую чернильницу, брызги долетели до опять побелевшего лба, но остальное она уже не видела, потому что выскочила в сад, и тут – наткнулась на Валета. Тот стоял, переминаясь и переминая – конверт.
– Это – тебе. Она попросила.
– Валет, прости, сейчас – не до тебя.
– Это она.
– Что она? Что – она? У меня мать в лежке, отец перепил, весь белый, дочка заходится. Мне сейчас – не до ваших фантазий.
– Белый? Это – плохо. Давай-ка позвоним врачу.
Качая Сандру, та, да и она сама, немного успокоились, в пол-уха слушая разговор Валета с врачом, Синтия распечатала конверт. Письмо было коротким – прости, ранчо здесь – не ранчо. Я уезжаю в настоящую Америку. Попутного ветра, Синяя Птица. Синтия раздраженно бросила конверт в помойное ведро, Валет достал сигарету, размял, я выйду на улицу, они сейчас приедут.
Уже во время первого, на месте, осмотра, они поняли, что все – серьезно. Позвони Морису. Валет пошарил взглядом по полкам, Синтия опять положила дочку, на этот раз на кухонный стол, устав, девочка заснула, а ее мама, одной рукой доставала бутылку и стакан для Валета, а другой – накручивала номер брата. Давид много заранее повесил второй аппарат рядом с кухонным столом. Корсиканский оператор, когда они научатся говорить правильно, несколько раз переспросил имя абонента, как вдруг – прилечу завтра. Валет услышал это и – побрел прочь.
Потом, из Америки, Синтии стали приходить нечастые, но регулярные весточки, иногда даже с фотографиями. Синтия писала подруге чаще, чувства – не притупились. Видимо, Памела нашла свою страну, именно страну, по которой она колесила на подержанном грузовике, обустроенным под мобильный домик. О своей личной жизни она не писала ни-че-го. Синтия догадывалась, что подруга не выходила замуж, но кто-то должен был время от времени ремонтировать грузовик? К чести Памелы, она заранее сообщала о своих переездах, поэтому Синтии не составляло труда писать «до востребования» в то место назначения, куда в очередной раз переезжала Памела. Зарабатывала она фотографиями, пейзажи входили в моду, и несколько раз ее снимки опубликовал даже Нэшнл Джиогрэфик. Давид тогда собирался в город и покупал журнал, который, после просмотра, ложился на полку секретера его жены, где она хранила письма своей подруги. Но несколько лет назад что-то случилось. Письма почти перестали приходить, почерк стал прерывистым и каким-то неровным. В газетах писали о хиппи, наркотиках, сексе, и Синтия с Давидом поняли, что с Памелой случилась беда. Помощь пришла неожиданно. Мориса направили на подводные учения в Северную Атлантику, после которых он выпросил отпуск и поехал на последний адрес Памелы. Вернувшись в Европу, он коротко отписал сестре, что виделся с ее подругой, что все не так гладко, но свет в конце туннеля – виден. И – все. Он обещал рассказать все подробно при встрече, но как раз тогда заболела его жена, Морису пришлось отменить свой визит домой, потом стало еще хуже, тема Памелы отошла на задний план, а, когда жена умерла, Морис приехал уже с палисандровым коффром, поэтому о подруге расспрашивать было совершенно некстати. Лишь однажды пришло некоторое подобие известия, Валет принес газету на английском языке, оставленную на ранчо кем-то из туристов, где рассказывалось о грандиозном музыкальном фестивале в Америке. Под статьей была опубликована фотография, на которой, среди множества длинноволосых физиономий угадывалось и лицо Памелы.
Но потом все изменилось. Памела вновь стала писать регулярно, правда пункты назначения были уже другие – Новый Орлеан, Роттердам, Марсель, Неаполь. Памела устроилась поваром-посудомойкой на сухогруз, возивший из Америки в Европу престижные «корветы» и «мустанги», а из Европы в Америку – не менее престижные «феррари» и «ламборджини». А однажды пришла фотография, где рядом с Памелой, на палубе, стоял широкоплечий, высокий, бородатый викинг. И Синтия поняла, что Мориса теперь расспрашивать, собственно, и не о чем. Но теперь придется расспросить саму Памелу. Письмо Синтии «до востребования» должно было ждать подругу в Марселе. В нем Синтия как раз напоминала о предстоящем юбилее и даже сделала намек, правда, безо всякой надежды, просто как выражение любви, что как было бы здорово, если подруга приедет ее поздравить вместе со своим викингом. Она – и приехала, но почему она приехала – одна?
Вытирая волосы, Памела, в белоснежном халате, вошла в столовую:
– Ну, подруга, рассказывай.
– Что рассказывать? Я тебе про все писала. Давай, лучше ты.
– Нет, не про все. Я хочу знать больше – про Алекса, про Сандру, папу, Мориса, Давида. Алекс – как его учеба?
– Какая учеба? Весь – в отца. Не проходит и пары месяцев, как он с новой девушкой.
– Но это же нормально.