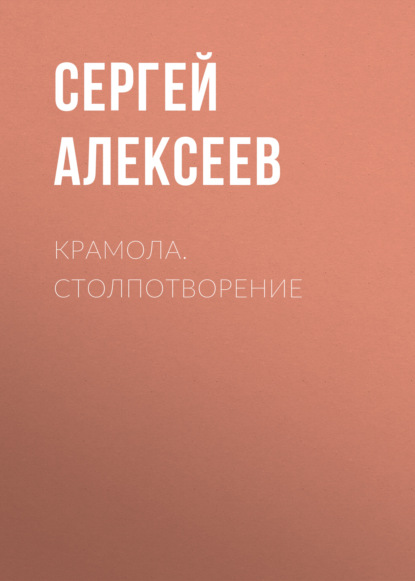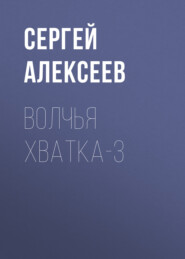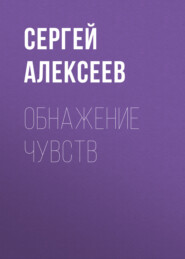По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крамола. Столпотворение
Серия
Год написания книги
1990
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сердобольные старушки подняли горемычного, обмыли, обрядили с миру по нитке, приезжий батюшка, служивший Пасхальную службу, отпел его наскоро, после чего, не дожидаясь и трех дней, схоронили на березинском кладбище. И после Радуницы наверняка бы забыли, но вдруг одна за одной захворали старухи, что обихаживали нищего, причем болезнь скрутила так яро и стремительно, что березинские и понять не успели, какая хворь привязалась. Спохватились поздновато. Привезенный Иваном Алексеевичем лекарь определил холеру у внуков покойных старух, двух мужиков и одной бабы на сносях.
Еще какое-то время в Березине хорохорились, продолжая жить по-прежнему бесшабашно, но когда на тот свет отправились те, кто уже заболел, тишина в селе стала напоминать кладбищен–скую. Отрезанные со всех сторон кордонами, люди отсиживались по избам и были по сути обречены на гибель. Уже прошел горячим и душным ветром слух, будто власти хотят сжечь Березино вместе с людьми, чтобы зараза не начала распространяться по всей Сибири. Однако барин Иван Алексеевич, обойдя дворы, убедил всех, что поджигать никто никого не собирается и кордоны за околицей выставлены исключительно для охраны села – на тот случай, если кому из свободненских вдруг и впрямь взбредет в голову запалить соседей.
Зловещий призрак смерти реял в воздухе. Несмотря на заверения старого барина, крестьяне пали духом. Не огонь, так холера приберет всех, минет только срок – и снесут березинских на погост. О холере наслышаны были и знали, какая это болезнь. У кого-то еще хватило силы отомстить безвестному нищему: его вырыли из могилы и выбросили в исток Кровавого оврага.
Ожидание неотвратимой смерти было куда опаснее, нежели сама холера. Одни ударились в запой, другие молились день и ночь, а время было посевное, и над непаханой землей звенели жаворонки. Березинские равнодушно вздыхали: теперь, мол, свободненским раздолье, вся раскорчеванная земля им достанется. Ведь не утерпят, чтобы не припахать от чужой полосы, прибрать к рукам соседский клин. Наверняка и служивые кордонов подкуплены старожилами, раз не выпускают за околицу…
Между тем холера косила людей; правда, мерли пока только слабые – старики и ребятишки. На кладбище выкопали одну глубокую яму и складывали туда покойных без гробов, засыпая густо известью, как велел лекарь, и прикрывая могилу досками. Единственный колодец был засыпан той же известкой, и за водой теперь ходили кто на речку, кто в болотину или на ключ. Причем каждый своей тропкой: сельчане шарахались друг от друга, держались семьями, да и то, стоило кому-либо захворать, как больного немедленно выносили из избы во временный лазарет и сразу прощались. Лекарь давал какое-то снадобье, но оно не помогало. Обреченные кричали и плакали, нагоняя тоску на здоровых. А тут еще каким-то образом проникла в село свободненская кликуша-нищенка. Безбоязненно разгуливая по улицам, она кричала:
– Наказанье Господне вам, ироды! Почто к нам приехали? Земельки захотели вольной? – и тыкала крючковатым пальцем под ноги: – Вот вам земля! Вот вам!..
У нее во время схватки на Кровавом овраге убили мужа. И она, тогда еще совсем молоденькая, свихнулась. И с тех пор бродила по окрестным селам, нищенствовала и проклинала новопоселенцев…
Кто-то швырнул в кликушу из-за заплота первый камень. И, словно ожидая сигнала, повыскакивали со дворов бабы и в мгновение ока забили нищенку насмерть. До ночи лежала она на площади серым, невзрачным комом, пока кто-то сердобольный не сволок ее на кладбище и не бросил в яму к холерным покойникам.
Случилось это в канун Троицы.
Иван Алексеевич, едва началась холера, переселился на старое гумно и велел сыну Александру запереть все ворота усадьбы. И каждый день старый барин спускался с холма в село, помогал свозить покойных из лазарета и привозить в лазарет заболевших, вместе с лекарем ходил по дворам и как мог успокаивал народ. Сыновья вначале пробовали его уговорить не искать беды и не ходить в село, но Иван Алексеевич и слушать не хотел: он словно даже радовался, что случилась такая напасть и что можно наконец как-то помочь крестьянам. Доходило до того, что старый барин сам месил и пек хлеб в общественной пекарне, построенной им самим незадолго до холеры, а потом ходил и разносил караваи по избам.
– Я старый, – отмахивался он. – Ко мне никакая холера не пристанет.
И в самом деле не приставала.
После того как кликушу-нищенку забили камнями, Иван Алексеевич съездил тайно в Есаульск и уговорил такого же старого священника поехать в Березино. Вместе с ним он пошел по селу от двора ко двору. Батюшка окуривал кадилом, читал молитвы, а старый барин увещевал:
– Хвори злобой не одолеть. Поднимайтесь-ка и выходите на улицу. Совет держать будем. Вече соберем! Выходите!
– Будь ты проклят! – кричали ему из-за заплотов. – На смерть нас привез! На погибель в Сибирь приехали!
– Остепенитесь, люди! – взывал барин. – Выходите на сход! Ведь так-то перемрете поодиночке! Хватит лежать и смерти ждать. Меня-то не берет холера! Живой хожу – видите? Выходите! Помирать, так всем миром помирать будем!
А сам аж светился весь, щеки от румянца пылали, и сверкали глаза.
– Коли по хуторам бы жили – не случилось такого мора! – с какой-то застарелой обидой напомнил Иван Алексеевич. – Ну а если сбились в кучу, на миру жить захотели, так уж миром ступайте до конца. И я с вами пойду! Не думайте, не оставлю. Выходите, да завтра с зарею станем храм обыденный ставить!
Но и храмом никого не выманил он со дворов, посулами избавления от холеры не дозвался, однако же притихли березин–ские и больше не отвечали.
Той же ночью уговорил он двух мужиков, что при имении жили, запряг коней в тележные передки и поехал валить лес. К рассвету порядочно заготовили, а четыре лиственницы на первый венец вывезли на площадь возле часовни и ошкурили. Батюшка освятил место под храм, и взялись мужики вместе с барином вязать нижний венец. И лишь застучали топоры – полезли из своих нор сначала уцелевшие старики, те, которые с Иваном Алексеевичем из России приехали и еще крепостное право помнили; пришли, поглядели и молча разошлись за инструментом. За стариками мало-помалу потянулись мужики помоложе, шли пока без всякой надежды и веры, вступали в общественное спасительное дело с неохотой, пока не прикипели к работе и не выступил на сморщенных лицах первый пот.
К восходу солнца увязали начальный венец и, оглядев его, вдруг поверили, а поверив, стали молчаливее, строже, расторопнее. Откуда только сноровка и сила взялась! Никто не распоряжался, не управлял, да храмов никому раньше строить не приходилось, однако тут березинские мужики ровно вспомнили это мудреное и святое дело. Одни, прорвав кордон, ринулись в ближний сосняк валить лес; другие, не жалея коней и собственных сил, тягали бревна на площадь; сюда же сошлись все, кто еще мог ходить и кое-как двигаться. И чем выше поднималось солнце над горизонтом, тем горячей становились люди. Работали неистово, одержимо, корячились и хрипели от натуги, заваливая тяжелый, сырой лес на сруб, трещали мокрые от пота рубахи, свежая, по-весеннему обильная живица постепенно обволакивала руки, плечи, лица и волосы; в ладони мужиков будто вросли топорища. От жадности на работу мужики аж постанывали и воровато озирались по сторонам, словно боялись, что вдруг придет кто-то и отнимет у них эту последнюю надежду и возможность уберечься от смерти.
Поднималось солнце, и вместе с ним поднимался над землей церковный сруб. И когда оно достигло зенита, с березинскими что-то произошло. Вдруг спала болезненная ярость, с которой работали все – мужики, бабы, старики и ребятишки, исчез дух отчаяния и восторжествовал рассудок, хотя никто особо не рассуждал – строили молча, стиснув зубы. Сами они ничего в то время не заметили, и старый барин ничего не ощутил. Разве что содрал с себя мокрую и черную от смолы рубаху и надел чистую, вновь взявшись за топор. И мужики, сами по себе, тоже обрядились в свежие рубахи, бабы надели праздничные кофты и передники. Не сговариваясь и не обсуждая, каждый словно еще раз поверил, что храм встанет к заходу солнца, поднимет животворящий крест над обреченным селом, а значит, и отступят черная хворь и смерть. И восторжествует жизнь!
Стоявшие на кордонах солдаты оставили свои посты и один за другим сторожко приблизились к селу. Они смотрели издали на оживших людей, и храм, растущий на глазах, завораживал. То было удивительно и необъяснимо: чуть ли не сотня человек, еще вчера полумертвых, сегодня слаженно и старательно работали, не мешая друг другу и сохраняя при этом полное молчание. Доносились лишь короткое, под удары топоров, кряканье, хрип взмыленных коней; запаленно дышали бабы, шкуря железными лопатами лесины и таская в передниках мох; шмыгали носами ребятишки, виснувшие на стенах с конопатками в руках; и даже продольные пилы на высоких козлах бормотали негромко и коротко…
Прослышав, что задумали и делают березинские, из Свободного прихромал глянуть на чудо какой-то старик. Постоял, разинув рот, подивился и торопливо заковылял назад. Скоро свободненские, побросав свои дела, потянулись к соседям.
Узнав о холере, они дорогу к себе возле Кровавого оврага перегородили тыном, и сторожа своего выставили, и все время, пока мерли соседи, в их сторону и смотреть-то опасались. Тут же, забывая всякую осторожность, переступили неохраняемую околицу и вошли в Березино. Сгрудились у площади и смотрели настороженно, с подозрением. Мысленно они уже давно похоронили березинских: коль напал мор, вряд ли кто выживет, дело известное. А они вон что вздумали!
И вдруг заплакали свободненские бабы, а мужики закричали:
– Мы вашей земли не пахали! Не трогали! Вы уж не думайте!
А старик опустился на землю, попил воды, разомлел и сел под стену на щепки дух перевести. О нем тут же и забыли. Но когда поставили стропила, хватились – а он уже щепками по грудь завален и окостенел. Отнесли старика Понокотина в храм, положили за алтарь – там другие старики столярничали, – топоры за пояса – и снова на стены полезли, будто от супостата отбиваться. Сами же всё на солнце поглядывают – дело к закату идет, а еще купола нет и крест на земле лежит. В самом же храме леса налаживают, чтоб стены тесать, и окна без рам глядят на мир, словно бельмастые слепые глаза.
Свободненские впервые почувствовали себя чужими. Можно бы и помочь, да как, если всю жизнь во врагах живут, а святое дело с открытой душой делать надо. И, страдая от неловкости, но виду не подавая, покрикивали на березинских, поторапливали:
– Чего копаетесь-то? Чего телитесь? Солнце на закат, а они ходят как вареные!
– Не поспеете же, не поспеете, варнаки!
И тут произошло такое, что, не будь сторонних свидетелей, вряд ли бы кто березинским потом поверил, если бы стали рассказывать. Впрочем, сами они, занятые работой, чуда вовсе и не заметили. Одни в храме стены вытесывали, другие рамы стеклили и ставили, а те, кто поздоровее, поднимали тем временем купол-луковицу на самый верх. Тут уж недосуг по сторонам-то смотреть.
А чудо было такое: солнце дошло до горизонта и будто уперлось в незримую стену – ни с места! Свободненские оцепенели, глядя на солнце, и даже дышать перестали. Боязно им сделалось. Вот уж и недоеные коровы обревелись по дворам, и куры по насестам расселись, петухам кричать бы, а светло…
И стояло солнце на небе, пока березинские купол не подняли и крест не водрузили. Всё успели: и крышу тесом покрыть, карнизы пришить, и в храме прибрались, щепу да мусор бабы в подолах перетаскали и разбежались по избам за иконами и лампадками. Батюшка веничек связал и покропил святой водой углы да окна – освятил храм.
Говорят, пока солнце задерживалось на небосклоне, глядеть на него было нельзя, слезы наворачивались.
Вдруг хватились мужики – нечего больше делать! И, словно очнувшись, встали кругом храма, глядят – глазам не верят: откуда взялся? Оторопели, к месту бы перекреститься, да руки как срослись с топорами – не оторвать. И мужики топорами перекрестились.
Тем временем батюшка службу начал в пустом храме, и голос его таким гулким показался, что, говорят, даже немощные по избам услышали и ползком на площадь поползли. Священник из Есаульска настолько стар был, что и псалма вытянуть не мог, а тут грохочет басом – воздух на улице дрожит. Народ и вовсе оробел, никто через порог церкви ступить не смеет. Тогда поднялся старый барин на паперть, снял шапку и вошел. За ним кое-как потянулись и остальные, но озираются, дивятся. Потом и свободненские насмелились, за ними – солдаты караула. Народу набилось – ступить некуда. Считай, два села с гаком вышло.
Всю ночь длилась служба в обыденном храме. Свободнен–ские и кое-кто из солдат на клиросе пели, да только березинские ничего не видели и не слышали. Войдя в храм, они повалились на пол и мгновенно уснули перед алтарем. Лежали как мертвые, хоть отпевай. И никого добудиться не могли. Лишь топоры у сонных вывалились из рук. Батюшка прошел среди мужиков, собрал инструмент и под иконы сложил.
Наутро обряженного старика Понокотина отнесли на погост и последним положили в яму с холерными покойными. А яму тут же засыпали и отметили место большим холмом и высоким крестом. Не мешкая, мужики разошлись по дворам и начали доставать плуги и сохи. На пахоту выезжали будто на пожар: кругом уже все отсеялись. Пахали каждый свой клин, однако несколько раз на дню сбегались все вместе покурить и просто посидеть на теплой земле. Почти не говорили, не балагурили, но подолгу не могли расстаться, хотя торопило и подгоняло время.
Однажды, собравшись на поле у молодого Понокотина, сговорились пахать и сеять сообща, артельно. Помочи и раньше случались в Березине, однако лишь тогда, когда хозяин просил. Тут же стихийно согнали коней на одну полосу и за час вспахали. Потом другому хозяину, третьему, и так это дело понравилось, что ходили березинские мужики и руками хлопали: да как же раньше-то на ум не приходило?! Вон как быстро и весело работать! А старый барин-то ишь чего хотел – по хуторам расселить, чтоб жили, как сычи, как лешие по лесам.
И, едва отсеявшись, стали ждать покосов.
5. В ГОД 1905…
Косили в Иванов день обычно мало. Для пробы выкашивали береговой взлобок, а из травы строили новые шалаши. Потом занимались хозяйством – поправляли прошлогодние стожары, набивали травой матрацы, между делом купались, а одно большое общее купание устраивали перед обедом, который привозили бабы.
Затем спали в шалашах, пахнущих свежими, но уже увядающими травами. Проснувшись, вылезали на свет божий и еще немного косили, чтобы размяться. Потом дружно садились за празд–ничный покосный ужин, добрым словом поминая именинника Ивана Алексеевича.
Целый день Андрей крутился среди мужиков, помогал отцу, потом удил рыбу с конюхом Ульяном Трофимовичем, купался в речке и ждал вечера. Вместе с обедом мама привозила на покос Оленьку, и он водил ее под берег – показывал стрижиные норки и ловил мальков на песчаной отмели. Сестра так весело и долго смеялась, глядя, как Андрей ползает или падает животом на стайки рыбешек, что потом горько и неутешно плакала, когда ее увозили домой. А ведь говорил же ей: не смейся громко – плакать будешь, примета верная. Но Оленька не слушалась: у нее уже в то время проступал дедов непокорный и своенравный характер.
Ужин привезли, когда спустились сумерки: над лугом зародился легкий туман, и его полотнища застелили низинки, чуть прикрыв траву. Нарастая, они медленно колыхались, словно их кто-то встряхивал, взяв за углы. А там, где отсветы угасающего зарева достигали этих полотен, ходили беззвучными молниями огненные сполохи всех цветов радуги. На какой-то миг, прежде чем вечер высинил небо, воздух и луг, земля стала похожа на новенькое лоскутное одеяло. Дышалось вольно, прохлада выгоняла росу, и все кругом цепенело от задумчивости и тишины; хотелось самому замереть и слушать, слушать…
Андрей поскорее выбрался из-за стола и теперь ходил за шалашами, по отмякшей стерне, ожидая, когда застолье допьет свои чарки, поговорят, попоют тихие песни и станут зажигать костры. Свой костер он уже приготовил днем, осталось лишь чиркнуть спичкой, однако покосники засиживались, а надо, чтобы огни вдоль реки вспыхнули и горели одновременно. Тогда была красота…
Впрочем, на темнеющем стане уже был огонек. Саша, пристроившись к углу шалаша, зажег свечу и опять что-то читал. Андрей услышал шорох за телегами, сдавленный смех и хотел было заглянуть туда, но вдруг кто-то невидимый окатил его водой из ведра. У Андрея остановилось дыхание. И сразу же из-за телеги выскочила длинноногая, в холщовом платье, девчонка – Альбинка Мамухина. Она кинулась к реке, но запуталась в корневищах черемухи, сползшей с яра, растянулась, и ведро ее запрыгало в воду. Мокрый насквозь, Андрей в первый момент ощутил толчок негодования – горячая волна захлестнула голову, но, заметив, что Альбинка сползает на животе под берег, он засмеялся и, опередив ее, выхватил полное ведро из реки и облил всю с ног до головы, лежащую и беспомощную. Она попыталась вскочить, но Андрей плеснул еще раз, потом еще, черпая теплую, парную воду. И Альбинка ожила, завизжала и покатилась колобком в реку. Длинная коса ее наматывалась на длинную шею. Она больше не сопротивлялась и будто хотела, чтобы ее обливали. Неожиданно в ее крике страха и восторга Андрей уловил что-то, от чего на мгновение замер, и его бросило в жар, как минуту назад от негодования. Он выпустил ведро и, пугаясь своего чувства, попятился. Альбинка же перевернулась на спину, раскинула руки и засмеялась, будто ее щекотали; сквозь мокрое платье, облепившее тело, проступали маленькие живые бугорки. Андрею стало невыносимо стыдно, и, застигнутый врасплох этим чувством, он кинулся на берег…
И только сейчас увидел, что вдоль реки уже полыхает десятка два костров, озаряя воду и вершины берез. Опомнившись, он нашел в кармане липкий коробок, потом вслепую стал искать заготовленную кучу хвороста. Но кто-то неосторожный развалил ее в потемках, к тому же размокшие спички ватно чиркались и не зажигались – беспомощность и обида закипели в глазах. В следующий момент он увидел двоящийся огонек свечи, бережно несомый к нему чьей-то рукой.
– Саша? Саша! – крикнул он от нетерпения.