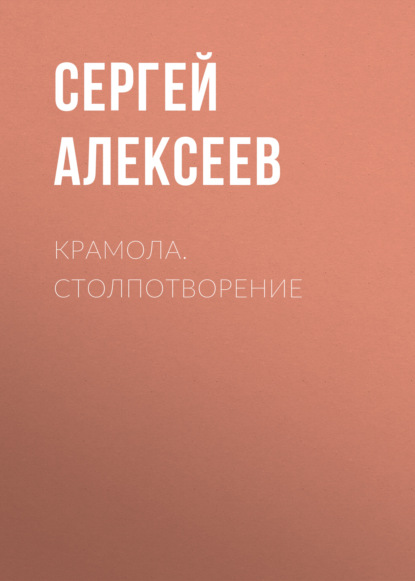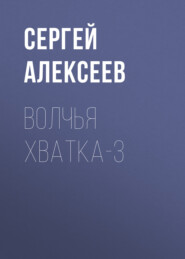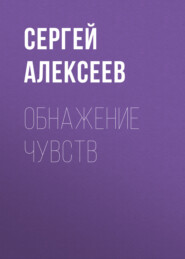По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крамола. Столпотворение
Серия
Год написания книги
1990
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смысл слов доходил трудно, мешали руки Ковшова, мешал бинт, стискивающий огненное лицо…
Андрей оттолкнул Ковшова с пути и пошел, волоча ноги. Через несколько шагов запнулся о мертвого, упал и в другой раз встать не смог, пополз.
– Куда? – закричал Ковшов. – Нам в другую сторону!
«Положил? Всех положил?! – лихорадочно и со страхом думал Андрей. – Всех положил…»
Ковшов догнал его и помог подняться. Держась за высокую траву, Андрей вновь попробовал сморгнуть красное марево – бесполезно. Сумасшедший ходил где-то рядом и в который раз уже пел одну и ту же никогда не слыханную песню:
У меня в доме да сподиялося,
Вороной конь да на ноги пал,
Молода жона да с ума сошла,
Малы детушки да на куть легли…
– Может, стукнуть его? – посоветовался Ковшов. – Чтоб не маялся?
Бинт стянул челюсть – говорить стало совсем трудно, и Андрей лишь цедил слова сквозь стиснутые зубы. Он пошел в ту сторону, куда стоял лицом. Шарил руками пространство, передвигал тяжелые ноги. Через несколько шагов снова наткнулся на человека, склонившись, на ощупь отыскал лицо. И не видя его, узнал мертвого, как узнают слепые. Он не помнил фамилии убитого, не знал имени, однако сразу представил его живым: кажется, был он из студентов и его просили читать вслух, еще там, в Уфе, когда формировался полк. Он читал, красноармейцы слушали и глядели на него с уважением, даже чуть робели. Но в казарме над парнем посмеивались, воровали у него ботинки, ремень, затвор из винтовки и дразнили потом, что не отдадут; он верил и, как мальчишка, гонялся за обидчиками. Игра нравилась бойцам так же, как и его чтение…
Потом Андрей наткнулся на комроты Шершнева, узнал маленького красноармейца, который все время нес носилки с раненым. А рябой, тот, что хотел отобрать бурдюк с водой у ополченца, лежал в обнимку с кем-то незнакомым, в погонах, намертво сцепив руки на горле…
И ползая так между убитыми, в застывшей и не ушедшей в сухую землю крови, Андрей понял, что плачет. Соленые слезы впитывались в бинт и разъедали рану; онемевшая половина лица приобретала чувствительность. Он полз наугад, но везде натыкался на мертвых, лежащих вперемешку; один – знакомый, другой – с погонами, чужой; словно кто-то умышленно разложил их так на его пути.
Он плакал, и вершилось чудо. Красные сумерки отступали, и над землей занималось серенькое утро. Отмытые слезами глаза просветлели… прозрели…
Он приполз к красноармейцу, который угрожал выстрелить ему в спину. Но и прозревший, долго не мог узнать его: он? не он? Все было то: рваная гимнастерка, коротко стриженные и совершенно белые волосы, оттопыренные уши, и все-таки что-то в нем изменилось. И наконец понял – глаза! Они стали голубыми и чистыми, поскольку в них отражалось небо…
Непослушными пальцами Андрей закрыл ему глаза, но они снова открылись, а пятаков, чтобы придавить веки, не было.
«Значит, не смерть мне, – думал он, глядя в его лицо. – Смерть моя – вот она, сама мертвая…»
Он встал на ноги, и сразу же открылась взору незнакомая горячая степь. С высоты человеческого роста уже было не рассмотреть, кто и что лежит на земле, – белесые и зыбкие травы прятали все следы недавнего боя…
Шиловского проткнули штыком насквозь, ниже плеча, однако был он еще в сознании. Запавшие черные глаза его переполняла тоска, и казалось, будто смотрел он на мир со дна глубокого колодца. Под разорванным френчем краснела напитанная кровью повязка: комиссар облизывал сухие губы, дышал отрывисто и часто. Он ничего не говорил, не отвечал на вопросы и не выпускал из руки маузера. Шиловский долго смотрел Андрею в лицо, затем повел маузером в его сторону, сказал сухо, коротко:
– Бросите – расстреляю!
Идти он не мог, нести было некому, поэтому Ковшов побежал ловить лошадей, сбившихся в табун. Кони носились по степи, вспугивая воронье, ржали тревожно, отфыркивая запахи, и не могли успокоиться. Тоненько и болезненно им отзывались те, что лежали ранеными среди людей. Поймать коней было невозможно, они шарахались от живого человека, натыкаясь друг на друга, как, пожалуй, не шарахались бы от зверья.
Отчаявшись, Ковшов поймал и привел сошедшего с ума беляка. Тот ничего не соображал, однако слова понимал и был послушным. С помощью Ковшова он взвалил себе на плечи комиссара и, качаясь, поплелся в степь.
– Куд-да?! – заорал Ковшов. – К «чугунке»! Туда! – И, догнав, с треском оборвал с него погоны, развернул в обратную сторону.
Они успели пройти с полверсты, как на горизонте медленно стала появляться пыльная туча. Она всходила над окоемом и отвесно тянулась в небо. Шли и гадали, надеясь все-таки, что это вихрь, привычный для степи. Но скоро последние надежды развеялись: казачьи сотни шли тремя потоками, и тянулись за ними три шлейфа серебристой пыли, сливаясь в один высоко в небе.
Уходили с оглядкой, бежали, как от грозы. Ковшов, придерживая раненого Андрея, поминутно оборачивался, и Андрей, заражаясь этим нервным движением, тоже пытался поворачивать голову, но Ковшов одергивал, и лицо его наливалось злостью.
И в этой злости Андрею показалось что-то знакомое. С той минуты, как вернулось зрение, он старался вспомнить, откуда ему знакомы эти большие руки, сожженная солнцем шея. И голос его вроде уже слышал сегодня…
Между тем пыльные тучи приближались, делались гуще, непрогляднее и теперь напоминали степной смерч. В очередной раз оглянувшись, Ковшов резко остановился, будто от выстрела, сбросил с плеча руку Андрея.
– Всё! Не уйти! Молись, кто верует.
Вдали, среди трав, объятых маревом, как огнем, показался казачий разъезд. Всадники на минуту придержали коней, видно, осматривая степь в бинокль, затем наметом поскакали в ту сторону, куда уходили оставшиеся в живых. Ковшов рывком стащил винтовку со спины, передернул затвор.
– И-ых, сволота! – простонал он. – Мало я вашей кровушки пустил! Э-эх, мал-ла!..
И в тот же миг Андрей явственно вспомнил сегодняшнее утро, расстрел на берегу реки Белой. Обернулся к Ковшову. Узнал…
А беляк с комиссаром на спине уходил в степь, словно его уже не касалось то, что вершилось и еще свершится на земле.
Тем временем казачий разъезд вдруг остановился и спешился. Ковшов недоуменно таращил глаза, опустив винтовку.
– Они чего? – И вдруг засмеялся, оскаливая зубы, хлопнул себя по ляжке: – Убитых нашли! Слышь, ходу! Они ж трофей собирать станут!
Он подхватил Андрея и потащил так, что тот едва успевал переставлять вялые ноги. Повязка на лице сбилась и запечатала рот, дышать было трудно, темнело в глазах. Впереди, сажен за сто, мелькала в траве фигура согбенного сумасшедшего с Шиловским на спине. Андрей хотел было попросить остановиться и перевести дух, однако слова сквозь бинт не пробивались, а мычания Ковшов не слышал. Шанс на спасение утроил его силы, и Андрей сквозь френч и его гимнастерку чувствовал мощное движение закаменелых мышц, как чувствуешь круп коня в детстве, катаясь верхом без седла. И если в Ковшове бурлила, кипела жизнь и жажда выжить придавала ему животную силу, то Андрей, напротив, все больше слабел, и накатывало безразличие. Можно было остаться здесь, в траве, можно пройти еще версту или две, а то и вовсе пересечь железную дорогу – что изменится? Сестру уже не найти в такой неразберихе, где брат – тоже неизвестно… А ведь в их судьбе так или иначе виноват он, Андрей. И в гибели полка он тоже виноват… Хорошо, что завязан рот, – можно кричать, никто не услышит. Плохо, что прозрел. Не видеть бы, а еще лучше – ничего не слышать и не чувствовать…
Андрей поднял голову и машинально стал упираться ногами, вырывать свою руку из мертвой хватки Ковшова. Тот сначала рванул Андрея за руку, потом ударил локтем в живот.
– Дернись еще, – прохрипел он. И вдруг остолбенел.
В десятке саженей стояло до полуэскадрона конных чехов, поджидали, весело переговаривались на своем языке. За ними виднелись пустые повозки.
А сумасшедший как ни в чем не бывало тащил свою ношу прямо к конским ногам, согнувшись в три погибели, и глядел в землю. Чех-кавалерист, выждав момент, тронул коня вперед и ловко схватил комиссара за руку, в которой торчал маузер. Вырвал его, осмотрел, пальнул в небо.
Не думал Андрей, что еще раз придется ему побывать на месте побоища в тот день.
Их с комиссаром положили в повозку, где уже были навалены трупы, туда же бросили связанного по рукам и ногам Ковшова, поговорили между собой и поехали. А там, где остался лежать полк Андрея, продолжали орудовать казаки. Они собирали винтовки, шашки, стаскивали сапоги, снимали ремни с подсумками, гимнастерки почище – не брезговали ничем, как рачительные, хозяйственные люди. Чехи же, не обращая внимания на казаков, бродили между убитыми и выискивали своих. Лишь однажды произошла стычка и яростный, разноязычный, но понятный всем разговор; а причиной ссоры было то, что казаки раздели двух убитых чехов.
Как в страшном, повторяющемся сне, Андрей через борт повозки вновь глядел в лица мертвых красноармейцев, и завязанный рот сводила судорога. Глядел и, как доживающий свой век старец, просящий прощения за все содеянное и несодеянное, мысленно повторял: простите, виновен, простите…
По дороге вдруг заговорил Шиловский. Неожиданно приподнявшись на локтях и перегнувшись через мертвяка, зашептал:
– Они не должны меня узнать… Слышите? Вы не имеете права выдать меня. Вы давали слово… О родственниках не забывайте…
Андрей медленно скосил глаза: Шиловский смотрел выжидательно, буравил черными зеницами, словно ружейными стволами.
– Фамилия – Акопян. Я бывший прапорщик, насильно мобилизованный, как и вы… Акопян, запомнили?.. Вы понимаете?..
Слушая его, Андрей вспомнил первую встречу с комиссаром. Тогда он безразлично отнесся к Шиловскому: положен комиссар в полку – пусть действует. И презрительность, с которой Шиловский разговаривал с ним, командиром, совершенно не волновала. Так и должно, наверное, быть, считал Андрей. Он, командир, – военспец, офицер, дворянин; комиссар же – революционер, большевик, пролетарий, раз на заводе работал. Хотя Шиловский Андрею больше напоминал аптекаря либо ювелира – одним словом, человека, привыкшего иметь дело с точными весами, обученного колдовству и чародейству, человека, кому послушны вещи, которые трудно взять неопытной руке или узреть непривычному глазу. Однако со временем – а время на войне всегда относительно – у них возникли вполне терпимые отношения, бывало, даже беседовали, хотя Андрей не мог отделаться от чувства, словно его прощупывают осторожные и стремительные пальцы вора-карманника. И всякий раз от откровенных разговоров удерживала ненависть, неожиданно и в самых разных ситуациях разгоравшаяся в глазах Шиловского. Казалось, еще миг, и комиссар взорвется гневом и проклятиями. Андрей недоумевал, как в одном человеке могут уживаться интеллигентность и дикое невежество, чистые, если судить по речам его, помыслы и вот такое презрение и ненависть, унижающие человека. И за что? За то, что Андрей не был пролетарием и носил погоны? За то, что служит в Красной Армии не по своей воле? Или, может, за нерешительность, когда надо было пустить в расход дезертира и молодого прапорщика-пленного?
Сейчас можно было спросить Шиловского. И наверное, он бы ответил прямо: оба лежали среди мертвых в телеге, оба пленные и перед обоими была одна и та же неизвестность. Но беда – рот завязан и нет сил разорвать бинты на лице, разжать зубы.
Ковшов лежал в ногах поперек телеги, придавленный трупами; виднелись только его связанные руки, сжатые в огромные кулаки.
– В вашем положении тоже не рассчитывайте на пощаду, – продолжал шептать Шиловский. – Вам не простят… И разбираться не станут… Вы придумайте легенду. Чехи поверят.
Андрей молчал и даже радовался, что не может говорить. О чем? Какие легенды придумывать, если все прахом пошло?..
Их привели к штабному вагону и посадили в тень, рядом с часовым у тамбура. О пленных словно забыли, и они просидели часа три. Мимо как ни в чем не бывало разгуливали пьяные ватаги солдат-чехов, и Ковшов, поднявшись с земли, несколько раз пробовал пройтись вдоль вагона, заглядывал между колес, но часовой не дремал и грозил винтовкой. В горле у пленных спекалось от жажды, а мимо иногда проносили воду от водонапорной башни, откуда выглядывало хорошенькое девичье личико; воду пили тут же, умывались и даже обливались ею, щедро расплескивая по земле. Смотреть было невыносимо, но просить никто не хотел. Комиссар лишь стискивал зубы, а Ковшов, видно, борясь с искушением, сказал себе громко:
Андрей оттолкнул Ковшова с пути и пошел, волоча ноги. Через несколько шагов запнулся о мертвого, упал и в другой раз встать не смог, пополз.
– Куда? – закричал Ковшов. – Нам в другую сторону!
«Положил? Всех положил?! – лихорадочно и со страхом думал Андрей. – Всех положил…»
Ковшов догнал его и помог подняться. Держась за высокую траву, Андрей вновь попробовал сморгнуть красное марево – бесполезно. Сумасшедший ходил где-то рядом и в который раз уже пел одну и ту же никогда не слыханную песню:
У меня в доме да сподиялося,
Вороной конь да на ноги пал,
Молода жона да с ума сошла,
Малы детушки да на куть легли…
– Может, стукнуть его? – посоветовался Ковшов. – Чтоб не маялся?
Бинт стянул челюсть – говорить стало совсем трудно, и Андрей лишь цедил слова сквозь стиснутые зубы. Он пошел в ту сторону, куда стоял лицом. Шарил руками пространство, передвигал тяжелые ноги. Через несколько шагов снова наткнулся на человека, склонившись, на ощупь отыскал лицо. И не видя его, узнал мертвого, как узнают слепые. Он не помнил фамилии убитого, не знал имени, однако сразу представил его живым: кажется, был он из студентов и его просили читать вслух, еще там, в Уфе, когда формировался полк. Он читал, красноармейцы слушали и глядели на него с уважением, даже чуть робели. Но в казарме над парнем посмеивались, воровали у него ботинки, ремень, затвор из винтовки и дразнили потом, что не отдадут; он верил и, как мальчишка, гонялся за обидчиками. Игра нравилась бойцам так же, как и его чтение…
Потом Андрей наткнулся на комроты Шершнева, узнал маленького красноармейца, который все время нес носилки с раненым. А рябой, тот, что хотел отобрать бурдюк с водой у ополченца, лежал в обнимку с кем-то незнакомым, в погонах, намертво сцепив руки на горле…
И ползая так между убитыми, в застывшей и не ушедшей в сухую землю крови, Андрей понял, что плачет. Соленые слезы впитывались в бинт и разъедали рану; онемевшая половина лица приобретала чувствительность. Он полз наугад, но везде натыкался на мертвых, лежащих вперемешку; один – знакомый, другой – с погонами, чужой; словно кто-то умышленно разложил их так на его пути.
Он плакал, и вершилось чудо. Красные сумерки отступали, и над землей занималось серенькое утро. Отмытые слезами глаза просветлели… прозрели…
Он приполз к красноармейцу, который угрожал выстрелить ему в спину. Но и прозревший, долго не мог узнать его: он? не он? Все было то: рваная гимнастерка, коротко стриженные и совершенно белые волосы, оттопыренные уши, и все-таки что-то в нем изменилось. И наконец понял – глаза! Они стали голубыми и чистыми, поскольку в них отражалось небо…
Непослушными пальцами Андрей закрыл ему глаза, но они снова открылись, а пятаков, чтобы придавить веки, не было.
«Значит, не смерть мне, – думал он, глядя в его лицо. – Смерть моя – вот она, сама мертвая…»
Он встал на ноги, и сразу же открылась взору незнакомая горячая степь. С высоты человеческого роста уже было не рассмотреть, кто и что лежит на земле, – белесые и зыбкие травы прятали все следы недавнего боя…
Шиловского проткнули штыком насквозь, ниже плеча, однако был он еще в сознании. Запавшие черные глаза его переполняла тоска, и казалось, будто смотрел он на мир со дна глубокого колодца. Под разорванным френчем краснела напитанная кровью повязка: комиссар облизывал сухие губы, дышал отрывисто и часто. Он ничего не говорил, не отвечал на вопросы и не выпускал из руки маузера. Шиловский долго смотрел Андрею в лицо, затем повел маузером в его сторону, сказал сухо, коротко:
– Бросите – расстреляю!
Идти он не мог, нести было некому, поэтому Ковшов побежал ловить лошадей, сбившихся в табун. Кони носились по степи, вспугивая воронье, ржали тревожно, отфыркивая запахи, и не могли успокоиться. Тоненько и болезненно им отзывались те, что лежали ранеными среди людей. Поймать коней было невозможно, они шарахались от живого человека, натыкаясь друг на друга, как, пожалуй, не шарахались бы от зверья.
Отчаявшись, Ковшов поймал и привел сошедшего с ума беляка. Тот ничего не соображал, однако слова понимал и был послушным. С помощью Ковшова он взвалил себе на плечи комиссара и, качаясь, поплелся в степь.
– Куд-да?! – заорал Ковшов. – К «чугунке»! Туда! – И, догнав, с треском оборвал с него погоны, развернул в обратную сторону.
Они успели пройти с полверсты, как на горизонте медленно стала появляться пыльная туча. Она всходила над окоемом и отвесно тянулась в небо. Шли и гадали, надеясь все-таки, что это вихрь, привычный для степи. Но скоро последние надежды развеялись: казачьи сотни шли тремя потоками, и тянулись за ними три шлейфа серебристой пыли, сливаясь в один высоко в небе.
Уходили с оглядкой, бежали, как от грозы. Ковшов, придерживая раненого Андрея, поминутно оборачивался, и Андрей, заражаясь этим нервным движением, тоже пытался поворачивать голову, но Ковшов одергивал, и лицо его наливалось злостью.
И в этой злости Андрею показалось что-то знакомое. С той минуты, как вернулось зрение, он старался вспомнить, откуда ему знакомы эти большие руки, сожженная солнцем шея. И голос его вроде уже слышал сегодня…
Между тем пыльные тучи приближались, делались гуще, непрогляднее и теперь напоминали степной смерч. В очередной раз оглянувшись, Ковшов резко остановился, будто от выстрела, сбросил с плеча руку Андрея.
– Всё! Не уйти! Молись, кто верует.
Вдали, среди трав, объятых маревом, как огнем, показался казачий разъезд. Всадники на минуту придержали коней, видно, осматривая степь в бинокль, затем наметом поскакали в ту сторону, куда уходили оставшиеся в живых. Ковшов рывком стащил винтовку со спины, передернул затвор.
– И-ых, сволота! – простонал он. – Мало я вашей кровушки пустил! Э-эх, мал-ла!..
И в тот же миг Андрей явственно вспомнил сегодняшнее утро, расстрел на берегу реки Белой. Обернулся к Ковшову. Узнал…
А беляк с комиссаром на спине уходил в степь, словно его уже не касалось то, что вершилось и еще свершится на земле.
Тем временем казачий разъезд вдруг остановился и спешился. Ковшов недоуменно таращил глаза, опустив винтовку.
– Они чего? – И вдруг засмеялся, оскаливая зубы, хлопнул себя по ляжке: – Убитых нашли! Слышь, ходу! Они ж трофей собирать станут!
Он подхватил Андрея и потащил так, что тот едва успевал переставлять вялые ноги. Повязка на лице сбилась и запечатала рот, дышать было трудно, темнело в глазах. Впереди, сажен за сто, мелькала в траве фигура согбенного сумасшедшего с Шиловским на спине. Андрей хотел было попросить остановиться и перевести дух, однако слова сквозь бинт не пробивались, а мычания Ковшов не слышал. Шанс на спасение утроил его силы, и Андрей сквозь френч и его гимнастерку чувствовал мощное движение закаменелых мышц, как чувствуешь круп коня в детстве, катаясь верхом без седла. И если в Ковшове бурлила, кипела жизнь и жажда выжить придавала ему животную силу, то Андрей, напротив, все больше слабел, и накатывало безразличие. Можно было остаться здесь, в траве, можно пройти еще версту или две, а то и вовсе пересечь железную дорогу – что изменится? Сестру уже не найти в такой неразберихе, где брат – тоже неизвестно… А ведь в их судьбе так или иначе виноват он, Андрей. И в гибели полка он тоже виноват… Хорошо, что завязан рот, – можно кричать, никто не услышит. Плохо, что прозрел. Не видеть бы, а еще лучше – ничего не слышать и не чувствовать…
Андрей поднял голову и машинально стал упираться ногами, вырывать свою руку из мертвой хватки Ковшова. Тот сначала рванул Андрея за руку, потом ударил локтем в живот.
– Дернись еще, – прохрипел он. И вдруг остолбенел.
В десятке саженей стояло до полуэскадрона конных чехов, поджидали, весело переговаривались на своем языке. За ними виднелись пустые повозки.
А сумасшедший как ни в чем не бывало тащил свою ношу прямо к конским ногам, согнувшись в три погибели, и глядел в землю. Чех-кавалерист, выждав момент, тронул коня вперед и ловко схватил комиссара за руку, в которой торчал маузер. Вырвал его, осмотрел, пальнул в небо.
Не думал Андрей, что еще раз придется ему побывать на месте побоища в тот день.
Их с комиссаром положили в повозку, где уже были навалены трупы, туда же бросили связанного по рукам и ногам Ковшова, поговорили между собой и поехали. А там, где остался лежать полк Андрея, продолжали орудовать казаки. Они собирали винтовки, шашки, стаскивали сапоги, снимали ремни с подсумками, гимнастерки почище – не брезговали ничем, как рачительные, хозяйственные люди. Чехи же, не обращая внимания на казаков, бродили между убитыми и выискивали своих. Лишь однажды произошла стычка и яростный, разноязычный, но понятный всем разговор; а причиной ссоры было то, что казаки раздели двух убитых чехов.
Как в страшном, повторяющемся сне, Андрей через борт повозки вновь глядел в лица мертвых красноармейцев, и завязанный рот сводила судорога. Глядел и, как доживающий свой век старец, просящий прощения за все содеянное и несодеянное, мысленно повторял: простите, виновен, простите…
По дороге вдруг заговорил Шиловский. Неожиданно приподнявшись на локтях и перегнувшись через мертвяка, зашептал:
– Они не должны меня узнать… Слышите? Вы не имеете права выдать меня. Вы давали слово… О родственниках не забывайте…
Андрей медленно скосил глаза: Шиловский смотрел выжидательно, буравил черными зеницами, словно ружейными стволами.
– Фамилия – Акопян. Я бывший прапорщик, насильно мобилизованный, как и вы… Акопян, запомнили?.. Вы понимаете?..
Слушая его, Андрей вспомнил первую встречу с комиссаром. Тогда он безразлично отнесся к Шиловскому: положен комиссар в полку – пусть действует. И презрительность, с которой Шиловский разговаривал с ним, командиром, совершенно не волновала. Так и должно, наверное, быть, считал Андрей. Он, командир, – военспец, офицер, дворянин; комиссар же – революционер, большевик, пролетарий, раз на заводе работал. Хотя Шиловский Андрею больше напоминал аптекаря либо ювелира – одним словом, человека, привыкшего иметь дело с точными весами, обученного колдовству и чародейству, человека, кому послушны вещи, которые трудно взять неопытной руке или узреть непривычному глазу. Однако со временем – а время на войне всегда относительно – у них возникли вполне терпимые отношения, бывало, даже беседовали, хотя Андрей не мог отделаться от чувства, словно его прощупывают осторожные и стремительные пальцы вора-карманника. И всякий раз от откровенных разговоров удерживала ненависть, неожиданно и в самых разных ситуациях разгоравшаяся в глазах Шиловского. Казалось, еще миг, и комиссар взорвется гневом и проклятиями. Андрей недоумевал, как в одном человеке могут уживаться интеллигентность и дикое невежество, чистые, если судить по речам его, помыслы и вот такое презрение и ненависть, унижающие человека. И за что? За то, что Андрей не был пролетарием и носил погоны? За то, что служит в Красной Армии не по своей воле? Или, может, за нерешительность, когда надо было пустить в расход дезертира и молодого прапорщика-пленного?
Сейчас можно было спросить Шиловского. И наверное, он бы ответил прямо: оба лежали среди мертвых в телеге, оба пленные и перед обоими была одна и та же неизвестность. Но беда – рот завязан и нет сил разорвать бинты на лице, разжать зубы.
Ковшов лежал в ногах поперек телеги, придавленный трупами; виднелись только его связанные руки, сжатые в огромные кулаки.
– В вашем положении тоже не рассчитывайте на пощаду, – продолжал шептать Шиловский. – Вам не простят… И разбираться не станут… Вы придумайте легенду. Чехи поверят.
Андрей молчал и даже радовался, что не может говорить. О чем? Какие легенды придумывать, если все прахом пошло?..
Их привели к штабному вагону и посадили в тень, рядом с часовым у тамбура. О пленных словно забыли, и они просидели часа три. Мимо как ни в чем не бывало разгуливали пьяные ватаги солдат-чехов, и Ковшов, поднявшись с земли, несколько раз пробовал пройтись вдоль вагона, заглядывал между колес, но часовой не дремал и грозил винтовкой. В горле у пленных спекалось от жажды, а мимо иногда проносили воду от водонапорной башни, откуда выглядывало хорошенькое девичье личико; воду пили тут же, умывались и даже обливались ею, щедро расплескивая по земле. Смотреть было невыносимо, но просить никто не хотел. Комиссар лишь стискивал зубы, а Ковшов, видно, борясь с искушением, сказал себе громко: