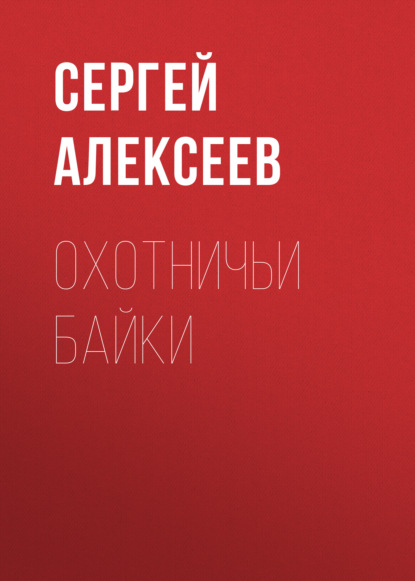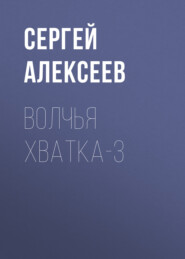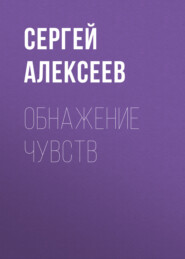По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охотничьи байки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Гляди-ка! Попали!
Охотники полезли к берлоге, а без лыж так тонули в снегу, ну и я за ними. И когда добрался, выброшенный из лаза залом уже был наверху, а большая медвежья голова с закушенным в пасти языком еще торчала в яме. Однако снег вокруг валился, и зверь вместе с ним медленно опускался куда-то вниз.
– Тащите веревку! – велел батя, сбрасывая лыжи.
За веревкой ринулся Буря, но опоздал: медведь рухнул в яму и оттуда дохнуло смрадом звериного жилья.
– Да никуда не денется! – Мужики, как подобает, сдержанно радовались и закуривали. – Теперь наш, достанем!
Сбили сугроб с валежины, ружья повтыкали в снег и расселись. И тут батя наконец-то обратил внимание на меня, но глядел как-то странно, с хитроватым подозрением.
– А ты-то стрелял?
– Стрелял! – с гордостью ответил ему.
Он же взял у меня ружье, разломил и достал целый патрон.
Мужики заржали надо мной, стали подтрунивать, но больше от того, что их переполняли чувства: хорошее было утро, медведя взяли, охота удалась, будет что рассказать. Батя же молчал и ухмылялся, а мне стало невыносимо обидно. Ведь помню же, хоть и как в тумане, но вроде бы нажимал спусковой крючок!.. Я встал на лыжи и хотел было отойти подальше и с горя покурить Буриного «швырка», но отец дал конец веревки.
– Раз не стрелял – лезь в берлогу. Привязывай медведя, вытаскивать будем.
Я взял веревку и на ватных ногах подошел к темному челу: в кедровой гриве было сумеречно, туманное морозное солнце слабо пробивало плотные кроны, а в берлоге и вовсе был мрак и воняло так, что дышать можно лишь ртом, чтоб не стошнило. Мужики примолкли, глядели с интересом, и верно, думали, полезу я или струшу?
– Чего встал? – поторопил батя. – Давай!
На животе, как медведь, я сполз в черную снежную яму головой вперед и на ощупь нашел почему-то узкий лаз, протиснулся, потрогал руками пространство – везде была мягкая медвежья шерсть, в том числе и под коленками.
– Ну что там? – Батя склонился к яме. – Чего копаешься?
– А за что привязывать? – спросил я из подземелья.
– Сделай удавку и за шею, – посоветовал он. – Или за лапу.
Наконец в шерстяной горе я нащупал звериную голову, точнее, уши, а возле морды оказалась огромная и безвольная передняя лапища с когтями. Неуверенными руками я сделал удавку, кое-как надел ее на лапу, затянул и крикнул:
– Тащите!
Мужики налегли на веревку, а я наконец нащупал стенку берлоги, пронизанную сплетением кедровых корневищ, и встал на четвереньки.
– Раз-два – взяли! – донеслось сверху. – Еще раз – взяли! И веселый, восторженный мат.
– … ничего себе!
Батя, видно, склонился к берлоге.
– Ты за что там привязал-то?
– За лапу!
– А почему обратно тянет? Может, за корень привязал?
– Я что, корня от лапы не отличу? – меня уже брала обида: вылезешь из берлоги – начнут смеяться…
– Ладно, подталкивай там снизу! – велел отец и ушел.
Я ощупал шерстяную гору, примерно нашел медвежий зад, уперся в стенку и стал толкать.
– Раз-два – взяли!
И так потянули, что одним махом выдернули зверя наружу, причем с частью обледеневшего снежного лаза, так что в берлоге немного посветлело. Но почему-то наверху вместо радости, словно короткая вспышка, возник переполох, злой, забористый мат и крики:
– Бей его! Бей! А, ё…
Я же пополз на четвереньках к лазу и снова ощутил под руками медвежью шкуру. В этот момент батя спрыгнул в яму, спросил звенящим, возбужденным голосом:
– Серега? Живой?
– Живой…
– Ё!.. Вылазь!
– А медведь!..
– Убежал медведь!
– Тут еще один лежит!
Отец просунулся в расширенный лаз, что-то пощупал и вдруг одним рывком выбросил наружу небольшой и лохматый ком.
– Пестун! Вылазь!
На улице грохнул запоздалый выстрел. Я выполз из берлоги, и батя, схватив меня за шиворот, выбросил на снег, как пестуна.
– Фу, мать ити… Эй, чего стреляете-то, лешаки? Ушла!..
Мужики стояли с ружьями наперевес возле широкого, пропаханного в глубоком снегу, следа, уходящего с гривы к болоту, что-то высматривали. Отец сел на теплого еще пестуна, достал кисет и стал сворачивать самокрутку. Руки дрожали и парили на морозе, махра сыпалась на снег – таким я его еще не видел…
– На-ко, сверни! – сунул мне кисет. – Умеешь ведь?.. Живой медведице веревку за лапу привязал!
Его колотило от переживания, должно быть, увидев живого медведя, выскочившего из берлоги, он в мгновение представил, что могло со мной случиться, и теперь никак не мог успокоиться. Глядя на взволнованного батю, я физически ощутил, как в один миг из меня что-то стремительно вылетело – эдакий парок, словно от дыхания на морозе. Было чувство, что сбросилось лишнее давление, ранее распиравшее меня изнутри, и одновременно будто притянуло к земле, отяжелели плечи и руки. Я сел на снег, свернул бате самокрутку, прикурил от своей спички и с удовольствием затянулся.
– А это тебе рано! – Он отнял самокрутку, жадно хватил дыма. – Впрочем, что я говорю?.. Мужики подошли к нам, тоже задымили папиросами, стали разглядывать медвежонка, на котором сидел отец.
– Чего зырите-то? – недовольно спросил тот. – Сколь говорить: стрелил – заряди ружье! А вы встали, рты разинули!..
Он швырнул полсамокрутки в снег и поднялся.
– Пошли матку догонять! Выйдет в деревню – наделает делов… А ты, Буря, возьми пестуна!