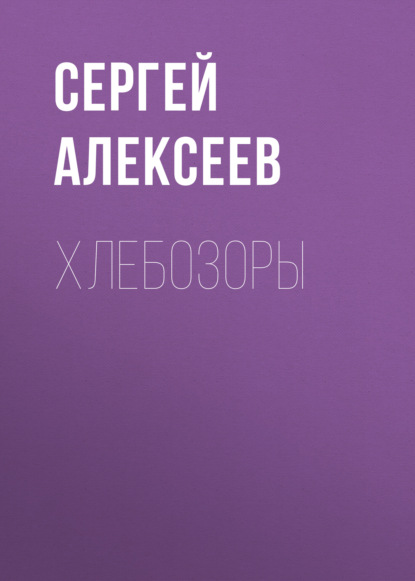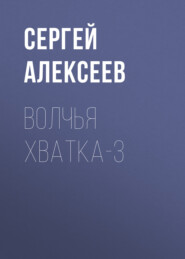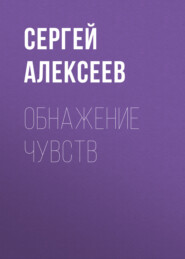По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хлебозоры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иди, Федор, иди. – Майор сунул бумагу дяде, подтолкнул к двери. – После медкомиссии – ко мне. Все!
Дядя Федор вдруг выматерился, схватил меня за руку и потащил на улицу. И рука у него сразу стала горячая и жилистая, будто налитая огнем.
Медкомиссия проходила в стареньком клубе, возле которого сидели и стояли парни, а один очень уж хорошо играл: на гармошке. Мы прошли сквозь толпу и столкнулись с мужиком в белом халате.
– А! – радостно сказал он и крепко поздоровался с дядей. – Еще раз счастья попытать заглянул?
– Пускай он счастье пытает, – мрачно пробурчал дядя и подтолкнул меня вперед. – Отпытался я…
– Куда же ты такого махонького! – засмеялся врач. – Пускай подрастет, каши поест…
– В суворовское! – отрубил дядя. – Племяш мой.
– Это хорошо! – одобрил тот. – Пускай идет раздевается, посмотрим… Только худоват он…
– Зато жила крепкая!
Дядя привел меня в комнату, где раздевались и одевались парни, тоже веселые и дурашливые, приказал раздеться. Я стянул гимнастерку, сапоги, галифе; дядя ворчал:
– Все им не так, все им не угодишь – худоватые, глуховатые… А где хороших-то взять после такой войны? Медицина, мать ее… Снимай трусы!
Я схватился за трусы и прижался к стене. Тут еще какой-то парень засмеялся, закричал:
– Мужики! Гляньте, какого шкета привели! Ой, помру! Ой, смехотура!
И все заржали, как жеребцы, хотя сами были тощие и мосластые.
– Молчать! – гаркнул дядя, и все замолчали, а мне: – Трусы долой.
Только сейчас, прижавшись к стене, к холодной и незнакомой стене, среди незнакомых мне людей, которые непонятно зачем раздевались, одевались и отчего дурачились, я осознал, что теряю волю. Это уже была не игра в войну, и не дядя командовал мной, а другие, чужие люди в белых халатах. И отныне теперь так будет всегда… Скорее, до конца этого я не понимал, но предчувствовал, и мне становилось холодно.
– Степан? – недоуменно спросил дядя. – Ты чего? На комиссию надо в чем мать родила… Снимай, не стесняйся. Я знаешь сколько без штанов у них бегал…
– Да у него и письки-то еще нету! – подпустил какой-то рыжий парень, и все снова засмеялись.
Мне вовсе не было стыдно. Тогда я еще не понимал, что это не страх, что это противится моя душа, поскольку сама медкомиссия была неестественной в тот миг – я не болел, и никто из хохочущих парней не болел. И все мы были в равном положении. Только я от неестественности жался к стене, а они старались скрыть ее в дурашливости и смехе.
У дяди Федора лопнуло терпение. Он схватил меня поперек, сдернул трусы и потащил в комнату через коридор. Там поставил на ноги, и я увидел человек пять в белом. Все они смотрели на нас и весело здоровались с дядей.
– Сам не идет, что ли? – спросил тот, что встретился нам в дверях.
– Да кто к вам сам-то ходит? – сердито ответил дядя. – Сидите, заседаете тут… Сенат английский!
Доктора засмеялись, сказали дяде присесть, а меня повели от одного стола к другому. Меня ощупывали, разглядывали, мяли суставы, заглядывали в рот, отстукивали и прикладывали холодные стальные трубки, будто не в суворовское брали, а бычка на базаре торговали. Наконец положили на кушетку и стали водить по животу и ступням чем-то острым и холодным. Я съежился в комок.
– Ну-ка, ну-ка! – вдруг заметил один из докторов, сидящий в стороне, и стал щупать мои ноги, переглядываясь с другими. Потом заставил намочить ступни в воде и пройти по крашеному полу. Я макнул ноги в таз и прошел по холодным половицам. Они сошлись у моих следов, а дядя ожил и насторожился. Доктора смущенно переглянулись и разошлись по своим столам. Пауза затянулась, и дядя Федор не выдержал:
– Вы чего это?..
Я понял, вернее, опять почувствовал, что мужики в халатах боятся дядю, а у меня что-то нашли.
– У него плоскостопие, Федор Иваныч, – вздохнул мужик, что встретился в дверях. – В мирное время не годен…
Все, что произошло потом, я до сих пор вспоминаю как кошмарный сон, хотя многое уже в полузабытьи. Пожалуй, с того же момента слово «медкомиссия» вызывало во мне чувство, будто к голому теплому телу прикасаются чем-то стальным, круглым и холодным.
Дядя Федор метался по комнате, хватал за грудки медиков, трещали белые халаты, грохотали падающие столы, звенели стеклянные приборы, а я жался к стене и стискивал в руках откуда-то взявшуюся ложку, которой прижимают язык, чтобы заглянуть в горло. Они все были одетые – я в чем мать родила.
Помню, как от порога вдоль всей комнаты метательным диском летел таз с водой, где я мочил ноги. Он вращался в полете так, что брызги веером срывались с краев и прошивали пыльные столпы света из окон. Помню, как врачи увертывались от таза и шарахались к стенам. Таз обо что-то ударился, когда мы были в коридоре. А еще над всем этим стоял невообразимый дядин мат, какого я с тех пор больше никогда не слышал.
Потом дядя тянул меня на улицу из старого клуба, но я упирался, поскольку был голый. Призывники стояли, прильнув к стенам, и лицами сливались с ними. Галифе я надел уже на крыльце, гимнастерку – возле магазина на другой улице, а сапоги в коляске мотоцикла. Пилотка моя и вовсе где-то утерялась…
Но сквозь все это я ощутил возвращение воли – теплое и светлое чувство, как от материного молока. И вместе с тем щемило и притрагивалось ко мне чувство утраты: мне никогда не быть суворовцем, не носить черной шинели с красными погонами, не дудеть в трубу, как они дудели на плакатах в сенцах колхозной конторы. Мне хотелось одновременно и плакать, и смеяться. И как потом оказалось, чувства эти настолько дружны и естественны, что живут в человеке всю его жизнь.
Дядя гнал мотоцикл – гимнастерка заворачивалась. Его каска бренчала и каталась у меня под ногами, словно ореховая скорлупа, а слипшиеся от пота дядины волосы никак не могли просохнуть на горячем встречном ветру. В одном месте он остановился, сел в дорожную пыль.
– На тебя вся надёжа была, – глухо сказал он. – Вся моя надёжа. А нас – в белобилетники, так их разэтак…
Где-то впереди ныла и бренчала расшатанными бортами машина, и пыль от нее столбом тянулась в небо, закручиваясь там в гриб, как у атомного взрыва. Дядя вдруг схватил меня за ухо, дернул до треска в голове.
– Плоскостопие у него! А босиком не бегай! Расшлепал ноги-то! Балбес!
Я думал как раз о том, что обрадуется мать, и нисколько на дядю не обиделся, даже весело стало.
– Так сапоги только в школу!
Он махнул рукой, сел на мотоцикл и поехал тихо, задумываясь и стекленея взглядом. А я в тот момент подумал, как насядут на меня теперь великановские пацаны и будут долго дразнить плоскостопым. По крайней мере прозвище мне обеспечено. У нас любили давать прозвища и посмеяться любили, поэтому мне хотелось плакать…
Избавлению от службы мать почему-то не шибко обрадовалась. Я сидел и ел молоко с хлебом, а она, подпершись рукой, тихо говорила, будто сама себе: дядя слышать не мог.
– Вот, думала, и пристроила сыночка… В люди выйдет, не то что в назьме-то жить. Там, и правда, одежа казенная, питание хорошее. Только чтоб войны не было…
Дядя наверняка не слышал и тоже говорил сам себе. Он скрипел половицами и бесцельно совался в углы.
– Весь в батю родимого!.. Толстопятый… И вся ихняя порода такая, толстопятая.
И опять от его слов веяло какой-то тревогой и непонятным страхом, который бывает, когда бежишь через темные сени в светлую избу. Идти играть не хотелось, я оттягивал минуту, когда пацаны начнут спрашивать: все уже знали, что я вернулся в Великаны. Поэтому я ушел за баню и лег на горячий песок завалинки, рядом с сонным и безразличным Басмачом. Между баней и плетнем, на залоге, уже чернел зрелый паслен – ягода кисловатая и одновременно приторно-сладкая, как сама жизнь. Я рассматривал свои ступни, выворачивал их, мял и не мог понять, где медкомиссия усмотрела плоскость. Ноги как ноги – у всех такие же. И если даже ступни плоские, то в чем же беда? Наоборот, на земле можно крепче стоять! К тому же офицеры все равно только в сапогах ходят, но подошвы-то у сапог уж точно все одинаково плоские!
Вдруг я услышал тихий свист из-за плетня и чья-то тень достала бани. За плетнем стоял дядя Леня и улыбался.
– Ну и как? – спросил он. – Взяли тебя на суворовца учиться?
Я подошел с другой стороны плетня и притулился спиной.
– Дядя Лень, по секрету, – сказал я. – У меня какое-то плоскостопие нашли. Только ты никому…
– Тогда и я по секрету: у меня тоже плоскостопие. Так что мы родня.
Он огляделся и перепрыгнул плетень.