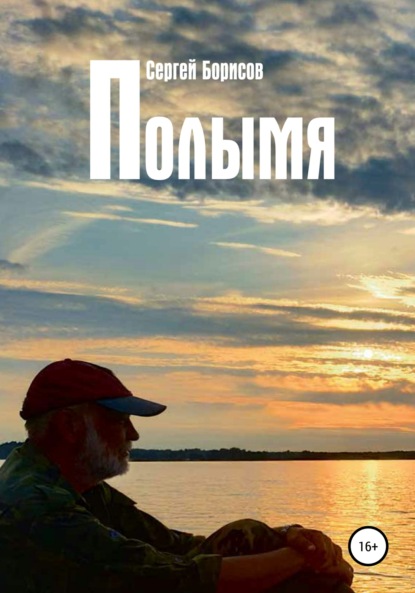По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полымя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, что там сверху? «Четыре нуля». Это о книгах. И о людях, конечно, их мироощущении, сказал же кто-то, что мир человека – в себе, и в его воле превратить этот мир в рай или ад. Когда же это было написано? Где-то в начале двухтысячных, но идейка мелькнула еще в армии.
-–
Он прислушался к совету Путилова. Сам вызвался, и оказалось – ничего сложного. Начальник строевой части, ознакомившись со свежеиспеченным рефератом, остался настолько доволен, что соизволил молвить: годится, пожалуй, не хуже тех, что… «Ошибаетесь, товарищ капитан, – подумал он прежде, чем была произнесена понятно какая фамилия. – Лучше, чем у Борьки».
И понеслось! Он прилежно строчил курсовые и прочую лабуду, без которой офицеру не подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. Таким образом, план, очерченный Путиловым, был успешно реализован.
И перевыполнен. Вспомнив навыки, полученные в школе, он занялся переплетным делом. «Коленкор не трожьте, лидерин берите, он красивше, глаже и воду держит, и клей мажьте ровно, без затеков», – внушал малолетним оболтусам трудовик, тридцать лет оттрубивший в типографии «Московский рабочий», после выхода на пенсию не усидевший дома и заделавшийся педагогом в берете и сером халате. Можно ли было представить, что это когда-нибудь ему пригодится? Надо будет, думал Олег, полосуя скальпелем дерматин – откуда в армии коленкор с лидерином? – после дембеля зайти в школу, проведать старика, вдруг живой, тянет лямку.
В общем, через пару месяцев после того, как Путилов отчалил на гражданку, он был уже в седле, и ноги в стременах. В штабе и во взводе все было пучком. Получив положенное количество ударов ремнем по седалищу и заглотив кружку отвратительного пойла – бормотухи местного розлива, он был переведен в следующую категорию, что предполагало расстегнутый воротник кителя, кирзачи гармошкой и кучу иных прав при минимуме обязанностей. Оставалось только тихо-мирно ждать увольнения в запас.
Он клепал рефераты, резал-клеил папки и кляссеры для начштаба. Потом втихую стал мастырить дембельские альбомы, украшая обложки, которые обтягивал шинельным сукном, значками и лычками. Благодаря такой эксклюзивной продукции он пользовался большим уважением среди полковых «дедушек», даже большим, чем Путилов. Все складывалось оте-нате, только эпистольских булочек было жалко, от них остались лишь ностальгические воспоминания. Эпистол ушел на дембель в числе последних, и кто знает, дождались его три девицы или нет, остановился он в выборе или пустился во все тяжкие по чужим постелям. Всяко может быть, но ушел хлеборез – и как в воду канул.
Одно было паршиво: никак не складывалось со сменщиком. Казалось, подбирал со всем тщанием, отследил биографию, но выпускник Владимирского педагогического института оказался истеричным типом, зыркающим исподлобья, а после принятия внутрь разбавленного на треть спирта Royal вид у него становился маньячным. Кончилось тем, что его увезли, полуживого, из какой-то забегаловки на окраине города. По выходу из госпиталя он прямиком отправился на год в дисбат. От более сурового наказания его спасло то, что облеванную папку с документами он из рук все же не выпустил.
На смену будущему преподавателю физики пришел дипломированный учитель истории. Эту тщедушную личность перевели из какой-то дальней части, где его зачморили до такой степени, что он хлебнул электролита. Сделай он глоток побольше, наверняка комиссовали бы и отправили домой в Смоленск, а так подлечили – и давай, иди дослуживай. Паренек он был исполнительный и безобидный, но в него вбили страх, и потому на окружающий мир он взирал снизу вверх. В доброе расположение ефрейтора Дубинина – да-да, повысили приказным порядком – он не верил и в ожидании подлянки вел себя серой мышкой: скользнул в уголок, прикрылся бумажками и притих. А потом и другое выяснилось. Бывая в городе, новенький заходил в чипки, как называли в этих местах простенькие кафе, чайные и рюмочные, и слезно просил сердобольных продавщиц дать что-нибудь поесть. Пришлось старшему секретчику, которого подобная стыдоба могла ударить рикошетом – не уследил за подчиненным, а то и похуже, гнобишь, обираешь, – прояснить «бедному солдатику» кое-какие правила поведения. Тот слушал, втянув голову в плечи, готовый к удару, которого не последовало, обещания врезать было довольно. Какое уж дружеское общение при таком раскладе!
Так и тянулись дни, серые, неотличимые, и единственно, что наполняло их красками, это рассказы, которые Олег сочинял, не помышляя о том, чтобы разослать их по редакциям. Цену своим писаниям он представлял и не хотел краснеть даже заочно – достаточно воображения, чтобы представить глумливые гримасы редакторов или кто там отшивает будущих гениев?
Сюжеты между тем множились: они толкались, как шары в барабане «Спортлото», взывая и требуя поскорее быть перенесенными на бумагу, а уж что из этого выйдет, с этим потом. Вот и рассказ «Четыре нуля» был зачат тогда, родился позже.
«Мама была «жаворонком». Будь она «совой», ложись не в десять, а после полуночи, он лишился бы не только завтраков, но и принужден был бы объясняться.
Мать интересовало все, что с ним происходит. Но как же бесили его эти бесконечные расспросы. Иногда он не мог удержаться от резкости. Потом корил себя.
Особенно тягостны были вопросы, которые приносили с собой чувство беспомощности: как ответить? И это при том, что ответы были. Только, облекаемые в слова, они становились слишком длинными и уже потому невнятными.
Его раздражало собственное неумение кратко сформулировать свое суждение, которое возникало расплывчатой мыслью, потом обрастало доказательствами правоты, проявлялось в поступках, перерастало в привычку, обещая со временем стать чертой характера.
Если бы мама была «совой», если бы увидела, она обязательно бы спросила, зачем он занимается такими странностями.
У него было заведено: без четверти двенадцать он стелил кровать, потом туалет, ванная. Без пяти он был в постели.
У изголовья ночник. На полке электронные часы. На них цифры из мерцающих зеленым палочек с подрубленными углами. Еще несколько минут – и точка безвременья, полночь.
Он лежал и ждал.
Четыре нуля.
Он брал с тумбочки книгу. Кафка, Астафьев, Адамович, Василь Быков…
Это раньше он читал на ночь Ильфа и Петрова и непритязательную фантастику. И спал тихо, просыпался с улыбкой. А не как сейчас, словно вагоны разгружал.
Конечно, это замечательные книги. Только нравиться они не могут. Приложимо ли вообще к ним слово «нравиться»? Ну как могут нравиться «Каратели» Адамовича? Ужасом веет от их страниц.
«Зачем ты это читаешь, сын?» – спросила бы мать.
Этот вопрос он и сам задавал себе. Мазохизм? Если бы… Это даже лечится. Но все сложнее. Настолько, что не поддается ни анализу, ни дальнейшему синтезу.
Разумеется, можно придумать что-нибудь возвышенное. Это как епитимья: после проведенного в праздности дня – ну какие у него заботы? – окунуться в юдоль горя, страданий и отчаяния. И очиститься в раскаянии.
В этой версии много искусительного, если бы не истинная причина – страх. У него много личин, и одна из них – страх перед завтрашним днем. Что будет утром? На работе? Вечером? Пусть у него всего лишь проблемки, но и они ранят, потому что это его сложности, его беды. Так не лучше ли быть к ним готовым, чем встретить в настроении радостном, приподнятом? Тогда падение будет особенно болезненным, а так можно терпеть.
Четыре нуля.
Он протянул руку. Что на сегодня? Чехов. «Дядя Ваня».
Книги не было. Забыл приготовить! Он встал… и словно вывалился из времени.
В себя его привел сквозняк, вольно гуляющий по паркету. Он переступил на закоченевших ногах, шагнул к кровати и юркнул под одеяло.
На часах девятка уступила место нулю, а один из нулей – единице. Десять минут нового дня. Он повернулся на бок и подложил под щеку ладонь для тепла и опоры».
И куда это девать? Спалить? Так вроде бы и неплохо. Хотя косяки прежние: гляньте, граждане, какой у нас тонкий душевный строй.
Олег потянулся, разминая спину, потом разорвал листок надвое, половинки – на четвертушки, те – на осьмушки и посыпал клочками темнеющие угли. Бумага вспыхнула и свернулась каракулевыми завитками, отдав лишь толику тепла. Ангелы ее не заметили.
* * *
Шуруп приподнялся. Уши – торчком. Взгляд жалостливый.
– Ну давай поиграем, – сдался Олег.
Пес сорвался с места и кинулся к двери. Ткнулся в нее носом, засучил лапами.
– Ты чего?
Просьба выпустить во двор обычно выглядела менее драматично. Тем более метель, погода, когда хороший хозяин…
– Да что с тобой?
Олег подошел к двери. Щелкнул выключателем, зажигая фонари около дома.
– Хочешь – на здоровье, только потом не скули.
Отпер и открыл дверь.
Двор застелило накрахмаленной скатертью. Фонари боролись с темнотой и метелью – и проигрывали – это была неравная битва.
Пес метнулся наружу. Резко затормозил на краю веранды, расставив лапы, и зашелся лаем.
Олег напрягся: неужели волки?
Шуруп продолжал исступленно лаять. Оглянулся, взывая к хозяину.
Олег сунул ноги в валенки, накинул куртку, вернулся к камину и взял топор. Лишь после этого вышел на веранду и встал рядом с псом.
Посмотрел налево – туда, где во мраке утонул скит. Потом поднял голову. Над фонарями, мешаясь со снежной крупой, летели искры.