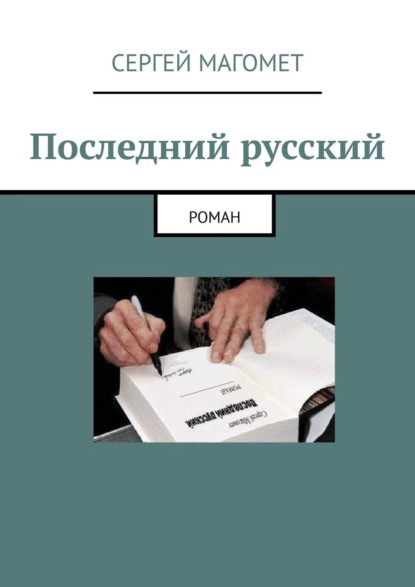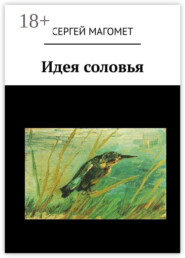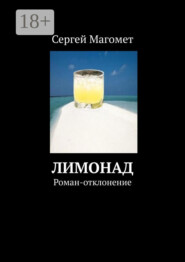По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний русский. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Недавно Павлуша позвонил, чтобы поделиться сексуальными новостями. Якобы представился случай конкретно трахнуться. Пора бы уж, наконец. Взбудоражено уверял, что там отказа не бывает. Более того, как и положено настоящему другу, предложил совершить этот торжественный акт инициации вместе. Но я отреагировал неадекватно – отказался. Притом с нарочитым безразличием. Хотя бы из вежливости поинтересовался, как и что. Павлуша засомневался: может, я уже успел сподобиться и молчу? Я снова уклонился: куда уж мне, учиться, мол, надоть. Ну, дело хозяйское, огорченно вздохнул друг.
В наиболее черные моменты, чтобы хоть как-то ободриться, я перечитывал бесшабашные и богохульные поучения Омара Хайяма. Казалось, это способствовало «философскому отношению» к жизни.
Внезапно мой друг остановился, взглянул на косматую тину, которая полоскалась у гранитных плит в белесой воде и распространяла сладковатый дух, и высказался в том смысле, что, дескать, конечно, мне необычайно повезло.
– Ты счастливый человек!
Ну как же! Оказаться вдвоем в одной квартире с такой женщиной. Совершенно по-свойски, по-соседски. Об этом мог мечтать любой. Понимаю ли я это сам? Теперь ничего проще, нужно «лишь просто пойти и залезть к ней в постель…»
Удивительно, именно это пришло Павлуше в голову в этот момент в голову! И он говорил о ней, о Наталье. Что-то пошлое было в это совсем не подходящем слове – «соседка»… Некоторые слова лучше вообще не произносить. Но формально так оно и было.
Мой друг говорил о том, что мы оба понимали без слов. Например, прекрасно помнили однажды подслушанный разговор между нашими мамами. «А ты не боишься, – поинтересовалась Тетя Эстер у моей мамы, – что Наталья соблазнит мальчика?» На что моя мама, беспечно рассмеялась: «Хоть бы и так! Она чудесная женщина. Я была бы только рада!..» Но это было сказано в шутку. Если в этом заключалась хоть какая-то возможность, мама, конечно, сочла бы это чем-то вопиющим. А ведь я практически признавался ей в своем чувстве к Наталье. Когда она выспрашивала, какого типа женщины мне «вообще нравятся», я пожимал плечами. «Ну, например, вроде нашей Натальи?» – «Где-то так…» Пока мама была жива, об этом не могло быть и речи. Но ее смерть сняла «запрет». И от одной этой мысли я чувствовал себя ничтожеством. Даже от Павлуши интуитивно оберегал эту мысль.
Моему другу ситуация представлялась предельно простой. И никаких терзаний.
«А что, она – классная чувиха!» – сказал он и даже вздохнул.
И снова я испытал странное, двойственное чувство. Он попал совершенно в точку. У меня чесались руки влепить ему оплеуху. Мог бы быть поделикатнее, вообще, не лезть не в свое дело. С другой стороны, что в этом обидного? Перед самим-то собой я же не кривил душой. Сам бог велел ее иметь, тянуть, трахать, дрючить и т. д. И она впрямь классная баба. К тому же Павлуша и не думал иронизировать. Просто несколько грубовато и прямолинейно обозначил этот очевидный факт. Мы с ним еще и не о том с ним говорили, и выражений, понятно, не выбирали. До чего ж странно это все!..
Ситуация напомнила эпизод из детства. Однажды мы играли во дворе, втыкая в расчерченную землю перочинные ножи. К дому подъехала наша машина. Из нее вышла моя мама и ее хороший знакомый, «дядя Володя». Кстати, последний мне очень даже нравился. В случае чего не прочь называть «папой». Мама ласково называла его Володенькой. Я подбежал поздороваться, спросить разрешения погулять еще. Мама охотно разрешила. Вернувшись к Павлуше, я радостно сообщил, что мама разрешила. «Пока они с дядей Володей, – я повторил ее слова, – поговорят о делах». Тут Павлуша подмигнул и, хлопнув по меня плечу, кивнул с усмешкой: ну да, знаем, мол, какой это «дядя» и какие у них «дела». «Что-что?!» – пробормотал я. Не то чтобы я еще совершенно был не сведущ в этих вопросах, но мне как-то в голову не приходило, что это может касаться моей собственной мамы…
Да что там я!.. Я знал одного мальчика, который чуть не до двенадцати лет был убежден, что совокуплением – этим омерзительно грязным занятием – грешат одни лишь проститутки. До того его мамочка заморочила ему голову, оберегая дитятю от скверны окружающего мира. Так вот однажды один наш приятель, исключительно в целях просвещения, принялся разъяснять, что и его мать занимается тем же самым. Или, по крайней мере, занималась. Иначе он вообще не смог бы тогда родиться. То есть исходя из примитивной логики и физиологии. Тут наивный мальчик врезал «просветителю». Да так, что едва не выбил ему глаз. А потом еще и на себя едва не наложил руки.
Что касается меня, то, ради дружбы, я был готов сделать вид, что не понял, на что намекает Павлуша. Хотя чувствовал, что это попахивает предательством по отношению к маме. Несмотря на то, что в тот момент мне было лет десять, я уже имел кое-какое понятие, что некоторые вещи звучат оскорбительно и что в определенных ситуациях, если ты хочешь себя уважать, нужно давать по физиономии. Но, во-первых, еще никогда и никому в жизни я не бил по лицу, а во-вторых, Павлуша был моим лучшим другом, практически родным человеком. К тому же я был немного старше, а в тот момент это было весьма немаловажно в представлении детей о возрастной иерархии. Он и сам видел, что сболтнул лишнего. Но мой озадаченный и, надо думать, довольно глупый вид спровоцировал на продолжение. Он сделал соответствующий жест, красноречиво пощелкав указательным пальцем, по большому пальцу другой руки. «Дурак!» – выпалил я, в ярости погнавшись за ним. Я был старше, но он всегда бегал быстрее меня. Он вообще бегал очень быстро. Потом, слоняясь по двору, я нашел его перочинный ножик и хотел забросить его в Москва-реку. Но не стал этого делать. Мама была влюблена в этого своего знакомого. Видимо, несмотря на то, что была «однолюбкой». И он был в нее влюблен. Искренние и, в сущности, незамысловатые люди. Может быть, потому, что ее переполняло это чувство, а может быть, потому что ее мучила совесть, как я, ее сынок, на это посмотрю, а может быть, просто вдруг решила, что мне пора это понять, – в общем, попыталась объяснить мне на их примере, что такое любовь. Чтобы я ни с чем ее не спутал. То есть само это чувство. Наверное, ей казалось, что она объясняет очень понятно. Это такое невероятное ощущение, объясняла она, когда у кого-то в гостях, среди многих людей, ты вдруг коснешься руки другого. Просто коснешься его руки, – и, внутри у тебя вдруг все похолодеет, перехватит, «сопрет» дыхание, и вы оба сразу «все» поймете, как будто знали друг друга уже сто лет.
Я чувствовал, что не могу злиться на Павлушу. В общем, одной стороны, я был рад, что не ударил его, а, с другой, был себе противен, словно действительно совершил что-то вроде предательства, не ответив на оскорбление моей мамы.
Мне хорошо запомнился этот эпизод еще и потому, что той же ночью мамин знакомый остался у нас ночевать. Я притворился спящим, и мне действительно удалось увидеть то, на что намекал Павлуша.
Это было как в тумане. Я наблюдал за ними из-за кресла, которое мама нарочно поставила вместо ширмы между нашими постелями. «Наконец-то ребенок заснул». Сдавленные вздохи, горячий шепот. Задранные вверх и ритмично качавшиеся согнутые в коленях ноги. Колесо жизни. Я еще не знал, что за такое любопытство можно поплатиться. Например, превратившись в соляной столб. Необыкновенное зрелище, до того меня потрясло, что я едва дождался его окончания. Словно внезапно проснувшись, я стал звать маму. Мне сделалось дурно, стало рвать. Напуганная мама решила, что я отравился пельменями. Дядя Володя в панике убежал.
Кстати, он был женат, этот дядя Володя, и, несмотря на всю свою любовь к маме, не смог бросить жену, потому что очень любил дочь, а жена обещала дать ему пощечину (расцарапать лицо) прямо при дочери, если ему только придет в голову уйти из семьи.
По странному совпадению буквально через несколько дней мама рассказала мне, что была у врача, и тот сказал, что она заболела такой болезнью – раком, очень нехорошей, – и что нужна операция. Мама взяла мою руку, чтобы я потрогал шишку у нее под теплой левой грудью, и я действительно нащупал перекатывавшийся и бугристый, словно земляной орех, метастаз. Резать и потрошить станут здесь. Кажется, она и сама никак не могла в это поверить. В конечном счете, тело всего лишь биологическая машина. Там еще был свежий след от иглы, которой делали вытяжку (пункцию) и пятно йода. На маме был красивый мохеровый свитер и тонкие капроновые колготки, под которыми ничего не было. То есть не было трусов. Поэтому каштановый заросший участок с волосами, плотно прижатыми тугой материей, заметно выделялся и раздваивался…
Потом, помню, мама ходила еще к какому-то профессору на осмотр – подтвердить диагноз, чтобы уж наверняка, за деньги, по знакомству. Я пришел из школы, нашел ее восторженную записочку: «Сереженька! Я уехала к бабушке. Вернусь завтра. P.S. Была у профессора. Ура! Я совершенно здорова! Гречневый супчик в холодильнике. Целую, мама»… Ох, уж мне этот гречневый супчик…
Интересно, куда она, «совершенно здоровая», отправилась на самом деле – к любимому мужчине Володеньке?
И куда их девают, эти куски иссеченной плоти, не на помойку, не собаки же их растаскивают, в самом деле?
Тогда на набережной я покосился на друга и почувствовал, что тот, конечно, избегает касаться произошедшего. Только дежурное: «Ну, как ты?..», требовавшее от меня дежурного же ответа: «Нормально». Я и сам не знал, что это значит для меня. По крайней мере, острой душевной боли я не испытывал. Если честно, вообще никакой боли. Может, было бы лучше, если бы друг поинтересовался, как, мол, и что конкретно. Поболтали о том, о сем, как будто ничего особенного не случилось. «По-мужски». Именно я старался держать так. Потом болтать стало не о чем.
Мы остановились на мосту, смотрели на слегка дымящуюся реку и бежавшие по ней отблески солнца.
Мы жили в одном доме, на одном этаже, только в смежных подъездах, разделенных черным ходом. Я хорошо помнил день, когда мы впервые познакомились. Помнил, каким светленьким курчавым ангелочком с застенчивыми голубыми глазами был наш Павлуша в возрасте четырех или пяти лет. Взрослые подтолкнули нас друг к другу посреди большого и шумного домашнего праздника. Целая толпа набилась в комнату, и нужно было протискиваться, как в лесных дебрях. Я подмигнул Павлуше и, приподняв край жесткой белой скатерти, мы пустились путешествовать под столом на четвереньках. Я был шустрее его, и всегда верховодил. Нет, ни в коем случае не считал его хуже, слабее, глупее. Просто я был чуть старше. Зато он серьезно гордился (хотя бы этим) тем, что, когда мы усаживались по большому, у него, не то, что у меня, всегда выходили эдакие действительно громадные штуки. Разве не забавно?..
Воспоминания не имеют стыда и не спрашивают разрешения, когда приходить на ум. Да и память у меня дьявольская, как у Льва Николаича. Помню, как мычал, пытаясь что-то выразить, еще не научившись говорить. Помню, как мамочка усаживала на горшок, как описывался-обкакивался.
Потом мне пришло в голову, что ведь и Павлуша пережил смерть отца, умершего три года назад.
Я хорошо помнил дядю Гену, он мне очень нравился
Однажды, когда нам с Павлушей было лет по шесть, мы выдували на сильном морозе пузыри из слюны, сажали их на железную изгородь, и они чудесно застывали на морозе, как стеклянные. Работа была чрезвычайно кропотливая, трудная, но зато потом пузыри было так забавно давить: «хруп-хруп!». Так вот, раздавив свои пузыри, я подкрался и одним хлопком уничтожил выстроенные Павлушей. Мой друг вспылил и, схватив кусок ледышки, метнул в меня. Угодил точно между глаз. Удар был не сильный, но из рассеченной переносицы кровь ручьем полилась по лицу. По двору как раз проходил дядя Гена и, наверное, решил, что Павлуша выбил мне глаз. Он в таком гневе бросился к нам, что я до смерти испугался за своего приятеля. Но дядя Гена, подхватив меня на руки, потащил домой. Сам умыл меня и, выяснив, что ничего страшного не случилось, продезинфицировал рану перекисью и залепил пластырем. Я лишь умолял не наказывать, не бить Павлушу. Я совершенно напрасно беспокоился. Дядя Гена вздохнул, а затем, рассмеявшись, махнул рукой. Несмотря на всю свою горячность, он, конечно, не тронул бы Павлуши и пальцем. Потом он еще часто шутил, показывая на оставшийся у меня на переносице маленький белый шрам: «Эге! Это теперь тебе память на всю жизнь – о лучшем друге детства!..»
Наши отцы вместе учились, потом работали в военной академии, были большими приятелями, и вообще когда-то наши родители очень дружили. От академии, как перспективный специалист, мой отец получил комнату в нашем доме. Тогда еще никто не называл нашу квартиру грязноватым словом «коммунальная». Квартира называлась светло и просто – «общая». Как и мой отец, дядя Гена был «кадровый» офицер, умница, очень талантливый, перспективный военный инженер-электронщик. Насколько начальство считало его перспективным, можно судить хотя бы по тому небывалому факту, что им сразу выдели не комнату, как нам, а отдельную трехкомнатную квартиру. Словно семье какого-нибудь генерала. Правда, они вселились значительно позже нас. У них уже был Павлуша, и, кажется, еще «ожидался» ребенок. Главным, конечно, был талант дяди Гены, который приносил, и уже принес, огромную пользу обороноспособности страны. До сих пор у меня на полке стояла специальная «полусекретная» книжка по лазерным технологиям с его статьей, якобы, имевшая отношение к новому оружию.
Кстати, нас, детей, он учил еще более важным технологиям. Например, как обертывать головки спичек фольгой, непременно с бумажной прокладкой, поджигать, чтобы спички выстреливали, как настоящие ракеты.
Он был высокого роста, искренний, веселый человек. Вдобавок, неукротимый буян и пьяница. Заводился с полуоборота. Возможно, кое-какие его выходки отдавали свинством или первобытной глупостью, но нас, детей, это смешило ужасно, казалось геройством, ухарством. Папа, кстати, старался не отставать. Как-то ночью в проливной дождь, напившись у нас дома, приятели вскарабкались на подоконник, такая им пришла фантазия, и поливали вниз прямо с девятого этажа вместе с дождем, якобы на свежем воздухе. В другой раз, заспорив об особенностях стилей пловцов, не то «кроля», не то «баттерфляя», отправились на набережную Москва-реки и стали наперегонки плавать в мазутной воде до бакена. А потом, схватив под мышку свою офицерскую форму (они обычно носили военное), убегали по переулкам от преследовавшего их милиционера.
Мама объясняла, что если моему папе главным образом хотелось покрасоваться перед компанией, то в дяде Гене проявлялась азартность натуры в чистом виде. Различие в характерах у них была видна невооруженным глазом. На обычных спортивных забегах в родной академии, когда лишь требовалось уложиться в умеренные нормативы, дядя Гена бешено устремлялся вперед и непременно, с пеной у рта, приходил к финишу в числе первых. В то время как мой отец ленивой трусцой являлся в числе последних, лишь бы уложиться в положенный результат. Если где случалась драка, дядя Гена тут же бросался «разбираться» в самую гущу, и «фонарей» обычно ему успевали навешать больше всех. В то время как мой отец, не то чтобы трусоватый, успевал снять и спрятать очки аккурат к завершению драки.
Еще мама рассказывала, как однажды дядя Гена подрался в баре высотной гостиницы «Украина» с каким-то негром, настоящим негром, черным, как пушка, до синевы, нарочито стряхнувшим пепел от сигареты ему в блюдечко. Нас же воспитывали не расистами. Негры – это наше все. Но по слухам они все-таки были особенный народ: обыкновенную селедку жарили на сковородке «и ели», а то и прямо в метро у колонны надменно справляли нужду. И полной эрекции у них никогда не случалось, а потому и прилегание и изгиб в женском лоне какой-то физиологически особенно выгодный, сладострастно провоцирующий. Нет, не расистами же. За эту драку дядю Гену исключили из партии, что было равноценно гражданской казни, а затем и из академии поперли. Открытий давно не делал, что ли. Хотя многие, даже из высокого начальства, сочувствовали. Да и не первый раз попадался. Не помогли и секретные разработки, не спас талант электронщика. Хорошо еще квартиру не отобрали.
К моей маме дядя Гена относился с бережной нежностью, называл отца дураком и таким сяким, променявшим ее на «какую-то». Частенько заходил к нам посидеть, по-дружески, нисколько не смущаясь, даже после того как мои родители развелись. Он любил изливать ей душу пьяный. Не жене. А мама, в свою очередь, называла таким сяким его – что пропивает талант. Мама любила папу, который ее бросил, а дядя Гена любил тетю Эстер, свою жену, которая, между прочим, изрядно погуливала. Мама всегда принимала дядю Гену с улыбкой, даже когда тот стал ужасно спиваться. Однажды дядя Гена пришел к нам домой в шинели, в полной парадной форме офицера до того пьяным, что рухнул поперек комнаты, большой, огромный человек, из угла в угол, и его невозможно было сдвинуть. Так и лежал до самого утра, как надгробная плита самому себе. Я приседал около него на корточки и рассматривал, трогал шитые золотом и красным атласом погоны майора, золотисто-желтый с тонкими черными полосками ремень, золотую кокарду на фуражке, напоминавшие мне о моем отце, который тогда уже не жил с нами.
Какое-то время дядя Гена еще пытался продолжить научную карьеру в закрытом институте. Потом, вместо нобелевских «лазеров-мазеров», халтурил в радиомастерской. Затем и вовсе принялся лудить-паять в металлоремонте кастрюли и утюги. Потом его вообще отовсюду повыгоняли, и он ужасно опустился. Хотя деньги, которые занимал у мамы, отдавал кровь из носу. Кончилось все печально. Как-то поутру горячая тетя Эстер обнаружила его окоченелым, совсем-совсем остывшим – прямо в постели рядом с собой.
Павлуше, можно сказать, повезло. То есть что он в тот момент находился у бабушки. А потом как будто и думать забыл. Это я заплакал, когда узнал. Правда, однажды, когда смерть дяди Гены стала так сказать фактом истории, Павлуша вдруг подошел ко мне в чрезвычайном возбуждении: «Ты знаешь, мы когда-нибудь умрем!» – «Ну и что? Это ж ясно! Что об этом толковать?» – пожал плечами я. «Ну как ты не понимаешь?! – воскликнул он. Он вдруг осознал, что смертен. Несколько дней ходил в жуткой депрессии, все заговаривал об одном и том же. Может, я сам тогда еще этого не осознавал?
Как бы там ни было, я точно знал, что к собственной матери Павлуша и в малой степени не испытывает таких чувств, какие испытывал я к своей маме. Случись тете Эстер заболеть, мучаться, как заболела и мучилась она, он не переживал бы так. Не то чтобы он ее ненавидел, привязан-то он к матери был, но в целом старался держаться подальше. Основания для этого у него имелись. Она его «шибко наказывала». То есть попросту дралась. И бивала чуть не до восьмого класса. Бивала за двойки, бивала когда помогала ему готовить уроки. Сколько раз я становился этому свидетелем. Первый раз это потрясло меня почти до шока. Красный от слез, я побежал к своей маме, захлебываясь, принялся объяснять: «Моего лучшего друга избивают!» Мама сначала побежала к ним, но с полпути почему-то вернулась и стала объяснять мне про «нервную систему тети Эстер» и тому подобное.
Я, между прочим, учился немногим лучше Павлуши, особенно, в младших классах, чем ужасно расстраивал маму, – но чтобы она меня за это лупила!.. Хотя нет, припоминаю случай. Однажды сорвалась, погналась с ремнем. Кажется, хлестнула разок-другой. Потом сама же, бедная впала в истерику. Куда более ужасным наказанием (хотя немного не более действенным) было выслушивать ее упреки, бесконечные обещания, что вот, дескать, погоди, после моей смерти ты припомнишь, как огорчал свою мамочку, как укорачивал ей жизнь, но уже ничего не сможешь поделать. Жалобила до того, что уже одно ее жалкое, расстроенное лицо сводило меня с ума. Не говоря уж о том, что один вид того, как она демонстративно-неподвижно лежит на кровати, заставлял рыдать до судорог в горле, вымаливая прощение. Наверное, ей хотелось быть требовательной к сыну, как к своему мужчине. Отца-то она любила, но требовать от него ничего не умела и не могла. Я же был в ее полной власти, и она обращалась со мной, как с взрослым. Но при этом сама вела себя, как ребенок. Наверное, и правда, что матери, беспрерывно общаясь с маленькими детьми, сами как бы глупеют.
Насколько помнится, в наше просвещенное время, в век научно-технических революций и тому подобного, телесные и прочие варварские наказания применялись ко всем моим знакомым, независимо от того, считалась ли семья интеллигентной или нет. Иногда могли выставить ребенка среди ночи за дверь на лестничную площадку, якобы угрожая выгнать из дома. Иногда грозили, что сдадут в «милицию» или в мифический «детский дом». Единственный, кого за всю жизнь пальцем не тронули, не довели до слез, некий мальчик с затейливым именем Сильвестр. Да еще через «ё». Наш местный «вундеркинд». Мы его так и звали: Сильвёстр. Пожалуй, вундеркинд без кавычек. То есть окончил за несколько лет школу, поступил в университет. (Не на философский ли?!) Стало быть, родителям не за что было его и бить. Впрочем, я никогда не видел его родителей. Только вечно старенькую горбатую бабушку, бредущую через двор с бутылкой кефира в авоське. Зато самого Сильвестра пинали мы, жестокие дети. Он тогда еще пытался выходить погулять во двор, всегда с книжкой. И почему-то зимой и летом обязательно в кедах. Его, неловкого и нелепого, обязательно вываливали в пыли или в снегу, доводили до слез, до беспомощного бешенства. Я учился с ним в первом классе всего неделю, но помню, как мы над ним измывались. Помнится, во время школьного завтрака я сам засунул ему в чай творожный сырок с изюмом, прямо в обертке. Зачем? Бог его знает!.. Сильвестр и теперь, защитивши в шестнадцать лет не то кандидатскую, не то докторскую диссертацию, спешил по двору, непременно с книжкой под мышкой, непременно бегом, в тех же кедах. И все опасливо озирался по сторонам, словно боялся, бедняга, что на него и теперь вот-вот набросятся какие-то злые дети, начнут шпынять, пинать…
Что же касается Павлуши, то мой друг не мог простить своей матери не те побои за двойки, а то что, однажды она отлупила его его же любимой игрушкой – резиновым крокодилом. За что? На этот раз практически за дело. За то, что за родителями подглядывал. Нет, его нисколько не затошнило от увиденного. Кстати, избитый, Павлуша привязал петлю к трубе в ванной и повис в ней. Но не задохнулся, так как был худеньким и легким. Нужно было надеть валенки, шубу, набить карманы камнями. Тетя Эстер вошла как раз вовремя, вынула его из петли… и резиновый крокодил снова пошел в дело. Мягкий, зеленый и с маленькой кнопкой-свистулькой на желтом резиновом пузе. Словом, ремень и тумаки Павлуша переносил почти бесчувственно, с иронией уверял, что ему ничуть не больно, а вот к крокодилу привязался… Стало быть, и мой любимый дядя Гена тогда его не защитил. А ведь был еще жив-живехонек.
Лет в тринадцать мой друг повторил «прикол» в ванной. Но на этот раз устроил своего рода жестокую клоунаду. Подвесился к трубе понарошку, за ремень, пропущенный под мышками, да еще, когда мать вошла, стал зловеще покачиваться из стороны в сторону, вывалив язык, как будто действительно удавился. Мать завопила от ужаса. Тогда он задвигал руками и ногами, засмеялся: «Пошутил, пошутил! Это же шутка!..» После этого она уже не трогала его.
Но он продолжал ее ненавидеть и был поразительно циничным. Мог говорить о матери кошмарные вещи. Например: «Захожу я к ней в комнату, вижу, лежит на диване, не шевелится, как будто не дышит, думаю: неужели, наконец, сдохла? Пошел, врубил музон, а она подскочила, разоралась…» Меня коробило от этих слов, но делать замечания было бесполезно. В то же время самому Павлуше было бы неприятно, если бы и я или кто-то другой сказал о тете Эстер нечто подобное. Несмотря на напускной цинизм, в его глазах вспыхивал огонек благодарности, когда я стыдил его, защищал ее, убеждая его, что он не должен так говорить о маме, что я где-то слышал, что, якобы, дети, которых били в детстве, во взрослом возрасте, напротив, весьма благодарны родителям…
Самое странное, теперь я почти завидовал этой его черствости. Он был свободен от привязанности. Как тот сочинитель, который с большим вкусом и изяществом описывал, как, предварительно изнасиловав и всячески надругавшись, прокручивал собственную маму через мясорубку и, слепив из ее фарша котлеты, поедал. Сделать боли больно? Казалось, это лучше, чем так переживать и страдать, как переживал и страдал я. Не мешало б быть чуточку потверже, «побесчувственнее». Но как спастись от удушающего горя? Может быть, разозлить себя воспоминанием о том, как усердно мама подыскивала Наталье «хороших мужчин»?..
Потом состоялись эти странные похороны. Я успел наглотаться успокаивающих таблеток, заботливо предложенных Натальей, поэтому очертания всего были странно искаженными.
Параллелепипед крематория напоминал модернистский храм. Хищно, словно взасос, разверзнутые дверные проемы втягивали в себя белизну и синеву – весь ослепительный, пресветлый полдень вместе с высоким небом и растрепанными свитками облаков.
Приехать-то я приехал, но войти казалось невыносимым. Я, было, запнулся на пороге, но Наталья, помогая, поймала и сжала мою ладонь. Кажется, я вздрогнул – таким неожиданным и крепким было это дружеское пожатие. И мы вошли внутрь вместе.
В глубине сумрачного помещения, под отвратительно бесцветными сводами толпились прощающиеся. Мероприятие уже шло. На узком гранитном подиуме стоял небольшой, будто колыбель, гробик, обитый красно-черными лоскутами.
Мы приблизились. Мои глаза привыкли к освещению. Среди невнятно прорисовывавшихся знакомых (и не очень) лиц я разглядел человека зрелых лет с простым хорошим лицом. Ясная догадка: нет, не так просто, неспроста он пришел. Необыкновенно голубые глаза за массивными роговыми очками смотрели на меня прямо и с откровенным интересом. Мне понравилась естественность и скромность его позы. Но было в нем и что-то значительное. Не во внешности, нет. Что-то не формулируемое.
Ни с того, ни с сего подумалось, что вот так же мог прийти на похороны и отец. Впрочем, никакого внешнего сходства. Наверное, кто-то из знакомых. Сослуживец Натальи, что ли. Когда-то где-то я его уже видел.
– Где-то я видел эти очки, – шепнул я Наталье. – Не во сне же…