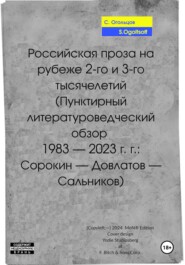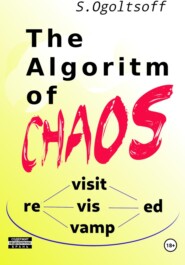По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Или же мы просто бегали туда-сюда, играя в Войнушку, с криками «ура!», «та-та-та!»
– Та-дах! Та-дах! Я тебя убил!
– Знаю! Просто я ещё при смерти!
И ещё долгое время номинально павший боец будет бегать при смерти рысью, вы-та-та-кивать предсмертные обоймы и разве что уракать потише, если, конечно, мальчик понятие имеет про порядочность, прежде чем упасть в конце концов, с непогрешимо театральным смаком, на траву где погуще.
Для игры в Войнушку нужен автомат выпиленный из куска дощечки. Хотя некоторые мальчики играли автоматическим оружием из чёрной жести – покупкой из магазина. Таким автоматам требовалась спецамуниция из скрученной в тугой рулончик бумажной ленточки с насаженными вдоль неё крапушками серы. Пружинный курок ударял по такой крапушке и та громко бахала, а полоска заправленной в автомат ленты автоматически продвигалась дальше, подтягивая свежую на место бахнутой… Ну а мне Мама купила жестяной пистолет и коробку пистонов – мелких бумажных кружочков с теми же крапушками, только их приходилось закладывать вручную после каждого выстрела. А когда бабахнет, из-под курка всплывал крохотный дымок с кислым запахом.
Однажды я в одиночку бахал в куче песка возле Мусорки и мальчик из углового здания попросил подарить пистолет ему. Незамедлительно отдал я оружие, ведь так правильно – он сын офицера, оно ему нужнее и больше полагается, чем мне…
Мама ни в какую не хотела верить, будто мальчик способен отдать свой пистолет другому так запросто. Она требовала, чтобы я сказал настоящую правду и признался, что я потерял Мамин подарок. Но я упрямо стоял на своей. Ей даже пришлось отвести меня в квартиру того мальчика в угловом здании. Офицер стал стыдить своего сына, но Мама начала извиняться и просить прощения, потому что она просто хотела проверить и добиться, чтобы я не врал.
~ ~ ~
В то лето мальчики нашего Двора начали играть желтоватыми гильзами настоящего стрелкового оружия, которые отыскивали на стрельбище в лесу. Мне очень хотелось увидеть какое оно, это стрельбище, но старшие мальчики объяснили, что туда можно лишь в особые дни, когда не стреляют, а по остальным просто прогонят и всё.
Особый день пришлось долго ждать, но он всё же наступил и мы пошли через лес… Стрельбище оказалось широкой-преширокой поляной с глубоким рвом, но в одном углу получается спуститься на дно. Дальнюю стенку рва закрывал высокий барьер из брёвен, весь исклёванный пулями, а на нём пара забытых мишеней – листки бумаги с изрешечёнными контурами человеческой головы на плечах.
Мы искали гильзы в песке под ногами. Попадались только два вида: продолговатые с зауженной шейкой гильзы от Автомата Калашникова и мелкие прямые цилиндрики пистолета ТТ. Находки приветствовались громким криком и тут же шли в обмен на что-то ещё. Мне совсем ничего не попадалось и я только завидовал находчивым мальчикам, чьи громкие крики как-то гасли в жутковатой тиши стрельбища недовольного нашим приходом в запретное место…
Недалеко от глубокого рва проходила короткая траншея линии фронта, чьи песчаные стенки удерживались щитами из досок. Узкоколейка железных рельсов тянулась из конца в конец поляны, чтобы по ним каталась вагонетка с фанерным макетом большого зелёного танка, когда его тянет трос ручной лебёдки, поперёк фронтовой траншеи.
Мальчики начали играть этим всем. Я тоже посидел разок в траншее, пока над головой проедет фанерный танк громыхая вагонеткой. Потом меня позвали на край поляны, где нужно было помогать.
Мы подтягивали трос поближе к горизонтальному блоку, через который он пробегал, чтобы у мальчиков на другом краю поля боя легче бы крутилась лебёдка и танк бегал быстрее. В один момент я зазевался и не успел отдёрнуть руку вовремя; стальной трос закусил мой мизинец и втащил в ручей блока. От боли в заглоченном пальце из меня выплеснулся пронзительный крик и фонтан необузданных слёз. Услыхав мои истошные «у-ю-юй!» и как другие мальчики кричат «Стой! Палец!», крутившие лебёдку смогли остановить её, когда мизинцу оставалась какая-то пара сантиметров до освобождения из проворачивающегося блочного колеса. Они стали крутить кривой рычаг в обратном направлении, протаскивая бедный палец туда, где он в самом начале попал под трос.
Безобразно сплющенный, смертельно побледневший палец измазанный кровью лопнувшей кожи медленно высвободился из пасти блока и мгновенно вспух. Мальчики перевязали его моим носовым платком и велели бежать домой. Быстрей! И я побежал через лес, чувствуя горячие толчки пульса в пожёванном пальце…
Дома, Мама ничего не спросила, а сразу приказала сунуть раненного под струю воды из кухонного крана. Она несколько раз согнула его и выпрямила, и сказала, чтобы я мне не ревел, как коровушка. Потом она смазала палец щипучим йодом, забинтовала его в тугой белый кокон и пообещала, что до свадьбы заживёт.
(…и вместе с тем, детство никак не питомник садомазохизма навроде: «ой, мне пальчик прищемило! ай, я головкой тюпнулся!», просто какие-то встряски оставляют более глубокие зарубки в памяти.
А жаль однако, что та же самая память, кроме текущих наказов забрать стирку из прачечной и не забыть поздравить шефа с днём рождения, не хранит то восхитительное состояние непрестанных открытий, когда песчинка на лезвии перочинного ножа полна галактик, которым несть числа, когда любая чепушинка, осколок мусорный, неясный шум в приложенной к уху морской ракушке есть обещаньем и залогом будущих далёких странствий и невообразимых приключений.
Мы вырастаем, обрастая защитной бронёй, панцирем необходимым для преуспеяния в мире взрослых—докторский халат на мне, на тебе куртка ГАИшника. Каждый из нас нужный винтик в машине общества. Всё лишнее—замирание перед огнетушителями, разглядыванье лиц в морозных узорах на стекле кухонного окна—отстругнуто.
Сейчас на моих пальцах различится не один застарелый шрам. Этот вот от ножа – не туда крутанулся, тут топором тюкнуто, и только на моих мизинцах чисто, нет и следа от той трособлочной травмы. Потому что «тело заплывчиво»…
Но – эй! Слыхал я поговорки поновей, совсем недавно и очень даже в точку пропето кем-то: «лето – это маленькая жизнь»…)
В детстве, не только лето, но и всякий день – это маленькая жизнь. В детстве время заторможено, оно не летит, не течёт, оно не шевелится даже, покуда не подпихнёшь. Бедняжки детишки давно б уж пропали, пересекая эту бескрайнюю пустыню недвижимого времени, что раскинулась в начале их жизней, если б их не спасали игры.
А в то лето, когда игра надоедала, или не с кем было играть во Дворе, у меня появилось уже прибежище посреди пустыни, как бы «домик» в Классиках. Оазисом служил большой диван со спинкой и валиками подлокотников, вот где жизнь бурлит приключениями, которые переживаешь с героями книг Гайдара, Беляева, Жуля Верна… Хотя для приключений годится не один только диван. Например, балкон в комнате родителей, где однажды я провёл целый день за книгой про доисторических людей – Чунга и Пому.
На них росла шерсть, как у животных и жили они на деревьях. А потом ветка обломилась, но помогла спастись от саблезубого тигра, поэтому они стали всегда носить при себе палку вместо того, чтобы прыгать по деревьям. Потом был большой пожар в джунглях и началось Похолодание. Их племя бродило в поисках пищи, учились добывать огонь и разговаривать друг с другом.
В последней главе уже постаревшая Пома не смогла идти дальше и отстала от племени. Её верный Чунг остался – замерзать рядом с ней в снегу. Но их дети не могли ждать и пошли дальше, потому что они уже выросли и не были такими мохнатыми, как их родители, и они защищались от холода шкурами других животных…
Книга была не особо толста, но я читал её весь день пока солнце, поднявшись слева—из-за леса позади домов квартала—неприметно продвигалось в небе над Двором к закату справа – за соседним кварталом.
В какой-то момент, устав от безотрывного чтения, я протиснулся между стоек под перилами вокруг балкона и начал расхаживать по бетонной кромке снаружи. Это вовсе не страшно, ведь я крепко хватался за железные прутья ограждения, как Чунг и Пома, когда они жили ещё на деревьях. Но какой-то незнакомый дядя проходил внизу, отругал меня и сказал сейчас же вернуться на балкон. Он пригрозил даже сказать моим родителям. Только они на работе были и он наябедничал соседям снизу. Вечером они всё рассказали Маме и мне пришлось пообещать ей никогда-никогда так не делать больше.
~ ~ ~
(…всякий путь, когда идёшь по нему впервые, кажется бесконечно долгим, ведь ты ещё не можешь соизмерять пройденное с предстоящим. При повторном прохождении, тот же путь заметно укорачивается… То же самое и с учебным годом в школе. Но я бы так и не узнал об этом, если б сошёл с дистанции в начале второго года обучения…)
Ясным осенним днём наш класс ушёл из школы на экскурсию, собирать опавшие листья для гербариев. Вместо Серафимы Сергеевны, которой не было весь день, за нами присматривала Старшая Пионервожатая школы.
Сначала она вела нас через лес, откуда мы спустились на дорогу к Дому Офицеров и Библиотеке Части, но не пошли по ней, а свернули в короткий проулок между домиками, который кончался наверху крутого обрыва. Вниз сбегали широкие и очень длинные потоки двух параллельных маршей деревянных ступеней к маленькому, с такой высоты, футбольному полю.
Когда мы спустились до самого низа, на широкую лестничную площадку тоже сколоченную из досок, то поле оказалось настоящим, а в обе стороны от площадки тянулись несколько болельщицких лавок из брусьев, совершенно пустые. На противоположной стороне никаких лавок не было вовсе, зато стоял одинокий белый домик без окон и высокий стенд картины, где пара преогромных футболистов зависли в апогее высокого прыжка увековеченные в момент борьбы за мяч ногами в гетрах различного цвета.
Девочки класса остались со Старшей Пионервожатой собирать листья между безлюдно тихих лавок под деревьями у подножия крутизны, а мальчики торопливо обогнули поле по гаревой дорожке позади ворот правой половины и гурьбой устремились к реке. Пока я добежал, четверо уже бродили, закатав штанины до колен, по бурному потоку, что скатывался через брешь в когда-то прорванной плотине, остальные любовались тесниной с берега.
Я тут бросился стаскивать ботинки и носки, закатывать свои штаны. Загодя ёжась—а вдруг холодная? – я вошёл в воду. Нет, ничего… Течение с шумом бурунилось вокруг ног, толкало под коленки, но дно оказалось приятно гладким и ровным. Мальчик, который бродил рядом в упруго бегущей воде, пояснил, перекрикивая гул струй, что это плита от бывшей плотины – ух, класс!
Так я бродил пятым, туда-сюда, стараясь не заплескать подвёрнутые штаны, но вдруг всё—плеск шумно бегущей воды, задорные возгласы одноклассников, ясный ласковый день—как отрезало. Со всех сторон сомкнулся совершенно иной, безмолвный мир пустого жёлтого сумрака, сквозь который перед самыми глазами взбегали вверх вертлявые шарики белесого цвета. Всё ещё не понимая что случилось, я взмахнул руками, вернее они так сделали сами по себе и вскоре я вырвался на поверхность полную слепящего солнца, рёва и гула воды, что хлестала меня по щекам и носу мокрыми шлепками, со странно отдалённым криком «тонет!» через забитые водою уши. Ладони беспорядочно бились о воду, пока под пальцы не подвернулся чей-то ремень брошенный с края плиты, что так коварно обрывалась под водой…
Меня вытащили за стиснутый в руке ремень, помогли выжать воду из одежды и показали широкую тропу в обход стадиона, чтобы не наткнулся на Старшую Пионервожатую и ябедных девчонок занятых сбором листьев для своих осенних гербариев.
~ ~ ~
Вид сверху на школьное здание, скорее всего, представлял собой широкую букву «Ш» без той палочки посередине, а вместо неё, но только снаружи, в уцелевшей нижней перекладине – вход. Пол вестибюля покрывали квадратики плиточек, а в двух коридорах расходящихся к крыльям здания их сменял лоснящийся паркет скользко-жёлтого цвета. Широкие окна продольных коридоров смотрели в охваченное зданием пространство, где вместо отсутствующей части буквы росли молодые сосенки, совершенно беспорядочно, в тонкокожей шелушащейся коре. В стенах напротив окон были только лишь двери—далеко отстоящие друг от друга, помеченные цифрами и буквами классов получающих своё образование за ними.
Однако в правом крыле, за поворотом в вертикальную палочку, окна имелись лишь на первом этаже, поскольку тут размещался школьный спортзал вобравший всю высоту и ширину здания. Громадный зал был на метр глубже уровня полов школы и оборудован «козлом» для прыжков через него, чему способствовал трамплин возле его задних ног, но мешал толстый, бугристо скрученный канат, что висел после него, от крюка в высоком потолке до узла за полметра от пола. В отместку, «козёл» не позволял раскачиваться на узле каната, а в поперечном направлении не пускала стена зала. Половину дальней глухой стены загораживали гимнастические брусья и штабель метровой высоты из тяжёлых чёрных матов, остальную половину стены прикрывали перекладины шведской стенки. Свисавшие в углу от потолка гимнастические кольца никому не мешали, потому что до них всё равно не допрыгнуть. А направо от входа-выхода находилась небольшая сцена спрятав за синим занавесом чёрное пианино и склад тройственных сидений, пока не понадобятся для превращения спортивного зала в зал зрительный или слушательный.
На верхний этаж вели два марша ступеней в левом крыле, из месте его преломления, и планировка второго этажа совпадала с первым, за исключением, конечно, вестибюля с никелированными вешалками для шапок и пальто школьников позади низких барьерчиков по сторонам от входа. Вот почему коридор наверху был такой длинный и сплошь паркетный, без вестибюльных плиточек на полу. В сезон ношения валенков, можно было слегка разбежаться и поскользить по гладкому паркету, если, конечно, валенки не обуты в чёрную резину калош, а в коридоре не видно никаких учителей.
Мои валенки, поначалу, ужасно натирали сзади под коленками, пока Папа не надрезал их войлок особым сапожным ножом. Он всегда знал как что делается.
Зимой в школу являешься в потёмках. Я иногда бродил по пустым классам. В седьмом навещал маленький бюст Кирова на подоконнике, заглянуть в дырку его нутра. Очень похожа на утробу статуэтки фарфорового щенка на тумбочке в комнате родителей, только пыли побольше.
В другой раз, щёлкнув выключателем на стене восьмого класса, я увидел восковой муляж яблока забытый на учительском столе. Конечно, я понимал, что фрукт не настоящий, но яблоко смотрелось таким манящим, сочным, и даже как бы светилось изнутри, невозможно удержаться, вот я и куснул твёрдый неподатливый воск, оставляя отпечаток зубов в безвкусном боку. И сразу стало стыдно, что клюнул на яркую подделку. Хотя кто видит? Я тихо выключил свет и незаметно вышел в коридор.
(…двадцать пять лет спустя, в школе карабахской деревни Норагюх, я увидел точно такой же муляж из воска, с отпечатком детских зубов, и понимающе усмехнулся – а я тебя вижу, пацан!.)
Дети любой национальности и возраста очень похожи, взять, например, их любовь к игре в прятки… В прятки мы играли не только во Дворе, но даже и дома, в конце концов, у нас постоянно налицо компания из трёх, которая часто дополнялась соседскими детьми – Зимины, Савкины жили на одной площадке с нами.
В квартире мест для прятанья не густо. Ну, во-1-х, под кровать родителей, или же… за углом серванта… или… ну, конечно! Занавесочный гардероб в прихожей. Его Папа сам сделал.
Вертикальная стойка в два метра ростом закреплённая в пол метра за полтора от угла плюс два металлических прутка от макушки стойки к стенам отграничили немалый параллелепипед пространства. Его осталось только занавесить тканью на колечках, что бегают по горизонтальным макушечным пруткам и покрыть всю конструкцию куском фанеры, чтобы пыль внутрь не слишком проникала. Самоделка-раздевалка готова! Широкая доска с колышками для пальто и всякого другое скрыта висящей до пола тканью, под вешалкой встал плетёный сундук из гладко-коричневых прутьев и осталось ещё много места для обуви…
В общем-то, прятаться почти негде, но играть всё равно интересно. Затаишься в каком-то из упомянутых мест и, сдерживая дыхание, прислушиваешься к шагам водящего…чтобы… бегом! Первым добежать до дивана, откуда начинался поиск, стукнуть по его валику и крикнуть «чур, за себя!», чтобы не водить в следующем ко?не.
Но однажды Сашка умудрился так спрятаться, что я никак не мог найти. Он просто испарился! Я даже заглянул в ванную и кладовку, хотя у нас была договорённость там никогда не прятаться. И я прощупал все пальто на колышках вешалки в занавесочном гардеробе прихожей.
Потом я открыл зеркальную дверцу шкафа в комнате родителей, где в тёмном отсеке с непонятно-приятным запахом висели на плечиках Мамины платья и Папины пиджаки, но Сашки нет как нет. Просто так, на всякий, я заглянул даже за правую дверцу, где до самого верха только ящики с кипами глаженных простыней и наволочек, кроме самого нижнего, в котором я однажды обнаружил тёмно-синий прямоугольник споротого воротника матросской рубахи, который обматывал офицерский морской кортик в тугих чёрных ножнах, что таили длинное стальное тело сходящееся в иглу острия. Через пару дней я не утерпел и под большим секретом поделился тайною с Наташей, на что она фыркнула и сказала, что знает про кортик давным-давно и даже показывала его Сашке…