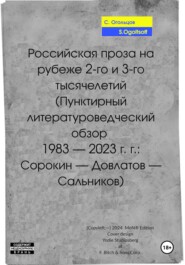По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(…моё косоглазие выровняли, глаза удерживают параллельный взгляд на вещи, только левый так и остался разфокусированным. На проверке у окулистов я не могу различить указку или палец нацеленные на букву в их таблице. Но как показала жизнь, её можно прожить и с одним рабочим глазом. Просто теперь у меня не совпадает выражение глаз, что легко заметить на фотографии прикрывая их поочерёдно—любознательное любопытство в правом сменяется мертвяще отмороженным безразличием левого.
Иногда я подмечаю подобное разночтение в портретах популярных киноактёров и про себя думаю – их тоже лечили от косоглазия или может неведомые посторонние пришельцы следят за нами через их левый глаз?.)
~ ~ ~
И снова пришло лето, но в волейбол уже никто не играл. На месте волейбольной площадки у подножия Бугорка забетонировали два квадрата для игры в городки. Там даже организовали чемпионат. Два дня обвёрнутые жестью биты хлёстко жахкали и трахали о бетон, вышибая из квадратов деревянные цилиндрики городков к барьеру из обрывистого бока Бугорка.
Как обычно, известие доползло до книжного дивана с улиточной скоростью, но я всё же не пропустил финального единоборства двух мастеров, которые могли даже с дальней позиции выбить наисложнейшую фигуру городков—«письмо»—всего лишь тремя бросками и не тратили больше одной биты на такие как «пушка», или «Аннушка-в-окошке».
Турнир закончился, а бетонные квадраты остались, где мы, дети, продолжили игру обломками окольцованных жестью бит и кусками расщеплённых городков. Но нам и такого хватало, а когда остатки тоже износились до исчезновения и бетон затерялся в высоком бурьяне, ровность под Бугорком осталась нашим излюбленным местом сбора.
Мы не только играли в игры, мы давали друг другу образование в наиважнейших вещах окружающего нас мира. О том, что если упал и ободрался, приложи к ссадине на локте или коленке лист Подорожника тыльной стороной, он остановит кровь. А стебли Солдатиков в их чешуе из мелких листиков – съедобны, так же как и Щавель, но не Конский Щавель, конечно. Или те растения на болоте с длинными листьями, обдери их до белой сердцевины и – пожалуйста. На, пожуй, сам увидишь!
Мы научались отличать кремень от других камушков и об который из остальных надо ударить кремнем, чтобы посыпались бледные искры. Точно, кремнем по этому желтоватому, будут искры и непонятный—отталкивающий, но в то же время притягательный—запах обожжённой куриной кожицы… Так, за играми и разговорами, мы познавали мир вокруг нас и самих себя в нём…
– В прятки играешь?
– Вдвоём не игра.
– Щас ищо двое подойдут с болота.
– Зачем пошли?
– Дрочиться.
Вскоре обещанная пара возвращаются, хихикают один другому, у каждого в кулаке букетик из травинок. Мне неизвестно назначение этих букетиков и я не знаю что значит «дрочиться», но по всхрюку, которым мальчики обычно сопровождают это слово, можно догадаться, что речь о чём-то стыдном и неправильном.
(…всю свою сознательную жизнь я был поборником правильности. Всё должно быть правильно и по правилам. Любая неправильность, всё, что не так как надо, мне против шерсти. Если, скажем, подсвинок с наглым визгом сосёт вымя коровы, меня так и подмывает их разогнать… А корова тоже хороша! Стоит себе, такая вся безропотно покладистая, будто и не знает, что молоко – телятам, ну и для людей…)
Поэтому я упираю руки-в-боки и встречаю подошедших упрёком в вопросительной форме: —«Ну что? Подрочились?»
И тут я узнаю?, что сторонникам правильности порой лучше помалкивать. К тому же, какой стыд, что я такой слабак и меня так запросто можно свалить в нежданной драке…
В футбол играли на заросшем травой лугу между Мусоркой и Бугорком. Прежде всего определяются Капитаны – кто постарше, повыше и поголосистее при пререканиях. Потом мальчики расходятся попарно в стороны, чтоб сговориться:
– Ты «молот», а я «тигр», лады?
– Нет! Я «ракета», а ты «тигр».
Условившись о временных кличках, они возвращаются к предстоящим Капитанам и предлагают тому, чья очередь, выбор:
– Кто в команду, Ракета или Тигр?
Людские резервы поделены, игра начата. Как я хотел стать Капитаном! Таким, чтоб все мальчики просились бы в мою команду! Но мечта оставалась всего лишь мечтой… Я азартно рысил сквозь траву, от одного края поля до другого. Я отдавал всего себя отчаянной борьбе, самоотверженный, готовый на всё ради победы. Просто мне никак не удавалось дотянуться до мяча. Иногда он сам катился ко мне, но прежде чем изловчусь пнуть его хорошенько, налетает рой «наших» вперемешку с «ихними»—бац! – и мяч отбит далеко в поле… И я опять перехожу на неуклюжую рысь, вперёд и обратно, кричу «Пас! Мне!», но никто не слышит и все тоже кричат и бегают за мячом и игра катится без моего, фактически, участия…
~ ~ ~
Посреди лета вся наша семья, кроме Бабы Марфы, отправилась в город Конотоп Сумской области на Украине, на свадьбу Маминой сестры Людмилы и молодого (но скоропостижно лысеющего) Чемпиона области по тяжёлой атлетике в первом полусреднем весе, Анатолия Архипенко из города Сумы.
Грузовик с брезентовым верхом вывез нас через КПП—белые ворота в двойном заборе из колючей проволоки, что окружал всю Зону—на железнодорожную станцию Валдай, где мы сели на поезд пригородного сообщения до станции Бологое. Там у нас была пересадка. Вагон оказался совершенно пустым, одни только мы на жёлтых скамьях вдоль зелёных стен по обе стороны от центрального прохода. Мне нравилось покачивание вагона в такт с громыханьем колёс на стыках рельс под полом. И нравилось смотреть как за окном набегали и тут же отставали столбы из тёмных брёвен, по их перекладинам скользил бесконечный поток проводов провисая от одного к другому плавно книзу—плавно вверх, промелькивает следующий и снова плавно книзу—плавно вверх, и снова, и снова, и снова… На остановках наш пригородный терпеливо ждал, уступая путь более скорым и важным поездам, и тихо трогался, когда утихнет гром, стук и грохот пронёсшихся мимо.
Одна особенно затяжная стоянка случилась на станции Дно, чьё имя я прочитал под стеклом вывески на её зелёной будке из ёлочно прибитых досок. И только когда мимо пропыхкал одиночный паровоз, пряча будку в завесе дыма и неспешно раздвигая своим длинным телом клубы своего же белого пара, наш поезд дёрнулся ехать дальше.
(…я вспомнил ту станцию и чёрно-влажный отблеск паровоза пронзающего выхлопы молочно-белых клубов пара, когда прочёл, что на станции Дно Полковник Российской армии, Николай Романов, подписал своё отречение от Царского престола… Только этим он не спас ни себя, ни свою жену, ни детей их Царской семьи поставленных спиной к подвальной стене для расстрела, а кто не погиб при залпе, тех добивали на полу штыками.
Ничего этого я не знал, сидя в пригородном поезде возле убогой станционной будки. Не знал и того, что разницы нет, знаю ли я это или не знаю. Хоть так, хоть эдак, всё это часть меня. Я по обе стороны тех штыков и винтовок.
Как хорошо, что не про всё мы знаем в детстве…)
Большинство домов вдоль улицы Нежинской в городе Конотопе стоят чуть отодвинувшись, отгородившись от дороги своими заборами, что отражают уровень зажиточности домовладельца, а также основные этапы и технологии местного заборостроения. Однако заборная разношерстица по левой стороне кратко прерывалась стеной Номера 19, побелке сто лет в обед вокруг пары окон в облупившейся (вероятнее всего зелёной в своё время) краске и четырёх дощатых ставен (по 2 на каждое) для запирания окон на ночь. Неукоснительная традиция блюлась со времён послевоенно-бандитского лихолетья. Если не раньше.
Чтобы попасть в дом № 19, для начала нужно зайти в калитку из высоких, серых от старости досок, бок о бок с воротами из того же материала, но чуть пошире и вечно на запоре. Вошедшему следовало знать также который из четырёх входов ему, собственно, нужен. Четыре двери идентично располагались по бокам двух глухих верандах из доски «вагонки», примыкавших к дому между четырёх окон, разделяя их по системе 1–2 – 1.
Веранда рядом с калиткой, обе её двери по её обе стороны, как и половина всего дома, принадлежала тогда Игнату Пилюте и его жене Пилютихе, а следовательно – это их окна смотрели на улицу Нежинскую. Вагонку второй веранды оплетал Виноград в густых тёмно-зелёных листьях и редких гроздьях мелких шариков неясного назначения, но ощутимо твёрдых. Глухая дощатая перегородка разделяла вторую веранду изнутри на две продольные секции, по одной для каждого из остальных домовладельцев. Двух, разумеется.
Дом, он же хата, нашей бабушки, Катерины Ивановны, состоял из полутёмной веранды-прихожей, за которой шла кухня с окном обращённым на две ступеньки в межверандном закутке перед входом в хату, и с кирпичной плитой-печкой под стеной напротив, рядом с которой оставалось ещё место для одной из створок двери постоянно открытой в единственную комнату хаты. Пространство между белёных стен комнаты с утра до вечера тонуло в лимбо-сумраке, что просачивался через окно из непроглядной тени под Вязом-великаном в Пилютиной части палисадника в два метра шириной. По ту сторону невысокого палисадного штакетника та же тень затмевала половину двора Турковых из Номера 17.
Обогнув дальний угол второй веранды, посетитель выходил на четвёртую, заключительную, дверь дома, за которой находилась хата стариков Дузенко. Их часть состояла из такой же последовательности веранды-кухни-комнаты, как и в хате Бабы Кати, но имела два дополнительных окна из-за симметричной планировки – окна Пилют на проезжую улицу требовали, чтоб с противоположной стороны дома два окна смотрели бы в общий двор.
Два могучих Американских Клёна с острыми концами пальцев в каждой пятерне их листьев росли во дворе, по одному перед каждым из дополнительных окон Дузенко. Промежуток между стволами деревьев заполнялся широким и рослым (метра в полтора) штабелем красного кирпича, наполовину искрошившегося от древности, который старик Дузенко держал всю свою жизнь для возможной реконструкции своей хаты в каком-то из неопределённо будущих времён.
Через шесть метров за кирпичным бруствером соединившим Американские Клёны (и параллельно ему) тянулась глухая стена сарая из серых-до-тёмного досок, с глухими дверями за солидными, но ржавыми висячими замками. Их владельцы держали там топливо на зиму, дрова и сыпучий уголь «семечки», а в топливном отсеке Бабы Кати жила ещё и свинья Машка в крепко пахнущей загородке.
Напротив веранды обросшей бесплодным Виноградом рос ещё один неприступный для лазанья Вяз, а высокий забор под ним отделял от соседей в Номере 21. Рядом с Вязом стоял сарайчик оштукатуренный (но очень давно) смесью глины, навоза и резанной соломы. Висячий замок на двери служил залогом безопасности земляного погреба Пилют за нею. Сарай из голых досок над погребом Дузенко стоял ещё дальше от улицы и как бы продолжал собою длинный сарай с запасами топлива, но не впритык – их разлучил проход в огороды домовладельцев.
Между двух сараев-погребников находилась дощатая халабуда—с односкатной крышей и без висячего замка—над земляным погребом Бабы Кати. Деревянный квадрат крышки покрывал вертикальный шурф, в чью тёмную трёхметровую глубину уходила лестница из брусьев приставленная к одной из тесных земляных стен. На дне, свет фонарика обнаруживал четыре ниши углублённые на все четыре стороны от ног лестницы. Там хранилась картошка и морковь на зиму, и бурак тоже, потому что мороз не мог добраться до запаса овощей на такой глубине.
В углу образованном погребником Дузенко и халабудой Бабы Кати стояла будка пегого пса Жульки прикованного к его дому. Он звякал своей длинной железной цепью, хлестал её о землю и остервенело лаял на всякого вошедшего во двор незнакомца. Но я подружился с ним в первый же вечер, когда (по совету Мамы) вынес и высыпал в его железную тарелку остатки еды после ужина…
Свои совсем седые и слегка волнистые волосы Баба Катя обстригала до середины шеи и держала их там в охвате гнутым пластмассовым гребешком. Чёрные и округлые (как бы распахнутые испугом) глаза вполне подходили её чуть смугловатому лицу с тонким носом. Но в сумрачной комнате за кухней, на одной из трёх глухих стен висел фотографический портрет женщины в аристократически высокой причёске чёрных волос и в галстуке (по моде завершающего периода Новой Экономической Политики в конце 20-х) – это Баба Катя в её молодые годы, когда имела отдельную пару туфлей для каждого из своих платьев. Рядом с ней висело настолько же большое фото мужчины с тяжёлым Джек Лондоновским подбородком, в пиджаке поверх рубахи косоворотки – так выглядел её муж Иосиф на должности Областного Торгового Ревизора до его ареста и ссылки на север и внезапной пропажи совпавшей с отступлением Немецких войск из Конотопа…
Гостить у Бабы Кати мне понравилось, хотя тут не было ни городков, ни игры в футбол, а только ежедневные прятки с детьми из соседних хат, которые тебя ни за что не найдут, если спрячешься в Жулькину будку… Поздним вечером на деревянном столбе возле угла соседней улицы зажигалась электрическая лампочка, чей желтоватый свет не в силах был превозмочь темноту даже на дороге под собою. Майские жуки с неторопливо-бомбовозным гудом, летали совсем низко и запросто сшибались курточкой или веткой отломанной от Вишни, что перевесилась через чей-нибудь забор. Отыскание сбитых в мягкой пыли улицы оказывалось задачей потруднее.
Пойманных сажали в пустой спичечный коробок, по отдельности, ну не больше двух, и они шарудели там изнутри об стенки своими длинными неуклюжими ногами. На следующий день мы открывали камеры узников полюбоваться пластинчатым веером их усов и каштаново-блестящим цветом спин. Мы пробовали накормить их мелкими кусочками свежей зелени, но они, похоже, не голодные были, и мы выпускали их на волю со своих ладоней, как отпускаешь в полёт божью коровку. Жуки щекотно всползали на конец отставленного пальца, вскидывали жёсткие скорлупы надкрыльев и расправляли упакованные там свои длинные прозрачные крылья, прежде чем с низким гуденьем улететь прочь, без всякого «спасибо». Ну и лети – вечером ещё наловим…
Однажды из далёкого конца улицы донеслись раздирающе нестройные взвывы вперемешку с протяжным буханьем. На звуки знакомой какофонии жители Нежинской вышли из дворов на улицу, сообщить друг другу кто это умер. Впереди процессии медленно шагали три человека, втискивая губы в медный блеск нестройно рыдающих труб. Четвёртый нёс перед собой барабан, как громадное брюхо на привязи широким ремнём через плечо. Отшагав сколько нужно, он бил в брюхо короткой палкой с войлочным набалдашником. В свободной от палки руке он нёс широкую медную тарелку и время от времени брязгал ею в другую такую же, привинченную на обод барабана сверху. На это «дздень!» трубы откликались новым всплеском горестных взрыдов.
Позади музыкантов несли большое фото угрюмого мужского лица и несколько широких венков с белыми буквами надписей по чёрным лентам. Грузовик трёхтонка урчал мотором позади венков. В кузове с отстёгнутыми бортами стоял ажурный памятник из прутьев тонкой арматуры под краской-серебрянкой. Двое мужчин одного роста с памятником хватались за него с двух сторон, чтобы не упасть в гроб к покойнику положенному напоказ у них под ногами. Небольшая пугливая толпа замыкала шествие.
Я не решился выйти на улицу, хотя Мама с тётей Людой стояли за калиткой, а также соседи и соседские дети у своих хат. Но всё же, движимый любопытством, я влез на изнаночную перекладину ворот и выглянул поверх досок. Нос свинцового цвета торчком из жёлтого лица показался настолько жутким, что я убежал в самую глубь двора, до будки чёрно-белого Жульки, который тоже нервничал и подскуливал трубам вдоль улицы…
Баба Катя умела из обыкновенного носового платка вывязать толстую мышь с ушами и хвостом, которую она сажала себе на ладонь и поглаживала белую голову пальцем другой руки. Мышь неожиданно подскакивала в отчаянной попытке к бегству, но Баба Катя хватала её на лету, сажала обратно и чесала дальше под наш безудержный смех. Конечно, я понимал, что это Баба Катя сама подталкивает мышь, но как ни всматривался, не мог разгадать её фокус…
Каждый вечер она выносило ведро кисло пахнущего хлёбова из очистков и объедков в свою секцию общего сарая, где свинья Машка встречала её нетерпеливо-требовательным хрюканьем. Баба Катя выливала доставленный корм в корыто, потом стояла над громко чавкающей Машкой и ругала за очередные нарушения режима и общую невоспитанность.
Она показала нам какие из грядок и деревьев в огороде были её, чтоб мы не лезли на соседские, потому что там не было заборов. Но яблоки ещё не созрели и я влезал на Белую Шелковицу, хотя Баба Катя предупреждала, что я слишком здоровый для такого молодого деревца. И действительно, однажды оно расщепилось подо мной надвое. Я испугался—ой, что теперь будет! – но Папа меня не побил. Он натуго обмотал разошедшиеся половинки деревца каким-то желтовато-прозрачным кабелем. И Баба Катя тоже промолчала, не упрекнула меня ни словом… В тот вечер она сказала, что свинья совсем ничего не стала жрать и перевернула ведро с очистками, такая умная, чувствует, что завтра её зарежут. До поздней ночи из сарая разносился неумолчный вопль Машки…
Наутро, когда пришёл свинорез-коли?й, Баба Катя ушла из хаты и уже после этого они вытаскивали истошно визжащую Машку из загородки, бегали за ней по двору и убивали длинным ножом, чтобы достал до сердца, после чего визг сменился хриплым рёвом, всё короче и тише. В это время Мама держала нас, своих детей, в хате и разрешила мне выйти только когда они обжигали тушу гудящим пламенем паяльной лампы.