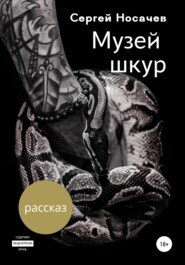По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музей шкур
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шеф привалился бедром к столу и стал сосредоточенно наглаживать всклокоченную бороду.
– Спросить? – не выдержал Никишин.
Фёдор Саныч снова кольнул Никишина взглядом, но тут же усмехнулся и кивнул на чайник, мол, не по-людски на ходу серьёзные разговоры вести. Чайник послушно засвистел. Никишин завернул конфорку, рассыпал по чашкам заварку и разлил кипяток.
– Да я и не знаю ничего толком, – немного смущённо признался Старик. – Сказал, жена в тюрьме. Остальное, мол, не телефонный.
Доверие шефа льстило Никишину. Его впускали во что-то личное, туда, где за бархатной портьерой в интимном полусвете происходят масонские таинства чужой жизни. Но если пройти эту комнату и выбраться в реальность – аналитик из Никишина никакой. А уж уголовка – вообще не его тема. Старик всё это знает лучше самого Никишина. Так почему? Но шеф выглядел растерянным, пожалуй, впервые за всё время, что они были знакомы.
С Федором Александровичем его познакомила бывшая, когда Никишин ушёл с телевиденья. К тому времени работа журналиста порядком ему надоела, но ничего другого он делать не умел. Несколько месяцев он безуспешно пытался найти в себе тягу хоть к чему-то. На работу корреспондента согласился от безысходности – или так, или вспоминать будни российского инженера. Газета не была пределом мечтаний. Нет телевизионной статусности. Кто сейчас читает газеты? Старики? Сумасшедшие? Поначалу думал, перекантуется пару месяцев и уйдет обратно на телевиденье. Но прошло время, а его всё не звали. Да и редакция затянула. Здесь было спокойней – материалы он писал неострые, серые. Такие не запрещают – никаких тебе сделок с совестью. К тому же, работать со Стариком было приятно. Он был из тех людей, чьего внимания неосознанно добиваешься, а добившись – гордишься. Исключительный человек. И сейчас впервые Никишин видел, что шефу нужна помощь.
– Фёдор Саныч…
Шеф вопросительно посмотрел на Никишина, но продолжения фразы не нашлось – что тут скажешь, когда всё обдуманно (не им) и решено. Поэтому оставил имя-отчество болтаться где-то под потолком кухни, а сам кивнул.
– Куда-когда?
Шеф протянул ему блокнотный листок.
– Тут адрес и разъяснения, как и что.
«Лесозёрск». Никишин внимательно посмотрел на Старика. Дело было не в его, Никишина, особенностях. Наверняка шеф запомнил, что Никишин снимал там – он любил рассказывать эту историю, когда хотел показать себя борцом за справедливость. Или это паранойя и Старик поверяет его в личное дело, которое не готов доверить другим?
Ехать нужно было чёрт знает куда. На поезде. Но дело было даже не в этом. Появляться там снова пониженным в должности – это слишком болезненный щелчок по гордости.
– Там же режимный объект…
– Тебя пропустят. Так что допивай чай и иди собираться. До вокзала доброшу, – распорядился шеф.
2
В здании вокзала смердило мочой, как будто ей здесь регулярно мыли пол. Открытые двери и окна не помогали. Плотный дух не выветривался из помещения, а только расползался за его пределы – через турникеты к путям, видимо намереваясь заполонить собой всё. Никишин купил билет и, кривясь, заторопился к поезду.
На платформе его обдало запахом весны и горящего в топках титанов угля. Запахи расшевелили что-то в памяти. В голове мелькнули нечеткие образы – родители, летний лагерь, море. Никишин задышал жадно, словно откусывая от сочного яблока. Он попытался удержаться за воспоминания, но те как обычно ловко улизнули обратно в подсознание.
Сидячие вагоны отвартительны. Сколько не едешь, всё время пути тратишь на то, чтобы усесться более ли менее удобно, но это никогда не выходит. Повсюду телевизоры, от которых никуда не денешься. Скоро их начнут ставить в сортирах: реклама, сериалы, ток-шоу и, конечно, «информационные» программы. Он и до работы на ТВ не особо жаловал телевиденье. Оно как термоядерный синтез – могло бы использоваться для чего-то хорошего. Но плодить идиотов было проще и, в конечном итоге, удобнее. Теперь к брезгливости примешалась зависть – в каждом ведущем Никишин видел того, кем он не стал.
На этот раз повезло: вагон был пуст, квадраты экранов блестели металлическим чёрным глянцем.
«Ещё бы свет выключили…»
Никишин кое-как обустроился в своем кресле и попытался закемарить. Но как назло фантомный шеф разгуливал по его сознанию, хмурясь и теребя бороду. То и дело он бился лбом о плафон кухонной люстры. Что могло произойти, что Старик так дёргается? И с кем? О чьей жене он говорил? Семьи у него, кажется, нет. Боевой товарищ? Нужно было сразу спросить…
В газете Никишин вёл рубрику «История простого человека». «И.П.Ч.» – похоже на чих. По сути – чих и есть. Хорошо, если смутные воспоминания об очередном Петре Степановиче проживут с читателем хотя бы пару дней; обычно с последним словом статьи каждодневщина тут же выпинывала его за порог черепной коробки. Чихнул, вытер нос и забыл. Он, пожалуй, единственный, кто не может так вот «чихнуть». За одно интервью он получает смертельную дозу концентрата чужой жизни. К середине разговора начинает казаться, что гудящая голова сможет вместить в себя разве что пулю, а в неё напихивают ещё и ещё – историй, домыслов, размышлений, жалоб, хотений, мечт… Изо дня в день. Начинаешь искренне ненавидеть людей и работу, приковавшую тебя к ним. Гораздо легче, когда герой статьи оказывается сволочью. Но такое везение – редкий случай. Покалеченные жизнью приятны, даже если резки, угрюмы и хамоваты. Как джин – сначала обжигает глотку спиртом, но через секунду чувствуешь приятное послевкусие. Всё это Никишин пытался объяснить шефу на какой-то редакционной пьянке, и теперь пытался понять, в чём здесь Старик усмотрел человечность? Сочувствие не лучше других чувств – оно растрачивается.
Он снова подумал, что не знает толком, зачем едет. А если это всё действительно связано с той историей в роддоме? Но как? Да и времени прошло порядочно. Не то, чтобы он всерьёз рассчитывал найти ответ, сидя в поезде. Но неизвестность порядочно трепала нервы и требовала информации, которой у Никишина не было. Интересно, Старик дёргается из-за своих предчувствий и неизвестности? Или это медленно накатывающее ощущение, как чувство голода?
Никишин залихватским зевком попытался отмахнуться от роения ненужных вопросов и намекнуть сам себе, что надо бы отдохнуть. Думать не хотелось вообще – выбросить всё из головы и задремать. Тем более, что и мыслей-то не было – так, роение пустых сомнений, конвульсии сознания. Восходящее солнце стало понемногу разгонять залегшие в оврагах туманы. Вспышки света били по глазам даже сквозь закрытые веки. Он уставился в окно, где чёрно-оранжевые сосновые леса сменялись березняком или чащобой ельника, или полем, которое длилось всегда дольше леса и, несмотря на свою пустоту, казалось куда более внушительным. Иногда из ниоткуда выпрыгивали безлюдные стылые полустанки: заросшая травой бетонная площадка платформы, обветшалая будка, поеденный ржой металлический холст расписания электричек. В рыжих подтёках давно затерялись сами названия этих местечек. Да и разбираться в них было некому. Все как одна, платформы тонули в высоком дымчатом ворсе весеннего ивняка, камыша и осоки; эти заросли обычно тянулись несколько километров вдоль путей. Иногда в них проглядывались огрызки брошенных домов, их очень естественное умирание: покинутые душами остовы медленно разлагала природа. У некоторых дожди и ветер выгрызли куски стен или крыш, от других только и осталось, что кусок стены или дверь, не ведущая уже никуда.
Никишин лениво подумал о том, к кому едет. Ещё один потёртый человечек, от которого жизнь откусила чересчур, и теперь ему неможется…
Скоро однотипный пейзаж наскучил. Поезд въехал в плотный коридор пушистого ельника. Вагон погрузился в полумрак. Никишин моментально заснул.
3
Станция была несовременной – раскрашенной чёрно-белой фотографией: платформы вровень с землёй и забавный палисадник перед крохотным зданием вокзала. По одну сторону путей тянулись ангары, за ними желтели исполинские водомерки железнодорожных кранов, ещё дальше высилась стена леса. С другой стороны распласталась пустынная привокзальная площадь, млеющая под первым жарким солнцем. Отсутствие людей не удивляло.
У дальнего края площади виднелась волнистая жестянка остановки. Как сказочная избушка, остановка стояла спиной к Никишину, а лицом – к лесу. Из-за неё воровато выглядывала лупоглазая морда старого автобуса.
Никишин посмотрел вслед почти пропавшему поезду, стянул свитер и запихнул его в сумку. Озираясь на пустоту, он зашагал к автобусу. Ступал осторожно – казалось, в любой момент, как в старом вестерне, из-за угла, позвякивая шпорами, выскочит второй ковбой; грянут часы на станции… А у Никишина и пистолетов-то нет.
В автобусе было душно и ожидаемо пусто. Водитель дремал на руле.
– Кхм…
Водила встрепенулся и диким со сна взглядом упёрся в Никишина.
– С двухчасового?
– Угу.
Никишин наскрёб мелочи и оплатил проезд. Дверь шумно и нехотя затворилась, крякнувший мотор растряс салон и они поехали. Узкая дорога петляла горным серпантином по лесной чаще, отчего казалась бесконечной. Через распахнутые форточки в салон гулко влетал прохладный радужный от запахов воздух. В нём было больше жизни, чем во всех историях «про жизнь», которые Никишин выслушал и отписал за последний год. Репортёр от удовольствия прикрыл глаза и растянулся на разогретом солнцем дерматине сидения.
На этот раз его Никишина не встречал. Он зашёл в будку КПП. В полумраке дежурки за мутной перегородкой из плексигласа белело худощавое скучающее лицо солдатика. Боец неуклюже и как-то растерянно просмотрел документы Никишина и сверился со списком заявок, состоявшим из одной фамилии.
– К Вершинину?
– Эм… да, наверное. То есть, у меня только адрес.
Солдат вернул документы и кивнул Никишину на вертушку.
– А что у вас тут произошло?
Солдат оживился. Он облокотился на стол, высунул нос из окошка дежурки и уже готов был рассказать все от и до, но в глубине помещения кто-то предостерегающе кашлянул. Боец тут же отпрянул от перегородки и уместил себя обратно в засаленное кресло.
– Проходите, не задерживайте.
От КПП стрелой тянулась дорога – главный проспект Лесозёрска. По обе его стороны сверкали классические панельные пятиэтажки, облицованные мелкой бело-голубой плиткой. Город казался до неприличия идилличным. Еще бы не полосатые трубы химкомбината, маячившие вдали непрестанными дымами… В этом безлюдье Никишин чувствовал себя большой комиссией, приглашенной на приемку свежевылепленного микрорайона.
Лесозёрск определённо ему нравился. Никишин даже расстроился, что в первый визит не удосужился толком в него вглядеться. В городе, несмотря на толпу, ты всего лишь одинокий пешеход. Люди вокруг делают это одиночество более жутким. А здесь всё наоборот. Странная и непривычная, но уютная пустынность. И воздух – обильный, сытный.
Никишин не заметил, как стал насвистывать. Вдоль дороги стояли тополя вперемежку с раскидистыми липами и простоватыми рябинами; на некоторых деревьях висели кормушки для белок, но сами зверьки не показывались. Полноценных листьев на деревьях еще не было – легкая зелёная рябь, – а дорогу уже укрывала приятная дрожащая тень.
Дойдя до перекрёстка, Никишин сверился с бумажкой. Судя по нехитрой карте, вычерченной Стариком, здесь нужно было свернуть. Нужный дом оказался в конце улицы. За ним дорога упиралась в серую полосу бетонного забора, с кудрями колючей проволоки на гребне. Ее блеск окончательно сбил с Лесозёрска идиллический глянец. Никишин попытался настроиться на предстоящие знакомство и интервью. Репортёр представил, как поднимется по лестнице и позвонит в дверь. Ему откроет некто в потёртых трениках и затрапезной байковой рубахе в клетку. Старый друг шефа. Наверняка, ровесник Старика, может – чуть старше, но совсем другой – стоптавшийся. Прокуренная дешёвыми сигаретами квартира, где даже седина хозяина пожелтела от дыма. Он явственно услышал кашляющее кряхтение и тоскливое шарканье усталых ног. И, конечно же, квартира на пятом этаже. Никишин вздохнул и зашагал по лестнице. С каждой новой ступенькой в репортёре росла неприязнь к протеже Старика.
Перед дверью квартиры он немного отдышался и смахнул с лица красноречивое выражение подневольности и нежелания быть здесь.
Дверь открыл на удивление молодой мужчина, высокий и коренастый. Взъерошенный и чуть осунувшийся, но с виду вполне бойкий. Разве что взгляд слегка тронут отчаяньем. В его внешности было нечто настолько очевидно знакомое, что Никишин не разобрал – что именно.