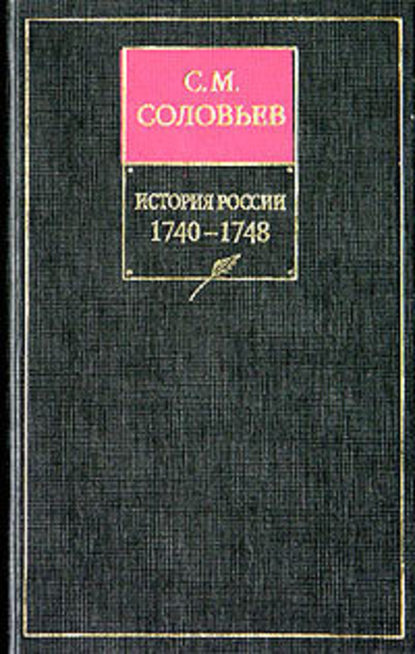По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Книга XI. 1740–1748
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С астраханским губернатором порешил Сенат, но от прошлого года оставалось дело о вятском архиерее Варлааме, с которым не легко было порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы, 11 января, Сенат выслушал донесение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали: в св. Синод сообщить копии и написать, что для исследования дела надобно назначить достойную духовную особу, а Сенат со своей стороны назначит достойную светскую особу. Но дело замолкло на целый год. Синод хотел непременно отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, несмотря на явную неправость и архиерея, позволившего себе расправиться с воеводой вовсе не по-архипастырски. Между тем Синод не переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям насилия светских властей над духовными лицами; Синод жаловался, что в Петербурге в полночь объездной из полицмейстерской канцелярии подпоручик Малер с драгунами разломал двери в доме дьякона Сергиевской церкви Иванова; драгуны, взявши дьякона с собою и привязав его к лошади на аркане, погнали на лошадях; в такой скорой езде, не могши бежать наравне с лошадьми, дьякон пал от бессилия и разбился о камень, но драгуны, не обратив на это внимания, поволокли его на аркане по земле и притащили в полицию под караул с великим ругательством, и от такого увечья дьякон едва через долгое время начал приходить в память. Так было в столице; что же в областях? В Старице в церковь св. Параскевы пришел ко всенощной подьячий Григорьев, и в то же время пришел к церкви прикащик дворянина Чоглокова Семенов с несколькими людьми и дожидался выхода Григорьева, чтоб его бить, потому что у Григорьева с помещиком Чоглоковым была ссора, неизвестно почему-то Семенов хотел прибить также и дьякона церкви св. Параскевы Федорова; зная об ожидавшей их участи, Григорьев и дьякон по отправлении всенощной из церкви не вышли и были в ней заперты священником. Во время литургии вошел в церковь сам Чоглоков; увидевши его, Григорьев ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чоглоков из церкви вышел, но прикащик его с товарищами остался. Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываться; один из них, чтоб схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него обнаженным кортиком, держась другою рукою за, престол. Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шумом. Дьякон стал было в северных дверях, чтоб не пускать нападающих в алтарь, но один из людей Чоглокова ударил его рукою в висок, другие схватили его за волосы, вытащили вон из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам Чоглокова под стражу. Явился староста поповский, но освободить Григорьева не мог; ходил за помощью к воеводе, но тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женою, дочерью и племянницею, вошедшими во время литургии, оставался около суток запертым в церкви, окруженной толпою народа с дубьем; наконец пришел коллежский асессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и выпустил Григорьева с семьею.
Приходили жалобы с востока по поводу обращения инородцев. Синод давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды новокрещеным: так, в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на конюшни. Новокрещены уже не требуют за обращение в христианство денежного награждения, просят только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался как мог: приказал Военной коллегии исследовать, взятое насильно взыскать с виновных и впредь насилий не делать. Нижегородский архиерей Димитрий все не ладил с мордвою; он доносил, что в Терюшевской волости в деревнях Романихе, Березниковой, Клюихе мордва имела многочисленное собрание и посланного для крещения желающих в селе Сарлей попа Алексея Мокеева били смертно, а на посланного с командою для взыскания доимок дворянина Безделкина нападали многолюдством; команда заперлась в избе, все исповедались и причастились, готовясь к смерти. Послана была другая команда, но и ее начальник донес, что не сладит, мордва собралась многолюдством с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем, взять себя не дают и помощь к ним идет из других деревень, все некрещеная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и скоро губернская канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение, и потому надобно ли следовать дело о попе Мокееве? Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и смертной казни, но за воспринятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Димитрий насильно принуждает ее к принятию христианства, держит многих под крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительски, смертно; многих и в купель окунали связанных и крест надевали на связанных же; кладбища их и моленные амбары архиерей все пожег и дома разорил, от чего многие разбежались и живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разорение, так что податей и помещичья доходу стало платить нечем. По выезде своем из их волости Димитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей будто за принявших православную веру. Сенат приказал: так как в Терюшевской волости осталось мало некрещеных и 7000 заплатить нельзя, то подождать взыскивать до будущего разрешения; в Синод сообщить ведение, чтоб отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой Терюшевской волости и чуваши Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на двоих дьячков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разоряли и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш обращаемы были в христианство калмыки, крещеные владельцы которых увеличивали собою число русских княжеских фамилий: крестившейся ханше, вдове Дундук-Омбо, названной Верою, велено называться княгинею, двум ее дочерям – Надежде и Любви – княжнами, сыновьям – Петру, Алексею, Ионе и Филиппу – князьями Дундуковыми. На востоке распространяли христианство между инородцами; на западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. 15 июня Елисавета при докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтоб они особенно веры и закона не забывали, а так как русской церкви и священника в то время там не было, то велела отправить в Париж церковь с утварью и священником как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают; также велела отправить церкви и ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в Иностранной коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем приложить старание, чтоб в Вене находящимся там единоверным греческого исповедания людям позволено было иметь публичные церкви и при них колокола, взаимно, как в России такое позволение дается для римских церквей.
Сильно продолжала занимать Синод секта вертящихся, которую начали называть хлыстовщиною и христовщиною, указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов (Берг-коллегии советника Казаринова с двумя асессорами) и из троих духовных (московской Славено-греко-латинской академии ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками). Армянам отказано было в позволении отправлять богослужение в старых их церквях. В описываемое время у Сената с Синодом происходила любопытная переписка относительно продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сената понизить цены Синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту (у Спасских ворот) и в рядах, и хотя Синод прилагал всевозможное старание, чтоб не торговали книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все продолжается. Тогда Сенат приказал сообщить св. Синоду ведение, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и обида; так не соблаговолит ли св. Синод положить книгам продажные цены умеренные и чтоб продавались они всегда безостановочно. Когда цены будут положены умеренные и книг будет в продаже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по более высокой цене, все станут обращаться в типографию, и, чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали книг дорогою ценою, за этим будут смотреть Камер-коллегия и Главный магистрат.
Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в продаже все не было той книги, о скорейшем издании которой заботилась императрица по завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр библии замедлился в Синоде в 1744 году и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пересмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил именной указ – библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, непременно издать в этом году для народного употребления; если же члены св. Синода это исправление считают в чем-нибудь недостаточным или кто-нибудь из них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения. 18 ноября члены Синода подписали определение, в котором о той библии «рассудили, что она без должного тех, кои ее исправляли, заручения находится чрез многопрошедшее время и сумнительно есть, нет ли в ней каковой попорчки, чего ради оную без оговорения печати предать опасно, и определили оную с печатною словенскою прочесть и исправить». Исправление было поручено архимандриту Илариону. Дело затянулось еще на несколько лет. Кроме издания библии Синод получил чрез своего обер-прокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтоб проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди наизусть, а не по тетради. К описываемому времени относится первая мысль об иностранной цензуре, которую также должен был бы взять на себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала: привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять Синоду, нет ли в них противностей вере. И когда указ был написан и Елисавета выслушала его, то Бестужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело, так что никому нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется немалое время, и, кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие, исторические и другие, пусть свободно привозятся и в народе употребляются. Императрица оставила указ у себя для рассуждения с архиереем крутицким.
Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и новой России – недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял императрице, что он определил выдавать заимообразно баронам Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают, и ждут решения императрицы на поданное ими прошение о взятии их варниц в казну, а Сенат опасается, что соли доставлено не будет. В следующем месяце Строгановы объявили, что соль готова, но как ее провезть? Работников с печатными паспортами нет, а письменными не велят брать. Приготовляться к выварке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет вследствие прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надобно до 70000 рублей. Соляная контора дает им взаймы до 30000 рублей, но они боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно теперь им денег 199437 рублей, но такую сумму едва можно будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке на пуд вознаградить их не может, тем более что продажа с прибавочною копейкою будет происходить в 46-м и 47-м годах и деньги возвращаться будут разве через два года; да и не в одних деньгах дело: подрядчики отказались везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями, почему поставку соли из Нижнего в верховые города они, Строгановы, ни за какое награждение производить не в состоянии. Делать нечего, надобно было приниматься за старину, и генералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкою работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы вольным работникам.
Прошло два месяца. В мае Строгановы опять доносят, что к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возможно, суда под нее и приписаны, и приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий недостаток, так что по 1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни подрядных по указу к промыслам ни одного человека не явилось. Также из Нижнего Новгорода приказчик пишет, что посланный им в Казанскую губернию служить с готовыми деньгами для найма на устье Камском прибавочных для волжского верхового хода работников отыскал только из иноверцев 300 человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и, зная свое совершенное изнеможение, они, Строгановы, в дальнейшие договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтоб назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их доходов и расходов как при выварке, так и при поставке соли. Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтоб подрядчикам для обороны от обид, наносимых разными командами, дать от Сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вносят в договор, что если случатся им приметки или обиды от какой-нибудь команды, то обязательства их недействительны. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам выслать рабочих, подрядчикам препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, потому что им прибавлено по копейке с пуда и по прежнему освидетельствованию видно, что они получают немалую прибыль и награждены освобождением от пошлин.
По донесению Юшкова в отпуску пермской соли было 4264077 пудов. Но Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и обзадаточенные ими люди нечаянно от работ отлучаются по нарядам от правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды и к работе их неволею принудить никак нельзя, вместо же их других сыскать негде, притом нанимают и задатки раздают на работников годных, а во время отпуску на ладьи приходят малолетние и в работу негодные, которых за неимением других переменить уже некем. Сенат приказал выслать на строгановские суда работников, взявших задатки. Сенату, видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он определил: впредь Строгановым о соляных делах представлять и решения требовать от соляной конторы и, чего конторе самой делать нельзя, о том она должна представлять в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губернская канцелярия прислала донесение, что в поставке соли с озер к Астрахани и до верховых городов препятствует недостаток в рабочих людях; при торгах подрядчики объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут; притом холст на паруса и мешки дорог: прежде покупали тысячу аршин по 18и 20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах берут рабочих людей. В 1744 году с судна подрядчика Курочкина сыщик взял 60 человек и приказчика, по этим причинам подрядчики поставили провозные цены чрезмерно дорогие: до Нижнего по 19 копеек за пуд, чего никогда не бывало. Соляная контора подтвердила астраханское донесение, что в Нижнем и других местах подрядчикам и рабочим, везущим соль, обиды, задержки и взятки от комиссии розыскных дел, отчего в найме рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник Фраундорф донес из Нижнего, что на соляных судах явилось немалое число беглых крестьян, рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать; как же быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать; кто явится подозрителен, того брать, но судно не останавливать.
Кончились хлопоты насчет 745 года; пришла осень, и начались хлопоты относительно поставки в будущем, 746 году. Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что нет денег на заготовку дров. Сенат приказал принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему в ссуду денег получил более 44000 рублей с небольшим в один год, несравненно более других промышленников; притом же Демидов и в промысел вступил с немалым награждением от отца. Строгановы опять объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обязать их поставить соль в указные места около трех миллионов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по 4 копейки без некоторых доль, за поставку соли в Нижнем получают по 9 копеек с пуда, и хотя при провозе от Нижнего до верховых городов могут случиться некоторые убытки, однако они вознаграждаются барышом от выварки соли и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих приказчиков: крестьянам – поставщикам дров наперед роздана немалая сумма на 72 варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова издалека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, так что пропало 17783 сажени, чего вознаградить уже никак нельзя, ибо дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст и на поставщиках задаточных денег в доимке немалая сумма, которой за их крайним изнеможением взыскать никак нельзя; от этого промыслам конечная несостоятельность, и выварить указанного числа – 3 миллионов пудов – нельзя, потому что дров будет только 139187 сажен, которыми можно выварить 2780000 пудов. Соляная контора представила Сенату, что надобно непременно заставить Строгановых выварить три миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год вываривалось до 264000 пудов, прекратил работы с мая месяца. Отпуск бузуну из Астрахани явился неполный за недостатком рабочих людей. Сенат приказал: принудить Строгановых вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой.
Соляные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Миляковы представляли в Берг-коллегию, что не в состоянии выплачивать доимку. Мнения членов коллегии разделились: президент и вице-президент считали представления заводчиков основательными, но остальные члены и с ними прокурор думали иначе, и прокурор жаловался Сенату, что президент и вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов доносил, что многим заводчикам под железные и минеральные заводы отведены государственные земли и угодья, они лес и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и дрова ничего не платят вопреки берг-привилегии и берг-регламенту.
Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсюду правилу старалось выпускать за границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие; но чрез такое запрещение производство останавливалось, потому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста недоставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный комиссариат представил, что ежегодно требуется большое количество холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у крестьян, и так как выделка узкого холста запрещена, то и небольшого количества холста достать негде и в полках может последовать большой недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать широкие и узкие всяких рук полотна и холсты.
Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и Мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доставили 1940 половинок сукна и из них 1188 несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать всех фабрикантов и объявить, чтоб впредь сукно ставили по образцам, и хотя нынешней поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и наказанию непременно, без всяких отговорок. Призвать также в контору президента и всех членов Мануфактур-коллегии и сделать выговор, что смотрят за фабрикантами очень слабо. Сам Сенат видит из доставленных комиссариатом образцов, что сукна очень плохи, иные недовалены и шишковаты, за что коллегия подлежит жестокому штрафу. Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в одном своем заведывании, в конце года фабрикант Суровщиков объявил, что он положенное количество сукон поставить не может, потому что фабриканты состоят под двумя ведомствами – комиссариата и Мануфактур-коллегии – и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей их в разные командировки, и если он, Суровщиков, в ведении одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его фабрику в казну.
Выделка шелковых материй шла вперед благодаря мастерам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета дала поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Водилову, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию и теперь жили на московской шелковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтяные станы; Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Водилов научил делать английские штофы, грезеты, тафты, которых прежде не было.
Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей; но такие же жалобы приходили и из других мест, недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыску воров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения своих дел; он требовал приказных служителей от казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодностью. Сенат велел казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дела было много у Львова с товарищами. Опять обнаружились разбои в 25 и 35 верстах от Москвы. Определенный для сыску разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились по Оке, в уезде Переяславля Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку, более 200 человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказных служителей. Юстиц-коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет тридцать. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя Ромодановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править не велено; в 1724 году по приговору Ромодановского дела и колодники отосланы для следствия в шацкую провинциальную канцелярию; в 1728 году по указу из Сената велено дело взять в воронежскую губернскую канцелярию, но отсылки дела туда не значится, и потому Юстиц-коллегия спрашивала, что делать? Сенат приказал отослать дело в воронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него: он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так, уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали; они очень молоды и видные собою люди, и если их за покупку паспортов разыскивать, то уже они к службе будут негодны. Сенат приказал: наказав их плетьми, отослать для определения в службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки.
Кроме разбоев в городах и деревнях терпели от пожаров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи: казанский полицеймейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав со псовой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем народе бил по голове и бранил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицеймейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа; меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующие: лошади приезжающих из зараженных мест должны были выдерживать карантин; палые животные зарывались в дальних местах в глубокие ямы, кожи с них снимать не позволялось; около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции изустный указ: 1) извощикам ездить на возжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали и сани были бы подкованы; извозщикам быть в серых кафтанах неразодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить цугами.
Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор кн. Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594313 душ, из них обревизовано 198583, в которых против прежней переписи явилось прибылых 32694 души; за прописных с 724 года подушных и прочих денег к взысканию положено 73605 рублей. Такие донесения Сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал; поэтому приказали потребовать подобных же донесений от всех, чтобы присылали через каждые три месяца, и таким образом можно было бы знать, какое число душ мужского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и убыло и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе, а в марте Сенат получил неприятное объявление: «Ее импер. величеству стало известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание, также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились, таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение, но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также на реку Куму и на бухарскую сторону за Яик и там питаются звериным промыслом, в отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее импер. величество не знает, о рыбных ловлях Сенат от ее величества никакого повеления не требовал, и о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее величество повелевает Сенату: рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возвратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к ее величеству для рассмотрения; о ревизии, что в ней произошло по сие число во всем государстве, подать ее величеству известие, где показать, в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях; а из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть: по рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят».
Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии и высылки в Петербург; но на верхнем Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем, квартир им не дали, напали на улице на определенных к ревизии драгун и подьячего и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиною сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища нейдут, бегут опять на Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко от козачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних степных украйнах ревизия встретила препятствия. В Москве многие обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями; служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к ревизии не явился, посланному солдату запретил впредь приходить и поставил у ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано и, в каких местах находятся заводы, не объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но и это не помогло, сказка не подавалась. В Смоленской губернии в деревнях подполковника Ушакова утаено было при переписи 87 душ; староста, священник и крестьяне показывали, что утаить велел помещик.
Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате: она была очень занята делами внешними; по ним были частые доклады канцлера, происходили в дворце советы или собрания в присутствии императрицы, которая также иногда присутствовала инкогнито и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву, в 1743 году, у него был сильный припадок: вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова, ужаснулась перемене, которую нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения; наконец показался пот на лбу; доктор Боэргав был в восторге, увидав в этом хороший признак, и действительно благоприятный перелом совершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью; когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург; за нею спустя несколько времени выехал и великий князь с невестою и ее матерью. На дороге за Тверью в селе Хотилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло 16 лет: зажжена была иллюминация, «представляющая храм Гигеи, т.е. здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его импер. высочества».
После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством: празднество продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбою спешили, чтоб приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола, эти особы были прежде всего принцесса Цербстская и потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы Цербстской делом Шеварди, не могло исчезнуть и высказывалось при каждом удобном случае. При этом неприятный, мелочный характер принцессы возбуждал против нее всеобщее неудовольствие, и, в то время как дочь старалась, и с успехом, привязать к себе, мать отталкивала от себя всех, начиная с дочери: поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, великим князем. Раздражение против принцессы увеличивалось еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший Голштинским герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный потом в наследники шведского престола, успел составить в Голштинии сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюммер. Эта партия хотела удержать за собою господство и по отъезде герцога-администратора в Швецию надеялась, что настоящий герцог, т.е. великий князь Петр Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместником Брюммера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием жены своей, сестры Фридриха II, совершенно предался франко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней неблагодарности, – такое поведение заставляло наблюдать относительно Голштинии большую осторожность и не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем более что явилось подозрение относительно добросовестности этой администрации. Принцесса Цербстская ревностно поддерживала интересы своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу голштинских дел: «Стараются очернить людей, мне преданных, и недостает только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого следствия; напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие обратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мною и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупреждать все внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, дражайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания; я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два экземпляра с цифирью, которые вы и великая княгиня можете употреблять; но я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую жалобу».
По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы Цербстской стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо, в котором он изъявлял желание приехать в Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить управление Голштинии именем совершеннолетнего великого князя и что об этом хлопочет голштинская партия, враждебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату из Козельска, что лучше ему вступить в голландскую службу и пасть с честью на поле битвы, чем интриговать против брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, чтоб повредить Брюммеру и всем приверженцам кронпринца шведского. Письмо попалось в руки Бестужеву и было им прочтено императрице, которую особенно поразило это жестокое слово сестры родному брату, что лучше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы Цербстской видеть принца Августа в России заставило поспешить вызовом его в Петербург; он приехал, был дурно принят сестрою, и это еще более повредило ей. А между тем Бестужев поднес императрице перехваченное письмо наследного принца шведского к Брюммеру, где принц горько жаловался на стеснительное положение сестры своей в России относительно денег, жалел, что не может помочь ей, потому что сам кругом в долгах, и просил как-нибудь довести до сведения императрицы о безденежье принцессы Цербстской. Препровождая это письмо Елисавете, Бестужев по обычаю снабдил его своим примечанием, что непонятно, куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных ей в разные времена императрицею, и, кроме того, успела наделать много долгов; канцлер не упустил случая напомнить императрице, что и сам наследный принц получил 120000 рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и вообще облагодетельствован в ущерб Российской империи. Еще при докладе канцлера 22 июня императрица «в рассуждении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований о нынешнем вступлении великого князя в голштинское правительство изволила указать корреспонденцию принцессы Цербстской секретно открывать и рассматривать, а буде что предосудительное найдется, то и оригинальные письма удерживать».
28 сентября принцесса Цербстская выехала из Петербурга, получивши на прощанье 50000 рублей да два сундука с разными китайскими вещами и материями; свита ее была также богато одарена; великий князь послал тестю свои бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами украшенную шпагу, брилдиантовые пряжки и несколько других подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред императрицею и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать, лучше было бы, если бы она, принцесса, всегда была так смиренна.
Отъезд принцессы Цербстской должен был показывать Брюммеру, что и ему надобно сбираться в дорогу, тем более что он сумел окончательно озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым решительно не умел обходиться: то выходил из себя, причем забывался до неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками; тот вскочил на окно и хотел позвать часового; профессор Штелин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив, какие будут следствия; тогда великий князь побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою». С этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась совершенная холодность. Лесток толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на воды в Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему чувствовать, как он сильно упал в ее мнении. Однажды когда он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказала ему: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой мыслей». Обер-церемониймейстер граф Санти мимо Коллегии иностранных дел обратился к Лестоку за наставлением, какое место назначить Брюммеру и Бергхольцу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Лесток по старой привычке обратился к императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские, и при первом докладе Бестужева велела ему сделать выговор Санти, чтоб он со своими делами не обращался ни к кому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может потерять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии и называл его в насмешку «обер-конфузионсмейстером». Шетарди обещал Лестоку королевским именем подарок в 12000 рублей, а Лесток просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После высылки Шетарди о каретах. и ливрее замолчали. Наконец Лесток через Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Дальону о 12000, но Дальон дал знать своему двору, что Лесток вследствие победы Бестужева не может быть полезен и потому не для чего на него тратиться, при том же он предпочитает прусские выгоды французским.
Бестужев победил; врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу, – одних уже нет в России, другие готовы удалиться – потеряли значение: Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, – вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена? До назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех русских вельмож, которые старались высвободить Россию из-под влияния Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании слабейших 12 государств против сильнейших – Австрии и Саксонии против Франции и Пруссии, причем пo единству интересов морские державы Англия и Голландия были естественными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в перевороте 25 ноября, дружбою с фаворитом Разумовским, Воронцов, естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петр. Бестужев стал канцлером, а Воронцов – вице-канцлером, покровитель должен играть второстепенную роль подле покровительствуемого, и стоило только Воронцову стать официально подле Бестужева, как второстепенность, незначительность его роли обозначились резко в глазах всех своих и чужих. Бестужев сделал все, Бестужев поборол противников своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником блестящей планеты, но для его самолюбия это положение было тяжело, а тут искушения со всех сторон: враги канцлера ухаживают за вице-канцлером, он теперь их единственная надежда, им необходимо сделать его соперником ненавистного Бестужева, они утешают друг друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева; такие утешения не могут скрыться ни от канцлера, ни от вице-канцлера и, естественно, кидают между ними нож. Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, выделиться, получить самостоятельное значение, засветить собственным светом – это порозниться в мнениях с канцлером, а это легко и выгодно: недавно окончена шведская война, ни императрица, ни большинство людей знатных не хотят новой войны, а канцлер слишком рьян, он. непременно хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить ими Пруссии; легко сказать – двинуть войска: чего это будет стоить и где взять денег? А если Пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет действительно начать войну? Для чего подвергаться такой опасности? Изменять системы не нужно; можно помогать Австрии и Саксонии, сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое мнение очень понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было забыть и внушений Шетарди: благоразумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко наперекор его привязанностям? Елисавета может вдруг умереть…
Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер против Пруссии должен был встретить в своем товарище не помощника, но противника, который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась неудачно для Фридриха II: он должен был очистить Богемию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II обратился к Елисавете с требованием помощи на основании оборонительного союза; не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование было уважено, Фридрих велел Мардефельду просить императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. Чернышев оставшийся один в Берлине по отъезду Мих. Петр. Бестужева в Дрезден, отвечал Подевильсу, что императрица не считает себя обязанною помогать прусскому королю в этой войне, которую он сам начал, тогда как никто на него не нападал, принять же на себя посредничество для водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге посланник Марии Терезии граф Розенберг был позван к государственному канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает императрицу принять на себя посредничество в примирении всех воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что императрица будет ждать только ответа от венского двора, чтобы приложить самое усердное старание о всеобщем примирении и подать новые опыты своего высокопочитания ее величеству королеве. Розенберг отвечал, что его государыня, предав свою судьбу в руки ее импер. величества, примет за благо все, что императрица ей ни изволит присоветовать, будучи уверена, что такая правосудолюбительная монархиня не может одобрить поведение прусского короля, частого нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причиненного им землям королевы.
Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор желает одного – выпутаться из этой войны с сохранением Силезии – и домогается посредничества России с тою целью, чтобы эта держава, занявшись мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии; притом берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама предложила свое посредничество, без требования со стороны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое посредничество к умирению Европы и что это предложение сделано по внушениям Франции и Пруссии! Вследствие этого 30 марта Чернышев получил от своего двора рескрипт с объявлением, что Мардефельду отказано относительно посредничества. «Нам не для чего, – говорилось в рескрипте, – такого авансу делать и посредство наше навяливать. Сверх же того, когда с другой стороны не точию нам, но, как известно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и Порта Оттоманская свое посредство предъявляет, то мы как ни желательны скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для нас признаем. При изъяснении всего вышеписаного по поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не преминете прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать станете при удобовозможной учтивости, правость сего нашего поступка им внятно истолковать и дать уразуметь, с какою умеренностью сей наш ответ о медиации им учинен, довольно причины имея оный с выговором учинить, понеже его величество сам оную медиацию предложил и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы оферировали».
Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались избегать «всякий досадительный вид»: понятно, что должны были стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, к какому старались побудить Россию Австрия и ее союзники. В начале 1745 года был заключен в Варшаве договор между морскими державами, Австриею и Саксониею, по которому последняя обязывалась за английские субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с Австриею против Пруссии. Для обеспечения успеха союзным державам необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окончании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят министрами Марии Терезии «с оказанием особливого удовольства». При первом же свидании канцлер граф Улефельд вручил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожающего силу прежнего рескрипта по делу Ботты, после чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о Франции, король прусский один в состоянии нарушить спокойствие севера; он уже знает дорогу и в Константинополь, потому необходимо силу его поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему Россия легко может содействовать. Если же прусский король останется при настоящих своих владениях, то хотя и нежелательно пророчествовать неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа, скоро доберется до польской Пруссии, потом до Курляндии, а потом получит аппетит и на Лифляндию.
В Вене делались внушения: в Петербурге с апреля месяца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с английским посланником лордом Гиндфордом, австрийским графом Розенбергом, голландским Дедье и саксонским резидентом Пецольдом о приступлении России к Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гиндфорд, жалуясь, что от императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору: «Воронцов снял с себя личину и смело противится приступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем. Друг мой (Бестужев) намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на нашей стороне». Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их предложение; в этом ответе говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего окончания дела необходимо откровенное объяснение. В предложении сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только исполнение старых союзнических обязательств, но императрица считает себя обязанною признать случай союза (casus foederis) только относительно одного короля великобританского; относительно короля польского случай союза еще не представился, что же касается королевы венгро-богемской, то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со здешним двором, потому что союзный договор с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуждение великого князя-наследника как герцога голштинского, почему союз от ныне царствующей императрицы не признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратификован, впрочем, императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трактат, конвенция эта должна заключаться в следующем: Россия выставляет 30000 войска, за которые ей должно быть заплачено по миллиону двести пятидесяти тысяч албертовых ефимков ежегодно. Если на Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские народы, то 30000 войска возвращаются назад в Россию, но деньги продолжают уплачиваться во все время продолжения войны; если же на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег союзники обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выговоренную в договорах помощь, наконец, союзники обязаны гарантировать все немецкие владения великого князя-наследника.
Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для них горька и прискорбна, что противна интересу России и славе ее величества: они не станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует очевидно, равно не станут говорить о том, что неслыханно в свете и неизвестно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что если по требованию императрицы Анны изменен один параграф договора между Россиею и Австриею, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый государь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог уступить таких-то городов или таких-то областей, не заключать такого договора, потому что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении обязательств и полным отказом на все их предложения.
Ланчинский получил приказание передать устно министрам Марии Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать помощь королеве в настоящей войне и ручательства за прагматическую санкцию, при этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга, который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на конференции 30 мая . Граф Улефельд отвечал, что, наоборот, Розенберг обижен, потому что он один объярляется виноватым, а голландский и английский министры в стороне, тогда как все дело в том, что с русской стороны объявлены невозможные условия. Утопающий вопит о помощи, а приятель говорит ему: подожди до завтра. «Кажется, – продолжал Улефельд, – при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие союзы не надобны, что нашему двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но как можно это предвидеть?» «Дело понятное, – сказал Ланчинский, – на австрийский дом бывают частые нападения, и в настоящее время он выдерживает войну». «Поэтому-то мы и помощи просим, – возразил Улефельд, – но относительно будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь Порта находится в упадке благодаря персиянам и Россия поэтому долгое время будет покойна, но надобно обратить внимание на причину упадка, которая случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один из его племянников, который поразумнее и пободрее, и если новый султан, помирившись с Персиею, нападет на Россию, то наша королева, которую допускают теперь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии подать помощь России?» «Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу клонится, – отвечал Ланчинский, – турки, оправившись, скорее всего нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка».
Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с его врагами, он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля как курфюрста Саксонского от враждебных действий против Пруссии. На это Чернышеву приказано было отвечать, что русский двор сначала был того мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи соединят важнейших имперских членов, но вышло иначе – между членами империи, равно как между ними и другими державами, продолжаются прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король польский как курфюрст Саксонский может точно так же поступать относительно своих союзников. Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной безопасности, и исполнения этим государем своих обязательств к союзникам не могут быть признаны враждебными действиями против Пруссии, и потому саксонские земли не могут за это ничего потерпеть, тем более что король польский обнадежил русский двор, что не хочет нарушить своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на Богемию, то Россия своею предупредительною помощью докажет, как она намерена держать свое слово.
Подевильс отвечал на это «со смутным и недовольным видом», что он никак не может понять причину, почему дрезденский двор имеет счастье пользоваться дружбою русской императрицы предпочтительно пред берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, сказанным дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал венгерской королеве. «Кровопролитие последует, – продолжал Подевильс, – потому что мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за военное действие против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на своих союзников отомстить за это дрезденскому двору впадением в собственные его владения, не признавая его нейтралитета, ибо мы имеем верные известия, что между Саксониею и Австриею уговор разделить между собою Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии». На это велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам в своих манифестах объявил, что хотя он, вступаясь за главу империи, напал на Богемию, однако с венгро-богемскою королевою никакой ссоры не имеет и при бреславском договоре держится; точно так же и король польский может помогать Марии Терезии, а с берлинским двором продолжать доброе согласие, а если бы от нашего произвола зависело считать помощников врагам нашим также и нашими врагами и последовать прусскому принципу, то между Голландиею и Франциею давно бы уже велась война, но мы видим другое: французский министр живет в Гаге, а голландский – в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор не думает, чтоб прусский король решился что-нибудь предпринять против Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком и союзники Саксонии, в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь.
Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала войска Англии за субсидии, чтоб не соглашалась на избрание в императоры германские мужа Марии Терезии герцога Тосканского Франца, а содействовала избранию Саксонского курфюрста (короля польского) Августа III, чтоб вошла в четверный союз с Франциею, Пруссиею и Саксониею или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно нейтральной. В это время, как мы видели, место русского министра в Париже занимал Гросс, но императрица думала, что французский двор будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-нибудь познатнее, «да и лучше, чтоб там кто из российских был». В начале года министр Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что будет противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии, ибо в таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле Даржансон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать избрание герцога тосканского в императоры: он будет сильнее всех своих предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы опасно по естественной склонности венского двора к Брауншвейгской фамилии; хотя Ботта и умер, но его вредные замыслы могут возобновиться в России. Если б Россия вступила с Франциею и Пруссиею в такой тесный союз, чтоб было три головы под одною шапкою, то ей нечего было бы бояться никакой державы. На донесения об этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание не входить с Даржансоном в дальнейшие объяснения и ограничиться только наблюдением «сентиментов» французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса французское министерство, естественно, приписывало Бестужеву, и Даржансон в разговорах с Гроссом даже не мог удерживаться, чтоб не называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского министерства не согласны с видами самой императрицы.
Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем, что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами, найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, что Порта предложила свое посредничество для заключения всеобщего мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. «Если справедливо первое, – писал Дальон, – то надобно вытерпеть последствия, а второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтоб мы не довели турок и до чего-нибудь большего, а Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего: несколько татарских набегов, от которых Порта всегда могла бы отречься, произвели бы между здешним народом большую тревогу. 30000 янычар, которые бы расположились лагерем со стороны Белграда или начали бы усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу такого большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно только знатною суммою, и потому надобно ее ему дать, иначе от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию пенсии; женатый на двоюродной сестре императрицы, он свергнет Бестужева. Россия вовсе не так сильна, как кажется издали, да и то если слушать людей, которым выгодно представлять ее сильною. В деньгах страшный недостаток». В начале июня Дальон писал: «Я вторично сделал канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его подвигнуть, но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: не делайте нам зла, а мы вам его делать не будем, я взял его за руку и, смотря прямо ему в глаза, спросил: может ли мой двор полагаться на все то, что в этих четырех словах заключается; он, пожимая мне руку и также прямо смотря мне в глаза, сказал: да. Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я должен стараться об одном: препятствовать, чтоб Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть, не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие иностранные министры не больше меня успели, с тою только разницею, что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не сделает».
Даржансон отвечал Дальону: «Ваше письмо от 8 числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет, и, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Франциею, Россиею, Саксониею и Пруссиею, и по заключении такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что не легко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россиею и Англиею, но средства нашлись бы, если б было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно баварского дома: он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным; позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела; города его удерживает, хочет захватить его курфюрстский голос, чтоб распорядиться им согласно со своими видами, контрибуции требует, хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германиею железным жезлом, гессенцев и палатинцев обижает; хочет принудить всех курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога тосканского; но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения и который не имеет никакого права, кроме силы венского двора. Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение ни помогать, ни препятствовать избранию великого герцога тосканского: такое равнодушие неприлично столь великой государыне, она упускает случай приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россиею. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок, но упомянутый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с Англиею Россия вышлет только 12000 войска, не более, новы знаете, что мнение светом владеет; в Европе не преминут объявить, что вслед за 12000 против нас пойдут еще 60000. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, чтоб Англия стала давать субсидии России; эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные почетные подарки, и притом более согласные с интересами и славою России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы».
Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Франциею, Россиею, Пруссиею и Саксониею, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы; при этом Дальон просил, чтоб императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксониею. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте; Дальон отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 50000 рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал по этому случаю заметку: «Когда Дальон вздумает подлинно 50000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 100000 я ему отказал, и теперь некстати будет принять 50000». Но перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в большее затруднение. Дальон писал: «Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя; чтоб сделать и дурное к лучшему, я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтоб дать вам способ совершенно расположить его к Франции». Воронцов заметил на этой депеше: «Кроме собственного его, Дальонова, желания (свержения Бестужева), от меня он нималого виду или признаку о сем иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет (т.е. канцлеру). Никакого увещания и присоветования от него не было (насчет Монпелье и Парижа), ибо я сам ему сказал, что доктора мне советуют зиму препроводить в Монпелье, также что и ни у котораго двора более трех дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, кроме действительной рабской верности как делом, так и советом, инако поступлено не будет».
Старания Франции о союзе с Россиею должны были остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так, Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксониею, чтоб не быть принужденною в силу договоров подавать помощь стране, которая подвергнется нападению; Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссиею, но с тем чтоб Саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия.
Мих. Петр. Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен к графу Брюлю, у которого застал и духовника королевского, патера Гварини. Разговор пошел о настоящих деликатных германских замешательствах, причем Брюль в конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его государю было бы непротивно, если б король польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в непродолжительном времени быть уведомлен о сентиментах ее величества. Потом Брюль и Гварини начали рассуждать, что достоинство польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтоб Август и ставши императором продолжал быть польским королем, ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к тому склонны, то он думает, что его избранием может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в Париже, доносит, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императоры.
Елисавета прочла сама донесения Бестужева об этих разговорах и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство с саксонским интересом не сходно и с короною польскою не компатибельно , причем Брюль заявлял, что если хотят, чтоб его король уклонился от избрания в императоры и действовал в пользу герцога тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без вознаграждения сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшись императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что «авантаж весьма невелик и скуден: король польский, ставши цесарем, больше власти от этого в Польше не получит, и в случае войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в ней участие ни Польшу, ни империю; тогда как Россия имеет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корона».
Посланники английский и голландский заодно с Бестужевым отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и Бестужев уже счел своею обязанностью представить своему двору, какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. «Между польскими магнатами, – писал он, – я не нахожу ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться по известному этого народа непостоянству; но так как из зол надобно выбирать меньшее, то представляю следующее: дом Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда бывший злым врагом России; теперь гетман стар и дряхл, но весь дом его недоброжелателен к России. Сендомирский воевода граф Тарло всегда был нам противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез; только один из него знатен – великий канцлер литовский; но и тот для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушко, великий маршалок литовский, человек знатный, но простоват и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский богат, да лукав и непостоянен, сверх того, не имеет кредита. Воевода мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться. Из князей Чарторыйских вице-канцлер литовский человек умный, но без кредита и ненавидим между поляками; брат его, воевода, русский человек острого разума, честный, постоянный, по жене своей (Сенявской) очень богатый; он во всех революциях постоянно держался русской стороны, он имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман литовский человек добрый и к России был всегда склонен; он по своему чину в Литве немалый кредит имеет. Гетман польный коронный граф Браницкий, человек изрядный, честный и богатый; также ничего противного России от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский, человек умный и добрый, кажется, нам доброжелателен, по крайней мере во время последней революции постоянно при нашей стороне был и между мелким шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми – Чарторыйским, Радзивиллом, Браницким и Малаховским – Чарторыйского, воеводу русского, признаю самым способным: это человек твердый и постоянный, что редкость между поляками, знатен и богат (больше 200000 талеров годового доходу имеет). Несмотря на то, если б дело дошло до избрания, то по обычной друг к другу зависти и ненависти, кроме великого беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они лучше саксонского принца, нежели природного Пяста, в короли себе пожелают, и эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если ваше и. в-ство к саксонскому принцу склонность явите и его поддержать соизволите. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле саксонского принца предпочтительнее пред Пястом, ибо Пяст по природной к России ненависти будет иметь сношения с французами, шведами, турками и татарами ко вреду России; а чужестранный принц для собственного охранения и для получения большего значения между поляками всегда будет держаться русской стороны».
Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что если вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эта угроза заставила еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подании немедленной помощи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими войсками в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать:
«Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения, вступит в Саксонию, которую скоро и легко можно разорить, и король польский силою прусского оружия и страхом пред неминуемым разорением своих наследственных земель принужден будет, оставя польскую корону, принять императорскую, следовательно, покинув союз с морскими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасные из этого для русских интересов следствия, возбуждение замешательств в Польше и возведение на тамошний престол либо Станислава Лещинского, либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют меня всенижайше представить, каким образом теперь наступило настоящее время заблаговременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтоб не усилился чрез меру и не принудил польского короля оставить Польшу, принять императорскую корону, ибо если со стороны России не примутся немедленно сильные меры, то после уже будет поздно помочь беде». Извещая, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил: «Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных дальностей , если ваше величество за здешний двор как можно скорее вступиться не соизволите». В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебании Голландии, устрашенной этими успехами, о постоянных требованиях с французской стороны, чтоб король польский принял императорскую корону, Бестужев писал: «Французская и прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого усиления».
Но вместо извещения о сериозном демарше , которого требовал Бестужев, ему сообщили из Петербурга, что Чернышеву велено сделать при берлинском дворе наисильнейшие увещания, чтоб не предпринимали ничего враждебного против саксонских земель; а между тем Бестужев продолжал доносить, что министры французский и испанский употребляют все меры, чтоб отлучить польского короля от его союзников, примирить с прусским королем и потом склонить к принятию императорской короны; в случае невозможности соединить эту корону с польскою обещают возвести на польский престол одного из саксонских принцев, наконец, обещают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при берлинском дворе не имеют силы, Фридрих II готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецких границах: король Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока прусский король не объявит войны Саксонии, но одного движения русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II от объявления войны.
24 августа французский посланник подал промеморию, в которой склонял польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания императорского достоинства; если же Август III никак не согласится быть императором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил Бестужева, что король Август, не желая получить императорскую корону интригами французского и прусского дворов, твердо решился не дать себя поймать в расставленные ему сети и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе и в частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой помощи от России никогда не получит, ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распущен был по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против императрицы, наследника и его супруги, потому что последние не приобщались публично св. таин по уставу восточной церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского дворов. Из Константинополя приходили известия, что прусский и французский дворы – первый чрез своих эмиссаров, а второй чрез своего посланника – беспрестанно и всеми силами стараются склонить Порту, чтобы послала сильное войско в Венгрию, где турки могут без всякого труда делать завоевания по неимению там австрийских войск; прусский король особенно домогается союза с Портою. Наконец прусский король объявил войну Саксонии.
Петербург был встревожен этими известиями в самое неудобное время, во время приготовлений к свадьбе великого князя. 19 августа в присутствии канцлера и вице-канцлера Елисавета говорила, как было бы желательно каким-нибудь образом оба двора примирить; если бы теперь по союзному обстоятельству послать польскому королю на помощь 12000 войска против прусского короля, то, пожалуй, это может навлечь на Россию дальнейшие следствия тяжкой войны; а, напротив, если и король польский при своих малых силах будет принужден вступить в французские и прусские виды и принять предлагаемую ему этими дворами императорскую корону, то для русских интересов также продолжительные и тяжелые следствия произойдут. Для решения этого вопроса императрица велела немедленно собрать совет. Тут Воронцов поднес свое письменное мнение, которое Елисавета оставила у себя. Бестужев испугался и объявил, что он также подаст свое письменное мнение.
Воронцов в своем мнении говорил, что, по-видимому, нужно было бы послать войско на помощь королю польскому, чтобы отвратить его от искания императорской короны; но этою посылкою Россия обнаружит явную вражду к королю прусскому, своему союзнику, безо всякого неудовольствия с его стороны, безо всякой причины и должна будет ждать от него всякого неприятельского поступка. Если этой посылкою войска не достигнем желаемого, т.е. не отвратим прусского короля от неприятельских действий против Саксонии, то честь и слава императрицы заставят употребить все свои силы для достижения этой цели, от чего зайти можем очень далеко, навлечь на себя войну, окончание которой неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксонии как через польские или прусские земли. В первом случае поляки тронутся и заведут конфедерацию против своего короля, которую Франция и Пруссия будут поддерживать для низвержения Августа III и возведения на престол своей креатуры. Если же идти через прусские земли, то это признано будет за явное нападение и нарушение союза, и, конечно, пруссаки не допустят наше войско до соединения с саксонскою армиею, нападут на него с превосходными силами и могут нанести поражение. Для укомплектования войск нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы; но состояние империи позволяет ли такую трату людей и денег, а денег и без того очень мало в нашем государстве. Для избежания явного нарекания в неисполнении договора с Саксониею не лучше ли вместо посылки войск дать деньгами по 450000 рублей в год; на войско истратим столько же; и тут по крайней мере люди останутся целы. А всего было бы лучше помирить Саксонию с Пруссиею таким способом: объявить решительно прусскому министру, чтобы король его удержался от нападения на Саксонию, в противном случае русские войска немедленно пойдут к ней на помощь, по желанию же его короля обещается ему полное обнадеживание, что саксонцы не тронут его земель, и действительно вытребовать это обещание от дрезденского двора.
13 сентября Бестужев подал свое мнение: «Ваше величество находитесь в союзе с разными державами. Самый древний союз с королем великобританским, ибо он основан на взаимной безопасности обеих корон относительно Швеции, Дании, Пруссии и Польши, на взаимном благе обоих государств и на торговле: англичане ежегодно продают и покупают здесь товаров более чем на миллион рублей, и так как покупают более, чем продают, то более полумиллиона оставляют здесь чистыми деньгами. Петр Великий так уверен был в необходимости постоянной дружбы с Англиею, что и во время ссоры своей с английским королем Георгом I по мекленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англиею. В царствование вашего величества заключен с Англиею союзный договор, потому что приведенные причины и интересы остаются неизменными. Второй союз, в царствование вашего величества возобновленный, – это союз с Пруссиею, который мог быть также очень полезен, если бы мы не были научены опытом, как мало прусский король держит свое слово и свои обязательства и как мало, следовательно, можно положиться на все его ласкательные обнадеживания. Я вместе с покойным Бреверном советовал заключить союз с Пруссиею именно для того, чтобы удержать прусского короля от подания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извещали, что государь этот дал значительную сумму денег графу Потоцкому для подкрепления польской конфедерации, о которой так хлопотала Швеция для отвлечения внимания России от себя. Но теперь, когда прусский король посредством брака своей сестры со шведским наследным принцем, чего я всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влияния, сомневаюсь, чтоб он в случае нашей ссоры со Щвециею захотел быть нам полезен; напротив, более причин опасаться, что связи и влияния этого горделивого государя и сестры его произведут действия, очень противные интересам вашего величества, если вскоре не положатся этому пределы; он уже и теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем мы когда-либо имели; без сомнения, он сам внушает сестре своей мысли об отмене нынешней формы правления в Швеции, о восстановлении там самодержавия, не говоря уже о том, что в Польше и при самой Порте Оттоманской он составляет себе сильные партии и входит в тайные соглашения, которые с интересами вашего величества и вашей империи вовсе не сходны. Третий союз у нас с королем польским как с курфюрстом Саксонским, союз полезный для взаимной безопасности от Пруссии и Швеции; кроме того, курфюрст полезен нам как викарий империи: так, при его содействии великий князь Петр Федорович, несмотря на перемену вероисповедания, признан способным оставаться в числе имперских владельцев.
Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при всеобщей войне; но при настоящем положении дел осудить себя на бездействие нельзя по святости договоров; таким бездействием можно потерять дружбу и уважение всех держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать которую-нибудь сторону, и всего лучше принять мнение вице-канцлера, поданное им 11 сентября 1744 года. Мое мнение состоит в том, что интерес вашего величества, честь и безопасность империи требуют принять такие меры, которыми древняя, истинная европейская система могла бы быть подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непосредственного участия в войне; примером служит Голландия, которая помогает Англии и королеве венгерской деньгами и войском, не принимая, впрочем, прямого участия в войне и считаясь только помощницею. Теперь война между двумя союзницами России – Пруссиею и Саксониею; обе имеют право требовать от нас исполнения договоров: на которую же сторону склониться? Разумеется, на саксонскую, ибо Фридрих II – нарушитель всеобщего спокойствия: он без всякой причины напал на Саксонию и на королеву венгерскую, разорвал бреславский мир, гарантированный Россиею и Англиею. Фридрих II, несмотря на все увещания со стороны России, несмотря на собственные его обнадеживания, сделанные здесь через Мардефельда, что он ничего не предпримет против наследственных земель короля польского и против спокойствия в королевстве Польском, воспользовался неудовольствием сендомирского воеводы Тарло и предложил ему польскую корону или если он ее не желает, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, во всяком случае обещал поддержку со стороны Пруссии и Франции, если Тарло образует конфедерацию и откажет в повиновении королю Августу. Если бы принято было мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что надобно приготовить к походу 10000 козаков, или если бы принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского резидента Пецольда об отправлении 12000 войска, за которые король польский обязывался платить субсидные деньги, то, конечно, король прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию, нам бы теперь меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше импер. величество не желаете, чтобы король прусский еще более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, самый верный ваш союзник, предан был ему в жертву со своими наследными землями, если не желаете, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял императорскую корону, отчего в Польше произойдут неминуемые замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь».
Говорили, что императрица была недовольна мнением вице-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Воронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные торжества препятствовали собранию совета по прусско-саксонским делам; но, по всем вероятностям, он откладывал собрание, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова. Бестужев объявил императрице, что Розенберг отзывается своим правительством; Елисавета спросила: что это значит? Бестужев отвечал, что тут нет ничего удивительного: Мария Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет признать существования договора с Австриею в такое время, когда последняя крайне нуждается в помощи. И другие послы – датский, голландский, английский – уедут, видя, что им незачем жить и, вероятно, дворы будут присылать в Петербург только посланников или даже резидентов. Елисавета весь тот день была очень задумчива и вечером, уже очень поздно, велела на другой день собраться чрезвычайному совету.
К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, фельдмаршал граф Леси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал граф Румянцев, тайный советник барон Черкасов, тайный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, статский советник Неплюев (Адриан). Предложен был для обсуждения вопрос: «Надлежит ли ныне королю прусскому, яко ближайшему и наисильнейшему соседу, долее в усиление приходить допускать, или несходственнее ли будет королю польскому, яко курфюрсту Саксонскому, по действительному настоящему с ним случаю союза помощь подать и каким образом?»
На другой день, 20 сентября, члены совета представили свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 году саксонскому министру Флемингу было объявлено (в Киеве), что ее импер. величество всегда верною и истинною союзницею короля польского пребывает и в случае нападения на него скорою помощью поспешить не оставит: я на ее величества соизволение предаю, каким образом с королем польским поступать повелит». Мнение барона Черкасова: «Нельзя допустить короля прусского более усиливаться; королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифляндии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещания императрицы; а если и это его не исправит, то ее импер. величество может употребить войско по своему усмотрению, что, может быть, и неминуемо». Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по договору послать на помощь польскому королю 12000 войска, а по надобности и больше. Ушаков – послать эти 12000 и, кроме того, сделать диверсию в Курляндию. Леси стоял за диверсию в Курляндии. Фельдмаршал Долгорукий также; он писал, что надобно положить пределы замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифляндиею и Эстляндиею для себя или для шведов.
3 октября было снова собрание совета. Все поданные мнения были выслушаны в присутствии императрицы; читан был также перевод с письма Мардефельда к канцлеру и мемория, в которой он снова просил помощи против Саксонии. По выслушании всех этих бумаг императрица начала говорить:
Приходили жалобы с востока по поводу обращения инородцев. Синод давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды новокрещеным: так, в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на конюшни. Новокрещены уже не требуют за обращение в христианство денежного награждения, просят только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался как мог: приказал Военной коллегии исследовать, взятое насильно взыскать с виновных и впредь насилий не делать. Нижегородский архиерей Димитрий все не ладил с мордвою; он доносил, что в Терюшевской волости в деревнях Романихе, Березниковой, Клюихе мордва имела многочисленное собрание и посланного для крещения желающих в селе Сарлей попа Алексея Мокеева били смертно, а на посланного с командою для взыскания доимок дворянина Безделкина нападали многолюдством; команда заперлась в избе, все исповедались и причастились, готовясь к смерти. Послана была другая команда, но и ее начальник донес, что не сладит, мордва собралась многолюдством с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем, взять себя не дают и помощь к ним идет из других деревень, все некрещеная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками, и скоро губернская канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение, и потому надобно ли следовать дело о попе Мокееве? Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и смертной казни, но за воспринятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Димитрий насильно принуждает ее к принятию христианства, держит многих под крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительски, смертно; многих и в купель окунали связанных и крест надевали на связанных же; кладбища их и моленные амбары архиерей все пожег и дома разорил, от чего многие разбежались и живут в лесах, оставшиеся пришли в конечное разорение, так что податей и помещичья доходу стало платить нечем. По выезде своем из их волости Димитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей будто за принявших православную веру. Сенат приказал: так как в Терюшевской волости осталось мало некрещеных и 7000 заплатить нельзя, то подождать взыскивать до будущего разрешения; в Синод сообщить ведение, чтоб отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы роковой Терюшевской волости и чуваши Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на двоих дьячков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разоряли и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш обращаемы были в христианство калмыки, крещеные владельцы которых увеличивали собою число русских княжеских фамилий: крестившейся ханше, вдове Дундук-Омбо, названной Верою, велено называться княгинею, двум ее дочерям – Надежде и Любви – княжнами, сыновьям – Петру, Алексею, Ионе и Филиппу – князьями Дундуковыми. На востоке распространяли христианство между инородцами; на западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. 15 июня Елисавета при докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтоб они особенно веры и закона не забывали, а так как русской церкви и священника в то время там не было, то велела отправить в Париж церковь с утварью и священником как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают; также велела отправить церкви и ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в Иностранной коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем приложить старание, чтоб в Вене находящимся там единоверным греческого исповедания людям позволено было иметь публичные церкви и при них колокола, взаимно, как в России такое позволение дается для римских церквей.
Сильно продолжала занимать Синод секта вертящихся, которую начали называть хлыстовщиною и христовщиною, указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов (Берг-коллегии советника Казаринова с двумя асессорами) и из троих духовных (московской Славено-греко-латинской академии ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками). Армянам отказано было в позволении отправлять богослужение в старых их церквях. В описываемое время у Сената с Синодом происходила любопытная переписка относительно продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание Сената понизить цены Синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту (у Спасских ворот) и в рядах, и хотя Синод прилагал всевозможное старание, чтоб не торговали книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа эта все продолжается. Тогда Сенат приказал сообщить св. Синоду ведение, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и обида; так не соблаговолит ли св. Синод положить книгам продажные цены умеренные и чтоб продавались они всегда безостановочно. Когда цены будут положены умеренные и книг будет в продаже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по более высокой цене, все станут обращаться в типографию, и, чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали книг дорогою ценою, за этим будут смотреть Камер-коллегия и Главный магистрат.
Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в продаже все не было той книги, о скорейшем издании которой заботилась императрица по завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр библии замедлился в Синоде в 1744 году и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пересмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил именной указ – библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, непременно издать в этом году для народного употребления; если же члены св. Синода это исправление считают в чем-нибудь недостаточным или кто-нибудь из них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения. 18 ноября члены Синода подписали определение, в котором о той библии «рассудили, что она без должного тех, кои ее исправляли, заручения находится чрез многопрошедшее время и сумнительно есть, нет ли в ней каковой попорчки, чего ради оную без оговорения печати предать опасно, и определили оную с печатною словенскою прочесть и исправить». Исправление было поручено архимандриту Илариону. Дело затянулось еще на несколько лет. Кроме издания библии Синод получил чрез своего обер-прокурора князя Шаховского еще повеление императрицы, чтоб проповедники, назначаемые в придворную церковь, говорили проповеди наизусть, а не по тетради. К описываемому времени относится первая мысль об иностранной цензуре, которую также должен был бы взять на себя Синод. 11 ноября при докладе канцлера Елисавета приказала: привозимые на кораблях и сухим путем книги отбирать и объявлять Синоду, нет ли в них противностей вере. И когда указ был написан и Елисавета выслушала его, то Бестужев представил, что такое распоряжение будет очень тяжело, так что никому нельзя будет достать из чужих краев никаких нужных для обучения и исторических книг, ибо когда все такие книги будут свидетельствовать, то для прочтения каждой потребуется немалое время, и, кому она будет надобна, тот дожидаться может. Пусть таким образом свидетельствуются только церковные книги, а прочие, исторические и другие, пусть свободно привозятся и в народе употребляются. Императрица оставила указ у себя для рассуждения с архиереем крутицким.
Из забот по хозяйству империи Сенат по-прежнему тяготила забота о правильном снабжении областей солью. Эти продолжительные хлопоты о соли любопытны для нас потому, что вскрывают главную беду древней и новой России – недостаток рабочих рук. В январе Сенат уже представлял императрице, что он определил выдавать заимообразно баронам Строгановым немалую сумму денег для вывозки и доставки соли, но они денег не берут, говоря, что входить в казенные долги не желают, и ждут решения императрицы на поданное ими прошение о взятии их варниц в казну, а Сенат опасается, что соли доставлено не будет. В следующем месяце Строгановы объявили, что соль готова, но как ее провезть? Работников с печатными паспортами нет, а письменными не велят брать. Приготовляться к выварке на 1746 год им нельзя, потому что денег нет вследствие прошлогодних убытков, а послать к марту месяцу надобно до 70000 рублей. Соляная контора дает им взаймы до 30000 рублей, но они боятся взять, потому что не надеются отдать. Всего нужно теперь им денег 199437 рублей, но такую сумму едва можно будет получить от продажи через год. Прибавка по копейке на пуд вознаградить их не может, тем более что продажа с прибавочною копейкою будет происходить в 46-м и 47-м годах и деньги возвращаться будут разве через два года; да и не в одних деньгах дело: подрядчики отказались везти соль за неимением работников и за другими озлоблениями, почему поставку соли из Нижнего в верховые города они, Строгановы, ни за какое награждение производить не в состоянии. Делать нечего, надобно было приниматься за старину, и генералу Юшкову велено было весною озаботиться поставкою работников на суда с солью, как было в 1744 году. Губернаторы и воеводы будут отвечать, если к сроку не вышлют людей. Денег должны были платить Строгановы и другие промышленники столько же, сколько платили бы вольным работникам.
Прошло два месяца. В мае Строгановы опять доносят, что к отпуску 745 года соли у них свезено сколько было возможно, суда под нее и приписаны, и приготовлены, но в рабочих людях при промыслах великий недостаток, так что по 1 апреля ни вольных с печатными паспортами, ни подрядных по указу к промыслам ни одного человека не явилось. Также из Нижнего Новгорода приказчик пишет, что посланный им в Казанскую губернию служить с готовыми деньгами для найма на устье Камском прибавочных для волжского верхового хода работников отыскал только из иноверцев 300 человек, и то без паспортов. Подрядчики для отправления соли из Нижнего до верховых городов просят за провоз цену несносную, и, зная свое совершенное изнеможение, они, Строгановы, в дальнейшие договоры с подрядчиками вступать опасаются. Строгановы требовали, чтоб назначена была особенная комиссия для освидетельствования всех их доходов и расходов как при выварке, так и при поставке соли. Требовали освидетельствовать заключение подрядов, путевые страхи, усышку и утечку. Требовали, чтоб подрядчикам для обороны от обид, наносимых разными командами, дать от Сената печатные охранные указы, ибо подрядчики вносят в договор, что если случатся им приметки или обиды от какой-нибудь команды, то обязательства их недействительны. Сенат велел послать указы губернаторам и воеводам выслать рабочих, подрядчикам препятствий не делать, оказывать всякую помощь, но велел также отвечать Строгановым, что они не имеют права требовать денег на разные расходы, потому что им прибавлено по копейке с пуда и по прежнему освидетельствованию видно, что они получают немалую прибыль и награждены освобождением от пошлин.
По донесению Юшкова в отпуску пермской соли было 4264077 пудов. Но Строгановы в июне опять подали жалобу в Сенат, что подряженные и обзадаточенные ими люди нечаянно от работ отлучаются по нарядам от правительства, а иные задатки приносят обратно во время крайней нужды и к работе их неволею принудить никак нельзя, вместо же их других сыскать негде, притом нанимают и задатки раздают на работников годных, а во время отпуску на ладьи приходят малолетние и в работу негодные, которых за неимением других переменить уже некем. Сенат приказал выслать на строгановские суда работников, взявших задатки. Сенату, видимо, наскучили постоянные жалобы Строгановых, и потому он определил: впредь Строгановым о соляных делах представлять и решения требовать от соляной конторы и, чего конторе самой делать нельзя, о том она должна представлять в Сенат. Но как нарочно, только что, казалось, отделались от Строгановых, как с противоположного угла является жалоба на то же самое и по тому же поводу. Астраханская губернская канцелярия прислала донесение, что в поставке соли с озер к Астрахани и до верховых городов препятствует недостаток в рабочих людях; при торгах подрядчики объявили, что рабочие люди, взяв задатки, бегут; притом холст на паруса и мешки дорог: прежде покупали тысячу аршин по 18и 20 рублей, а ныне покупают по 32 и по 33 рубля. В верховых городах сыщики на заставах берут рабочих людей. В 1744 году с судна подрядчика Курочкина сыщик взял 60 человек и приказчика, по этим причинам подрядчики поставили провозные цены чрезмерно дорогие: до Нижнего по 19 копеек за пуд, чего никогда не бывало. Соляная контора подтвердила астраханское донесение, что в Нижнем и других местах подрядчикам и рабочим, везущим соль, обиды, задержки и взятки от комиссии розыскных дел, отчего в найме рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник Фраундорф донес из Нижнего, что на соляных судах явилось немалое число беглых крестьян, рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать; как же быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать; кто явится подозрителен, того брать, но судно не останавливать.
Кончились хлопоты насчет 745 года; пришла осень, и начались хлопоты относительно поставки в будущем, 746 году. Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что нет денег на заготовку дров. Сенат приказал принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему в ссуду денег получил более 44000 рублей с небольшим в один год, несравненно более других промышленников; притом же Демидов и в промысел вступил с немалым награждением от отца. Строгановы опять объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обязать их поставить соль в указные места около трех миллионов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по 4 копейки без некоторых доль, за поставку соли в Нижнем получают по 9 копеек с пуда, и хотя при провозе от Нижнего до верховых городов могут случиться некоторые убытки, однако они вознаграждаются барышом от выварки соли и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих приказчиков: крестьянам – поставщикам дров наперед роздана немалая сумма на 72 варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова издалека, а тут разные беды, маловодье, жестокие бури, так что пропало 17783 сажени, чего вознаградить уже никак нельзя, ибо дрова ставили вверх Камы за несколько сот верст и на поставщиках задаточных денег в доимке немалая сумма, которой за их крайним изнеможением взыскать никак нельзя; от этого промыслам конечная несостоятельность, и выварить указанного числа – 3 миллионов пудов – нельзя, потому что дров будет только 139187 сажен, которыми можно выварить 2780000 пудов. Соляная контора представила Сенату, что надобно непременно заставить Строгановых выварить три миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год вываривалось до 264000 пудов, прекратил работы с мая месяца. Отпуск бузуну из Астрахани явился неполный за недостатком рабочих людей. Сенат приказал: принудить Строгановых вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой.
Соляные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Миляковы представляли в Берг-коллегию, что не в состоянии выплачивать доимку. Мнения членов коллегии разделились: президент и вице-президент считали представления заводчиков основательными, но остальные члены и с ними прокурор думали иначе, и прокурор жаловался Сенату, что президент и вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов доносил, что многим заводчикам под железные и минеральные заводы отведены государственные земли и угодья, они лес и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лес и дрова ничего не платят вопреки берг-привилегии и берг-регламенту.
Еще со времен Петра Великого, как мы видели, шел важный для русской промышленности вопрос о выделке широких или узких холстов. По господствовавшему тогда повсюду правилу старалось выпускать за границу как можно более уже выделанных товаров, и так как за границу требовались широкие холсты, то запрещалось выделывать узкие; но чрез такое запрещение производство останавливалось, потому что крестьянам трудно было вдруг перейти от одного способа выделки к другому, и холста недоставало для удовлетворения внутренних потребностей. Главный комиссариат представил, что ежегодно требуется большое количество холста для войска, и холст этот обыкновенно покупался не с фабрик, а у крестьян, и так как выделка узкого холста запрещена, то и небольшого количества холста достать негде и в полках может последовать большой недостаток. Вследствие этого представления разрешено выделывать широкие и узкие всяких рук полотна и холсты.
Относительно сукон комиссариат продолжал жаловаться на фабрикантов и Мануфактур-коллегию, заступавшуюся за фабрикантов. Комиссариат доносил, что фабриканты доставили 1940 половинок сукна и из них 1188 несходных с образцами. Сенат велел своей московской конторе призвать всех фабрикантов и объявить, чтоб впредь сукно ставили по образцам, и хотя нынешней поставки сукна у них приняты по самой крайней нужде, но если в другой раз они поставят такие же, то подвергнутся не только штрафу, но и наказанию непременно, без всяких отговорок. Призвать также в контору президента и всех членов Мануфактур-коллегии и сделать выговор, что смотрят за фабрикантами очень слабо. Сам Сенат видит из доставленных комиссариатом образцов, что сукна очень плохи, иные недовалены и шишковаты, за что коллегия подлежит жестокому штрафу. Быть может, не без участия комиссариата, желавшего иметь фабрики в одном своем заведывании, в конце года фабрикант Суровщиков объявил, что он положенное количество сукон поставить не может, потому что фабриканты состоят под двумя ведомствами – комиссариата и Мануфактур-коллегии – и фабрики не могут быть исправны за частыми отлучками содержателей их в разные командировки, и если он, Суровщиков, в ведении одного главного комиссариата не будет, то пусть возьмут его фабрику в казну.
Выделка шелковых материй шла вперед благодаря мастерам, посланным за границу Петром Великим. Елисавета дала поруческие чины мастерам из дворян Ивкову и Водилову, которые были отправлены отцом ее в Италию и Францию и теперь жили на московской шелковой мануфактуре и завели здесь бархатные, грезетные, штофные и тафтяные станы; Ивков научил делать травчатого дела бархат, какого прежде в России не делалось, а Водилов научил делать английские штофы, грезеты, тафты, которых прежде не было.
Из Перми и из Астрахани по поводу доставки соли приходили жалобы на недостаток людей; но такие же жалобы приходили и из других мест, недоставало людей в канцеляриях. Определенный для сыску воров и разбойников подполковник Львов доносил о крайнем недостатке приказных служителей, вследствие чего 200 колодников ждут решения своих дел; он требовал приказных служителей от казанской губернской канцелярии, а та прислала ему тех, которые в канцелярию генеральной ревизии не приняты за негодностью. Сенат велел казанской губернской канцелярии удовлетворить Львова без отговорок. Дело было важное, и дела было много у Львова с товарищами. Опять обнаружились разбои в 25 и 35 верстах от Москвы. Определенный для сыску разбойников полковник Греков доносил, что разбойники появились по Оке, в уезде Переяславля Рязанского. В Сибири колодники, назначенные в ссылку, более 200 человек, когда их везли в судах по Иртышу, взбунтовались, стали разбойничать по Оби, хвалясь разорить город Сургут, а в Сургуте не было и полфунта пороху, пушки ни одной. Решения по разбойным делам замедлялись не по одному недостатку приказных служителей. Юстиц-коллегия прислала в Сенат экстракт из дела, которое тянулось лет тридцать. Воровские люди, в том числе крестьяне стольника Милославского, разорили деревню помещиков Машкеевых в Касимовском уезде. Преображенский приказ решил взыскать с Милославского 3000 рублей, но в 720 году по челобитной Милославского и по письму князя Ромодановского, управлявшего Преображенским приказом, этих денег на Милославском до указа править не велено; в 1724 году по приговору Ромодановского дела и колодники отосланы для следствия в шацкую провинциальную канцелярию; в 1728 году по указу из Сената велено дело взять в воронежскую губернскую канцелярию, но отсылки дела туда не значится, и потому Юстиц-коллегия спрашивала, что делать? Сенат приказал отослать дело в воронежскую губернскую канцелярию. Если недостаток в людях так чувствовался в разных отправлениях государственной и народной жизни, то оказалась и польза от него: он отстранял жестокость в следствиях по разбойным делам. Так, уже известный нам полковник Львов доносил, что отправленные им на поиски офицеры прислали ему беглых солдат и рекрут более 70 человек, которые показали, что в бегах покупали фальшивые паспорта у разных неведомых бурлаков, а более подозрительными себя не показали; они очень молоды и видные собою люди, и если их за покупку паспортов разыскивать, то уже они к службе будут негодны. Сенат приказал: наказав их плетьми, отослать для определения в службу в Выборгский и Кексгольмский гарнизонные полки.
Кроме разбоев в городах и деревнях терпели от пожаров. Были большие пожары в Москве, Новгороде, Смоленске, Ельце. На пожарах бывали иногда любопытные случаи: казанский полицеймейстер Маматов жаловался на губернатора Загряжского, что тот во время пожара, приехав со псовой охоты, наезжал на него, Маматова, на лошади, при всем народе бил по голове и бранил шельмою, канальею и пьяницею. Губернатор, оправдывая себя, жаловался на слабые поступки полицеймейстера. В описываемое время некоторые части России страдали еще от скотского падежа; меры, употреблявшиеся для прекращения бедствия, были следующие: лошади приезжающих из зараженных мест должны были выдерживать карантин; палые животные зарывались в дальних местах в глубокие ямы, кожи с них снимать не позволялось; около зараженных мест учреждены были заставы. В Петербурге правительство по-прежнему должно было охранять жителей от степной привычки скорой езды. Императрица дала полиции изустный указ: 1) извощикам ездить на возжах, только бы лошади были взнузданы и ездили бы рысью, тихо, и не скакали и сани были бы подкованы; извозщикам быть в серых кафтанах неразодранных, в кушаках красных, в сапогах и в одинаковых шапках зеленых, а на левых руках были бы номера. Тут же разрешено ездить цугами.
Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор кн. Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594313 душ, из них обревизовано 198583, в которых против прежней переписи явилось прибылых 32694 души; за прописных с 724 года подушных и прочих денег к взысканию положено 73605 рублей. Такие донесения Сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал; поэтому приказали потребовать подобных же донесений от всех, чтобы присылали через каждые три месяца, и таким образом можно было бы знать, какое число душ мужского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и убыло и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе, а в марте Сенат получил неприятное объявление: «Ее импер. величеству стало известно, что астраханские и прочие по Волге рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание, также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились, таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение, но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, также на реку Куму и на бухарскую сторону за Яик и там питаются звериным промыслом, в отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее импер. величество не знает, о рыбных ловлях Сенат от ее величества никакого повеления не требовал, и о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее величество повелевает Сенату: рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возвратить, а дела, имеющиеся об этом в Сенате, прислать к ее величеству для рассмотрения; о ревизии, что в ней произошло по сие число во всем государстве, подать ее величеству известие, где показать, в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях; а из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть: по рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят».
Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии и высылки в Петербург; но на верхнем Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем, квартир им не дали, напали на улице на определенных к ревизии драгун и подьячего и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиною сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища нейдут, бегут опять на Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко от козачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься и они поневоле живут в городах и селах. Но не в одних степных украйнах ревизия встретила препятствия. В Москве многие обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями; служитель дома графа Головина Иванов по многим посылкам к ревизии не явился, посланному солдату запретил впредь приходить и поставил у ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано и, в каких местах находятся заводы, не объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но и это не помогло, сказка не подавалась. В Смоленской губернии в деревнях подполковника Ушакова утаено было при переписи 87 душ; староста, священник и крестьяне показывали, что утаить велел помещик.
Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате: она была очень занята делами внешними; по ним были частые доклады канцлера, происходили в дворце советы или собрания в присутствии императрицы, которая также иногда присутствовала инкогнито и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву, в 1743 году, у него был сильный припадок: вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова, ужаснулась перемене, которую нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения; наконец показался пот на лбу; доктор Боэргав был в восторге, увидав в этом хороший признак, и действительно благоприятный перелом совершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью; когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург; за нею спустя несколько времени выехал и великий князь с невестою и ее матерью. На дороге за Тверью в селе Хотилове ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хотилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло 16 лет: зажжена была иллюминация, «представляющая храм Гигеи, т.е. здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его импер. высочества».
После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством: празднество продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбою спешили, чтоб приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола, эти особы были прежде всего принцесса Цербстская и потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы Цербстской делом Шеварди, не могло исчезнуть и высказывалось при каждом удобном случае. При этом неприятный, мелочный характер принцессы возбуждал против нее всеобщее неудовольствие, и, в то время как дочь старалась, и с успехом, привязать к себе, мать отталкивала от себя всех, начиная с дочери: поссорилась из-за пустяков и с нареченным зятем, великим князем. Раздражение против принцессы увеличивалось еще делами голштинскими и шведскими. Управлявший Голштинским герцогством во время малолетства Петра Федоровича дядя его, избранный потом в наследники шведского престола, успел составить в Голштинии сильную партию, к членам которой принадлежал и Брюммер. Эта партия хотела удержать за собою господство и по отъезде герцога-администратора в Швецию надеялась, что настоящий герцог, т.е. великий князь Петр Федорович, как достигший совершеннолетия, пришлет своим наместником Брюммера. Но поведение кронпринца шведского, который под влиянием жены своей, сестры Фридриха II, совершенно предался франко-прусским интересам и тем вооружил против себя русский двор, считавший себя вправе упрекать его в крайней неблагодарности, – такое поведение заставляло наблюдать относительно Голштинии большую осторожность и не позволять здесь господствовать партии бывшего администратора, тем более что явилось подозрение относительно добросовестности этой администрации. Принцесса Цербстская ревностно поддерживала интересы своего брата кронпринца, который в августе писал ей по поводу голштинских дел: «Стараются очернить людей, мне преданных, и недостает только одного, чтобы назвали меня по имени. Я не боюсь никакого следствия; напротив, буду рад, ибо уверен, что следствие обратится в мою пользу. Признавая охлаждение между мною и великим князем чрезвычайно опасным для нашего дома, считаю необходимым предупреждать все внушения, которые, как видно, сделаны были ему против меня. Я уверен, дражайшая сестрица, что вы приложите к тому все свои старания; я требовал того же и у великой княгини по вашему совету. Я при первом надежном случае пришлю вам два экземпляра с цифирью, которые вы и великая княгиня можете употреблять; но я вас усерднейше прошу внушать ей, чтобы она в этих случаях поступала со всевозможным благоразумием и осторожностью. Брат мой Август приносит на меня несправедливую жалобу».
По поводу этого брата Августа раздражение против принцессы Цербстской стало еще сильнее в Петербурге. Принцесса еще в 1744 году в Киеве получила от него письмо, в котором он изъявлял желание приехать в Россию. Ей дали знать, что Август хочет приехать в Россию с целью получить управление Голштинии именем совершеннолетнего великого князя и что об этом хлопочет голштинская партия, враждебная прежней администрации. Принцесса отвечала брату из Козельска, что лучше ему вступить в голландскую службу и пасть с честью на поле битвы, чем интриговать против брата и присоединяться к врагам сестры в России. Под этими врагами она разумела канцлера Бестужева, который вел все это дело, чтоб повредить Брюммеру и всем приверженцам кронпринца шведского. Письмо попалось в руки Бестужеву и было им прочтено императрице, которую особенно поразило это жестокое слово сестры родному брату, что лучше ему быть убитым. Понятно, что это нежелание принцессы Цербстской видеть принца Августа в России заставило поспешить вызовом его в Петербург; он приехал, был дурно принят сестрою, и это еще более повредило ей. А между тем Бестужев поднес императрице перехваченное письмо наследного принца шведского к Брюммеру, где принц горько жаловался на стеснительное положение сестры своей в России относительно денег, жалел, что не может помочь ей, потому что сам кругом в долгах, и просил как-нибудь довести до сведения императрицы о безденежье принцессы Цербстской. Препровождая это письмо Елисавете, Бестужев по обычаю снабдил его своим примечанием, что непонятно, куда принцесса могла истратить столько денег, подаренных ей в разные времена императрицею, и, кроме того, успела наделать много долгов; канцлер не упустил случая напомнить императрице, что и сам наследный принц получил 120000 рублей русских денег для утверждения своего в Швеции и вообще облагодетельствован в ущерб Российской империи. Еще при докладе канцлера 22 июня императрица «в рассуждении каких-либо могущих быть неугодностей и толкований о нынешнем вступлении великого князя в голштинское правительство изволила указать корреспонденцию принцессы Цербстской секретно открывать и рассматривать, а буде что предосудительное найдется, то и оригинальные письма удерживать».
28 сентября принцесса Цербстская выехала из Петербурга, получивши на прощанье 50000 рублей да два сундука с разными китайскими вещами и материями; свита ее была также богато одарена; великий князь послал тестю свои бриллиантовые пуговицы с кафтана, бриллиантами украшенную шпагу, брилдиантовые пряжки и несколько других подобных вещей. Прощаясь, принцесса пала на колени пред императрицею и со слезами просила прощения, если в чем-нибудь оскорбила ее величество. Елисавета отвечала, что теперь уже поздно об этом думать, лучше было бы, если бы она, принцесса, всегда была так смиренна.
Отъезд принцессы Цербстской должен был показывать Брюммеру, что и ему надобно сбираться в дорогу, тем более что он сумел окончательно озлобить против себя своего воспитанника, великого князя, с которым решительно не умел обходиться: то выходил из себя, причем забывался до неприличной брани, то начинал униженно ласкаться. Однажды он забылся до того, что бросился на Петра с кулаками; тот вскочил на окно и хотел позвать часового; профессор Штелин, бывший свидетель сцены, удержал его, представив, какие будут следствия; тогда великий князь побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюммеру: «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагою». С этих пор между воспитателем и воспитанником воцарилась совершенная холодность. Лесток толковал, что намерен проситься в отставку и ехать на воды в Германию. Замечали, что он лишился всякого влияния на дела, и хотя императрица по старой привычке и памяти о старых услугах не удаляла его от двора, но при случае безо всякой церемонии давала ему чувствовать, как он сильно упал в ее мнении. Однажды когда он стал хвалить перед нею графа Воронцова, то она сказала ему: «Я имею о Воронцове очень хорошее мнение, и похвалы такого негодяя, как ты, могут только переменить это мнение, потому что я должна заключить, что Воронцов одинаких с тобой мыслей». Обер-церемониймейстер граф Санти мимо Коллегии иностранных дел обратился к Лестоку за наставлением, какое место назначить Брюммеру и Бергхольцу при будущих торжествах бракосочетания наследника. Лесток по старой привычке обратился к императрице с докладом об этом деле, но получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему в канцлерские, и при первом докладе Бестужева велела ему сделать выговор Санти, чтоб он со своими делами не обращался ни к кому мимо канцлера или вице-канцлера, иначе может потерять свое место. Бестужеву это поручение не могло быть неприятно, потому что он не любил Санти как человека противной партии и называл его в насмешку «обер-конфузионсмейстером». Шетарди обещал Лестоку королевским именем подарок в 12000 рублей, а Лесток просил, чтобы на эти деньги были сделаны ему в Париже кареты и ливрея. После высылки Шетарди о каретах. и ливрее замолчали. Наконец Лесток через Мардефельда напомнил преемнику Шетарди Дальону о 12000, но Дальон дал знать своему двору, что Лесток вследствие победы Бестужева не может быть полезен и потому не для чего на него тратиться, при том же он предпочитает прусские выгоды французским.
Бестужев победил; врагов, которые до сих пор вели против него такую сильную борьбу, – одних уже нет в России, другие готовы удалиться – потеряли значение: Но в это самое время против торжествующего канцлера поднимается новый соперник, бывший до сих пор верным союзником, – вице-канцлер граф Воронцов. Как же произошла эта перемена? До назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех русских вельмож, которые старались высвободить Россию из-под влияния Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании слабейших 12 государств против сильнейших – Австрии и Саксонии против Франции и Пруссии, причем пo единству интересов морские державы Англия и Голландия были естественными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в перевороте 25 ноября, дружбою с фаворитом Разумовским, Воронцов, естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петр. Бестужев стал канцлером, а Воронцов – вице-канцлером, покровитель должен играть второстепенную роль подле покровительствуемого, и стоило только Воронцову стать официально подле Бестужева, как второстепенность, незначительность его роли обозначились резко в глазах всех своих и чужих. Бестужев сделал все, Бестужев поборол противников своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником блестящей планеты, но для его самолюбия это положение было тяжело, а тут искушения со всех сторон: враги канцлера ухаживают за вице-канцлером, он теперь их единственная надежда, им необходимо сделать его соперником ненавистного Бестужева, они утешают друг друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева; такие утешения не могут скрыться ни от канцлера, ни от вице-канцлера и, естественно, кидают между ними нож. Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, выделиться, получить самостоятельное значение, засветить собственным светом – это порозниться в мнениях с канцлером, а это легко и выгодно: недавно окончена шведская война, ни императрица, ни большинство людей знатных не хотят новой войны, а канцлер слишком рьян, он. непременно хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить ими Пруссии; легко сказать – двинуть войска: чего это будет стоить и где взять денег? А если Пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет действительно начать войну? Для чего подвергаться такой опасности? Изменять системы не нужно; можно помогать Австрии и Саксонии, сдерживая Пруссию сильными представлениями. Такое мнение очень понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было забыть и внушений Шетарди: благоразумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко наперекор его привязанностям? Елисавета может вдруг умереть…
Таким образом, Бестужев в проведении решительных мер против Пруссии должен был встретить в своем товарище не помощника, но противника, который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась неудачно для Фридриха II: он должен был очистить Богемию, а в январе 1745 года умер союзник его император Карл VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II обратился к Елисавете с требованием помощи на основании оборонительного союза; не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование было уважено, Фридрих велел Мардефельду просить императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. Чернышев оставшийся один в Берлине по отъезду Мих. Петр. Бестужева в Дрезден, отвечал Подевильсу, что императрица не считает себя обязанною помогать прусскому королю в этой войне, которую он сам начал, тогда как никто на него не нападал, принять же на себя посредничество для водворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге посланник Марии Терезии граф Розенберг был позван к государственному канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает императрицу принять на себя посредничество в примирении всех воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государыню, что императрица будет ждать только ответа от венского двора, чтобы приложить самое усердное старание о всеобщем примирении и подать новые опыты своего высокопочитания ее величеству королеве. Розенберг отвечал, что его государыня, предав свою судьбу в руки ее импер. величества, примет за благо все, что императрица ей ни изволит присоветовать, будучи уверена, что такая правосудолюбительная монархиня не может одобрить поведение прусского короля, частого нарушения им трактатов, также обиды и разорения, причиненного им землям королевы.
Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор желает одного – выпутаться из этой войны с сохранением Силезии – и домогается посредничества России с тою целью, чтобы эта держава, занявшись мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии; притом берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама предложила свое посредничество, без требования со стороны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое посредничество к умирению Европы и что это предложение сделано по внушениям Франции и Пруссии! Вследствие этого 30 марта Чернышев получил от своего двора рескрипт с объявлением, что Мардефельду отказано относительно посредничества. «Нам не для чего, – говорилось в рескрипте, – такого авансу делать и посредство наше навяливать. Сверх же того, когда с другой стороны не точию нам, но, как известно, в Гаге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и Порта Оттоманская свое посредство предъявляет, то мы как ни желательны скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для нас признаем. При изъяснении всего вышеписаного по поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не преминете прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать станете при удобовозможной учтивости, правость сего нашего поступка им внятно истолковать и дать уразуметь, с какою умеренностью сей наш ответ о медиации им учинен, довольно причины имея оный с выговором учинить, понеже его величество сам оную медиацию предложил и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы оферировали».
Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались избегать «всякий досадительный вид»: понятно, что должны были стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, к какому старались побудить Россию Австрия и ее союзники. В начале 1745 года был заключен в Варшаве договор между морскими державами, Австриею и Саксониею, по которому последняя обязывалась за английские субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с Австриею против Пруссии. Для обеспечения успеха союзным державам необходимо было склонить к тому же и Россию. Когда Ланчинский по окончании дела Ботты возвратился в Вену, то был принят министрами Марии Терезии «с оказанием особливого удовольства». При первом же свидании канцлер граф Улефельд вручил ему печатный экземпляр циркулярного рескрипта королевы к министрам ее при иностранных дворах, уничтожающего силу прежнего рескрипта по делу Ботты, после чего стали внушать Ланчинскому, что на русской императрице лежит обязанность поддержать европейское равновесие, не говоря уже о Франции, король прусский один в состоянии нарушить спокойствие севера; он уже знает дорогу и в Константинополь, потому необходимо силу его поубавить и не только Силезию, но и другие земли у него отнять, чему Россия легко может содействовать. Если же прусский король останется при настоящих своих владениях, то хотя и нежелательно пророчествовать неприятное, однако нельзя не предсказать, что Фридрих II, исполненный завоевательного духа, скоро доберется до польской Пруссии, потом до Курляндии, а потом получит аппетит и на Лифляндию.
В Вене делались внушения: в Петербурге с апреля месяца у канцлера и вице-канцлера происходили конференции с английским посланником лордом Гиндфордом, австрийским графом Розенбергом, голландским Дедье и саксонским резидентом Пецольдом о приступлении России к Варшавскому договору. 29 апреля лорд Гиндфорд, жалуясь, что от императрицы нет ответа на их предложение, писал своему двору: «Воронцов снял с себя личину и смело противится приступлению России к Варшавскому договору, но я надеюсь, что мы в этом деле успеем. Друг мой (Бестужев) намерен подать свое мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать свое в таких же. Все старые сенаторы на нашей стороне». Прошел еще месяц, и только 30 мая канцлер сообщил послам союзных держав ответ на их предложение; в этом ответе говорилось, что для отстранения всяких затруднений и для скорейшего окончания дела необходимо откровенное объяснение. В предложении сказано, что от России не требуется что-либо новое, требуется только исполнение старых союзнических обязательств, но императрица считает себя обязанною признать случай союза (casus foederis) только относительно одного короля великобританского; относительно короля польского случай союза еще не представился, что же касается королевы венгро-богемской, то у нее нет никакого права полагаться на прежние союзные договоры со здешним двором, потому что союзный договор с императором Карлом VI в 1733 году изменен в предосуждение великого князя-наследника как герцога голштинского, почему союз от ныне царствующей императрицы не признан, формально до сих пор не возобновлен и не ратификован, впрочем, императрица готова заключить новый союзный договор. Императрица не отрекается также заключить конвенцию с державами, подписавшими Варшавский трактат, конвенция эта должна заключаться в следующем: Россия выставляет 30000 войска, за которые ей должно быть заплачено по миллиону двести пятидесяти тысяч албертовых ефимков ежегодно. Если на Россию нападут турки, персияне или какие-нибудь другие нехристианские народы, то 30000 войска возвращаются назад в Россию, но деньги продолжают уплачиваться во все время продолжения войны; если же на Россию нападет христианская держава, то кроме уплаты денег союзники обязаны сделать диверсию в пользу России или оказать ей выговоренную в договорах помощь, наконец, союзники обязаны гарантировать все немецкие владения великого князя-наследника.
Послы отвечали, что переданная им бумага тем более для них горька и прискорбна, что противна интересу России и славе ее величества: они не станут говорить о том, что случай союза с королем польским существует очевидно, равно не станут говорить о том, что неслыханно в свете и неизвестно ни одному народу, что договор должен подтверждаться при каждой перемене правления. Неизвестно Европе, что если по требованию императрицы Анны изменен один параграф договора между Россиею и Австриею, то и весь договор потерял силу. Опасные последствия такого принципа скоро ниспровергли бы человеческое общество, ибо каждый государь мог бы тогда сказать: мой предшественник не мог уступить таких-то городов или таких-то областей, не заключать такого договора, потому что это предосудительно для моего наследника. Послы и министры не коснутся также жестоких и неслыханных условий, требуемых за русскую помощь, ибо в целом свете не найдется договора, в котором бы подобные условия были предложены и приняты. Впрочем, послы и министры признают ответ 30 мая отговоркою в исполнении обязательств и полным отказом на все их предложения.
Ланчинский получил приказание передать устно министрам Марии Терезии, что его государыня согласна возобновить союзный договор на основании договора 1726 года, но с исключением обязательства подать помощь королеве в настоящей войне и ручательства за прагматическую санкцию, при этом Ланчинский должен был жаловаться на Розенберга, который позволил себе слишком резко высказать свое неудовольствие на конференции 30 мая . Граф Улефельд отвечал, что, наоборот, Розенберг обижен, потому что он один объярляется виноватым, а голландский и английский министры в стороне, тогда как все дело в том, что с русской стороны объявлены невозможные условия. Утопающий вопит о помощи, а приятель говорит ему: подожди до завтра. «Кажется, – продолжал Улефельд, – при вашем дворе утверждено мнение, что России никакие союзы не надобны, что нашему двору в русском больше нужды, чем русскому в нашем. Но как можно это предвидеть?» «Дело понятное, – сказал Ланчинский, – на австрийский дом бывают частые нападения, и в настоящее время он выдерживает войну». «Поэтому-то мы и помощи просим, – возразил Улефельд, – но относительно будущего нельзя сказать ничего решительного. Вы, может быть, думаете, что теперь Порта находится в упадке благодаря персиянам и Россия поэтому долгое время будет покойна, но надобно обратить внимание на причину упадка, которая случайна. Если настоящий султан будет низвержен и сядет на престол один из его племянников, который поразумнее и пободрее, и если новый султан, помирившись с Персиею, нападет на Россию, то наша королева, которую допускают теперь до обессиления и разорения, будет ли тогда в состоянии подать помощь России?» «Пассаж, о котором вы упоминаете, не в ту силу клонится, – отвечал Ланчинский, – турки, оправившись, скорее всего нападут на Венгрию, которая к ним близка, а в подстрекателях к этому не будет недостатка».
Но прусский король не был доволен тем, что Россия уклонялась от союза с его врагами, он потребовал, чтобы Россия удержала польского короля как курфюрста Саксонского от враждебных действий против Пруссии. На это Чернышеву приказано было отвечать, что русский двор сначала был того мнения, что смерть императора Карла VII и выбор нового главы империи соединят важнейших имперских членов, но вышло иначе – между членами империи, равно как между ними и другими державами, продолжаются прежние отношения, и потому русский двор должен также смотреть на дело по-прежнему. Если король прусский по-прежнему хочет исполнять обязательства к своим союзникам, то и король польский как курфюрст Саксонский может точно так же поступать относительно своих союзников. Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной безопасности, и исполнения этим государем своих обязательств к союзникам не могут быть признаны враждебными действиями против Пруссии, и потому саксонские земли не могут за это ничего потерпеть, тем более что король польский обнадежил русский двор, что не хочет нарушить своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на Богемию, то Россия своею предупредительною помощью докажет, как она намерена держать свое слово.
Подевильс отвечал на это «со смутным и недовольным видом», что он никак не может понять причину, почему дрезденский двор имеет счастье пользоваться дружбою русской императрицы предпочтительно пред берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, сказанным дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал венгерской королеве. «Кровопролитие последует, – продолжал Подевильс, – потому что мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за военное действие против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на своих союзников отомстить за это дрезденскому двору впадением в собственные его владения, не признавая его нейтралитета, ибо мы имеем верные известия, что между Саксониею и Австриею уговор разделить между собою Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии». На это велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам в своих манифестах объявил, что хотя он, вступаясь за главу империи, напал на Богемию, однако с венгро-богемскою королевою никакой ссоры не имеет и при бреславском договоре держится; точно так же и король польский может помогать Марии Терезии, а с берлинским двором продолжать доброе согласие, а если бы от нашего произвола зависело считать помощников врагам нашим также и нашими врагами и последовать прусскому принципу, то между Голландиею и Франциею давно бы уже велась война, но мы видим другое: французский министр живет в Гаге, а голландский – в Париже. Чернышев должен был объявить, что его двор не думает, чтоб прусский король решился что-нибудь предпринять против Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком и союзники Саксонии, в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь.
Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала войска Англии за субсидии, чтоб не соглашалась на избрание в императоры германские мужа Марии Терезии герцога Тосканского Франца, а содействовала избранию Саксонского курфюрста (короля польского) Августа III, чтоб вошла в четверный союз с Франциею, Пруссиею и Саксониею или, если уже этого нельзя, оставалась бы совершенно нейтральной. В это время, как мы видели, место русского министра в Париже занимал Гросс, но императрица думала, что французский двор будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-нибудь познатнее, «да и лучше, чтоб там кто из российских был». В начале года министр Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что будет противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии, ибо в таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле Даржансон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать избрание герцога тосканского в императоры: он будет сильнее всех своих предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы опасно по естественной склонности венского двора к Брауншвейгской фамилии; хотя Ботта и умер, но его вредные замыслы могут возобновиться в России. Если б Россия вступила с Франциею и Пруссиею в такой тесный союз, чтоб было три головы под одною шапкою, то ей нечего было бы бояться никакой державы. На донесения об этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание не входить с Даржансоном в дальнейшие объяснения и ограничиться только наблюдением «сентиментов» французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса французское министерство, естественно, приписывало Бестужеву, и Даржансон в разговорах с Гроссом даже не мог удерживаться, чтоб не называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского министерства не согласны с видами самой императрицы.
Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем, что в бумагах маршала Белиля, захваченных австрийцами, найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, что Порта предложила свое посредничество для заключения всеобщего мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. «Если справедливо первое, – писал Дальон, – то надобно вытерпеть последствия, а второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтоб мы не довели турок и до чего-нибудь большего, а Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего: несколько татарских набегов, от которых Порта всегда могла бы отречься, произвели бы между здешним народом большую тревогу. 30000 янычар, которые бы расположились лагерем со стороны Белграда или начали бы усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу такого большого войска из Венгрии. Ослепить Бестужева можно только знатною суммою, и потому надобно ее ему дать, иначе от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию пенсии; женатый на двоюродной сестре императрицы, он свергнет Бестужева. Россия вовсе не так сильна, как кажется издали, да и то если слушать людей, которым выгодно представлять ее сильною. В деньгах страшный недостаток». В начале июня Дальон писал: «Я вторично сделал канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его подвигнуть, но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: не делайте нам зла, а мы вам его делать не будем, я взял его за руку и, смотря прямо ему в глаза, спросил: может ли мой двор полагаться на все то, что в этих четырех словах заключается; он, пожимая мне руку и также прямо смотря мне в глаза, сказал: да. Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я должен стараться об одном: препятствовать, чтоб Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть, не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие иностранные министры не больше меня успели, с тою только разницею, что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не сделает».
Даржансон отвечал Дальону: «Ваше письмо от 8 числа подает мне большую надежду на русский нейтралитет, и, как видно, никто ничего и не сделает. Мы знаем важность этого нейтралитета, знаем, что он может вести к миру. Но еще важнее для блага Европы заключение четверного союза между Франциею, Россиею, Саксониею и Пруссиею, и по заключении такого союза кто бы осмелился возмутить покой Европы? Мы стали бы предписывать справедливые и умеренные законы. Знаю, что не легко согласовать этот четверной союз с союзным договором между Россиею и Англиею, но средства нашлись бы, если б было доброе желание. Венский двор подал теперь новый пример своего тиранства относительно баварского дома: он обманул молодого курфюрста, обещал ему помощь и оставляет беззащитным; позволил ему нейтралитет, а между тем хочет посылать его войска в Италию для защиты своего собственного дела; города его удерживает, хочет захватить его курфюрстский голос, чтоб распорядиться им согласно со своими видами, контрибуции требует, хочет разорить Баварию окончательно. Венский двор управляет Германиею железным жезлом, гессенцев и палатинцев обижает; хочет принудить всех курфюрстов на императорских выборах подать голос в пользу великого герцога тосканского; но годится ли этот принц для ношения императорской короны? Неужели императрица, столь великодушная, мудрая и щедрая, пожелает содействовать возведению на императорский престол принца столь малодостойного, который не приобрел себе в Европе никакого значения и который не имеет никакого права, кроме силы венского двора. Вице-канцлер вам сказал, что императрица приняла решение ни помогать, ни препятствовать избранию великого герцога тосканского: такое равнодушие неприлично столь великой государыне, она упускает случай приобрести великую славу в Германии. Петр Великий поступал не так, он ревностно искал случаев вмешиваться в германские дела. Мы намерены твердо и навсегда соединиться с Россиею. Мы чувствуем, что русские всегда будут неприятелями турок, но упомянутый выше союз повел бы к тому, что турки не могли бы пошевелиться в Европе. Вы говорите, что вследствие союза с Англиею Россия вышлет только 12000 войска, не более, новы знаете, что мнение светом владеет; в Европе не преминут объявить, что вслед за 12000 против нас пойдут еще 60000. Вы должны противиться всем этим проектам и не пренебрегать ничем для склонения к полному нейтралитету. Я не думаю, чтоб Англия стала давать субсидии России; эта империя так сильна, что в субсидиях не нуждается. Англия будет давать деньги только канцлеру, которому мы предлагаем более значительные почетные подарки, и притом более согласные с интересами и славою России. Англичане хотят эту державу вовлечь в войну, а мы хотим соединиться с нею только для примирения Европы».
Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Франциею, Россиею, Пруссиею и Саксониею, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы; при этом Дальон просил, чтоб императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксониею. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте; Дальон отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что прилагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 50000 рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал по этому случаю заметку: «Когда Дальон вздумает подлинно 50000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 100000 я ему отказал, и теперь некстати будет принять 50000». Но перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в большее затруднение. Дальон писал: «Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя; чтоб сделать и дурное к лучшему, я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтоб дать вам способ совершенно расположить его к Франции». Воронцов заметил на этой депеше: «Кроме собственного его, Дальонова, желания (свержения Бестужева), от меня он нималого виду или признаку о сем иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет (т.е. канцлеру). Никакого увещания и присоветования от него не было (насчет Монпелье и Парижа), ибо я сам ему сказал, что доктора мне советуют зиму препроводить в Монпелье, также что и ни у котораго двора более трех дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, кроме действительной рабской верности как делом, так и советом, инако поступлено не будет».
Старания Франции о союзе с Россиею должны были остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так, Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксониею, чтоб не быть принужденною в силу договоров подавать помощь стране, которая подвергнется нападению; Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссиею, но с тем чтоб Саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия.
Мих. Петр. Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен к графу Брюлю, у которого застал и духовника королевского, патера Гварини. Разговор пошел о настоящих деликатных германских замешательствах, причем Брюль в конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его государю было бы непротивно, если б король польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в непродолжительном времени быть уведомлен о сентиментах ее величества. Потом Брюль и Гварини начали рассуждать, что достоинство польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтоб Август и ставши императором продолжал быть польским королем, ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к тому склонны, то он думает, что его избранием может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонский министр, находящийся в Париже, доносит, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императоры.
Елисавета прочла сама донесения Бестужева об этих разговорах и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство с саксонским интересом не сходно и с короною польскою не компатибельно , причем Брюль заявлял, что если хотят, чтоб его король уклонился от избрания в императоры и действовал в пользу герцога тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без вознаграждения сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшись императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что «авантаж весьма невелик и скуден: король польский, ставши цесарем, больше власти от этого в Польше не получит, и в случае войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в ней участие ни Польшу, ни империю; тогда как Россия имеет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корона».
Посланники английский и голландский заодно с Бестужевым отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и Бестужев уже счел своею обязанностью представить своему двору, какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. «Между польскими магнатами, – писал он, – я не нахожу ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться по известному этого народа непостоянству; но так как из зол надобно выбирать меньшее, то представляю следующее: дом Потоцких, которого глава великий гетман коронный, всегда бывший злым врагом России; теперь гетман стар и дряхл, но весь дом его недоброжелателен к России. Сендомирский воевода граф Тарло всегда был нам противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез; только один из него знатен – великий канцлер литовский; но и тот для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушко, великий маршалок литовский, человек знатный, но простоват и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский богат, да лукав и непостоянен, сверх того, не имеет кредита. Воевода мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться. Из князей Чарторыйских вице-канцлер литовский человек умный, но без кредита и ненавидим между поляками; брат его, воевода, русский человек острого разума, честный, постоянный, по жене своей (Сенявской) очень богатый; он во всех революциях постоянно держался русской стороны, он имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман литовский человек добрый и к России был всегда склонен; он по своему чину в Литве немалый кредит имеет. Гетман польный коронный граф Браницкий, человек изрядный, честный и богатый; также ничего противного России от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский, человек умный и добрый, кажется, нам доброжелателен, по крайней мере во время последней революции постоянно при нашей стороне был и между мелким шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми – Чарторыйским, Радзивиллом, Браницким и Малаховским – Чарторыйского, воеводу русского, признаю самым способным: это человек твердый и постоянный, что редкость между поляками, знатен и богат (больше 200000 талеров годового доходу имеет). Несмотря на то, если б дело дошло до избрания, то по обычной друг к другу зависти и ненависти, кроме великого беспокойства и смуты, между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они лучше саксонского принца, нежели природного Пяста, в короли себе пожелают, и эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если ваше и. в-ство к саксонскому принцу склонность явите и его поддержать соизволите. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле саксонского принца предпочтительнее пред Пястом, ибо Пяст по природной к России ненависти будет иметь сношения с французами, шведами, турками и татарами ко вреду России; а чужестранный принц для собственного охранения и для получения большего значения между поляками всегда будет держаться русской стороны».
Между тем Фридрих II велел объявить Августу III, что если вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эта угроза заставила еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подании немедленной помощи. Поражение, претерпенное австро-саксонскими войсками в Силезии от пруссаков, подало повод Бестужеву писать:
«Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения, вступит в Саксонию, которую скоро и легко можно разорить, и король польский силою прусского оружия и страхом пред неминуемым разорением своих наследственных земель принужден будет, оставя польскую корону, принять императорскую, следовательно, покинув союз с морскими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасные из этого для русских интересов следствия, возбуждение замешательств в Польше и возведение на тамошний престол либо Станислава Лещинского, либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют меня всенижайше представить, каким образом теперь наступило настоящее время заблаговременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтоб не усилился чрез меру и не принудил польского короля оставить Польшу, принять императорскую корону, ибо если со стороны России не примутся немедленно сильные меры, то после уже будет поздно помочь беде». Извещая, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил: «Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных дальностей , если ваше величество за здешний двор как можно скорее вступиться не соизволите». В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебании Голландии, устрашенной этими успехами, о постоянных требованиях с французской стороны, чтоб король польский принял императорскую корону, Бестужев писал: «Французская и прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого усиления».
Но вместо извещения о сериозном демарше , которого требовал Бестужев, ему сообщили из Петербурга, что Чернышеву велено сделать при берлинском дворе наисильнейшие увещания, чтоб не предпринимали ничего враждебного против саксонских земель; а между тем Бестужев продолжал доносить, что министры французский и испанский употребляют все меры, чтоб отлучить польского короля от его союзников, примирить с прусским королем и потом склонить к принятию императорской короны; в случае невозможности соединить эту корону с польскою обещают возвести на польский престол одного из саксонских принцев, наконец, обещают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при берлинском дворе не имеют силы, Фридрих II готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецких границах: король Август обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока прусский король не объявит войны Саксонии, но одного движения русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II от объявления войны.
24 августа французский посланник подал промеморию, в которой склонял польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания императорского достоинства; если же Август III никак не согласится быть императором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил Бестужева, что король Август, не желая получить императорскую корону интригами французского и прусского дворов, твердо решился не дать себя поймать в расставленные ему сети и не отступать от своих союзников. Вогренан при дворе и в частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой помощи от России никогда не получит, ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распущен был по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против императрицы, наследника и его супруги, потому что последние не приобщались публично св. таин по уставу восточной церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского дворов. Из Константинополя приходили известия, что прусский и французский дворы – первый чрез своих эмиссаров, а второй чрез своего посланника – беспрестанно и всеми силами стараются склонить Порту, чтобы послала сильное войско в Венгрию, где турки могут без всякого труда делать завоевания по неимению там австрийских войск; прусский король особенно домогается союза с Портою. Наконец прусский король объявил войну Саксонии.
Петербург был встревожен этими известиями в самое неудобное время, во время приготовлений к свадьбе великого князя. 19 августа в присутствии канцлера и вице-канцлера Елисавета говорила, как было бы желательно каким-нибудь образом оба двора примирить; если бы теперь по союзному обстоятельству послать польскому королю на помощь 12000 войска против прусского короля, то, пожалуй, это может навлечь на Россию дальнейшие следствия тяжкой войны; а, напротив, если и король польский при своих малых силах будет принужден вступить в французские и прусские виды и принять предлагаемую ему этими дворами императорскую корону, то для русских интересов также продолжительные и тяжелые следствия произойдут. Для решения этого вопроса императрица велела немедленно собрать совет. Тут Воронцов поднес свое письменное мнение, которое Елисавета оставила у себя. Бестужев испугался и объявил, что он также подаст свое письменное мнение.
Воронцов в своем мнении говорил, что, по-видимому, нужно было бы послать войско на помощь королю польскому, чтобы отвратить его от искания императорской короны; но этою посылкою Россия обнаружит явную вражду к королю прусскому, своему союзнику, безо всякого неудовольствия с его стороны, безо всякой причины и должна будет ждать от него всякого неприятельского поступка. Если этой посылкою войска не достигнем желаемого, т.е. не отвратим прусского короля от неприятельских действий против Саксонии, то честь и слава императрицы заставят употребить все свои силы для достижения этой цели, от чего зайти можем очень далеко, навлечь на себя войну, окончание которой неизвестно. Войска наши иначе не могут достигнуть Саксонии как через польские или прусские земли. В первом случае поляки тронутся и заведут конфедерацию против своего короля, которую Франция и Пруссия будут поддерживать для низвержения Августа III и возведения на престол своей креатуры. Если же идти через прусские земли, то это признано будет за явное нападение и нарушение союза, и, конечно, пруссаки не допустят наше войско до соединения с саксонскою армиею, нападут на него с превосходными силами и могут нанести поражение. Для укомплектования войск нужен рекрутский набор и чрезвычайные расходы; но состояние империи позволяет ли такую трату людей и денег, а денег и без того очень мало в нашем государстве. Для избежания явного нарекания в неисполнении договора с Саксониею не лучше ли вместо посылки войск дать деньгами по 450000 рублей в год; на войско истратим столько же; и тут по крайней мере люди останутся целы. А всего было бы лучше помирить Саксонию с Пруссиею таким способом: объявить решительно прусскому министру, чтобы король его удержался от нападения на Саксонию, в противном случае русские войска немедленно пойдут к ней на помощь, по желанию же его короля обещается ему полное обнадеживание, что саксонцы не тронут его земель, и действительно вытребовать это обещание от дрезденского двора.
13 сентября Бестужев подал свое мнение: «Ваше величество находитесь в союзе с разными державами. Самый древний союз с королем великобританским, ибо он основан на взаимной безопасности обеих корон относительно Швеции, Дании, Пруссии и Польши, на взаимном благе обоих государств и на торговле: англичане ежегодно продают и покупают здесь товаров более чем на миллион рублей, и так как покупают более, чем продают, то более полумиллиона оставляют здесь чистыми деньгами. Петр Великий так уверен был в необходимости постоянной дружбы с Англиею, что и во время ссоры своей с английским королем Георгом I по мекленбургским делам старался соблюдать дружбу с Англиею. В царствование вашего величества заключен с Англиею союзный договор, потому что приведенные причины и интересы остаются неизменными. Второй союз, в царствование вашего величества возобновленный, – это союз с Пруссиею, который мог быть также очень полезен, если бы мы не были научены опытом, как мало прусский король держит свое слово и свои обязательства и как мало, следовательно, можно положиться на все его ласкательные обнадеживания. Я вместе с покойным Бреверном советовал заключить союз с Пруссиею именно для того, чтобы удержать прусского короля от подания помощи Швеции деньгами или людьми, ибо извещали, что государь этот дал значительную сумму денег графу Потоцкому для подкрепления польской конфедерации, о которой так хлопотала Швеция для отвлечения внимания России от себя. Но теперь, когда прусский король посредством брака своей сестры со шведским наследным принцем, чего я всегда опасался, приобрел там такие сильные связи и влияния, сомневаюсь, чтоб он в случае нашей ссоры со Щвециею захотел быть нам полезен; напротив, более причин опасаться, что связи и влияния этого горделивого государя и сестры его произведут действия, очень противные интересам вашего величества, если вскоре не положатся этому пределы; он уже и теперь имеет в Швеции более власти и кредита, чем мы когда-либо имели; без сомнения, он сам внушает сестре своей мысли об отмене нынешней формы правления в Швеции, о восстановлении там самодержавия, не говоря уже о том, что в Польше и при самой Порте Оттоманской он составляет себе сильные партии и входит в тайные соглашения, которые с интересами вашего величества и вашей империи вовсе не сходны. Третий союз у нас с королем польским как с курфюрстом Саксонским, союз полезный для взаимной безопасности от Пруссии и Швеции; кроме того, курфюрст полезен нам как викарий империи: так, при его содействии великий князь Петр Федорович, несмотря на перемену вероисповедания, признан способным оставаться в числе имперских владельцев.
Благодаря этим союзам Россия наслаждалась миром при всеобщей войне; но при настоящем положении дел осудить себя на бездействие нельзя по святости договоров; таким бездействием можно потерять дружбу и уважение всех держав и союзников. Нужно, следовательно, избрать которую-нибудь сторону, и всего лучше принять мнение вице-канцлера, поданное им 11 сентября 1744 года. Мое мнение состоит в том, что интерес вашего величества, честь и безопасность империи требуют принять такие меры, которыми древняя, истинная европейская система могла бы быть подкреплена и восстановлена без принятия Россиею непосредственного участия в войне; примером служит Голландия, которая помогает Англии и королеве венгерской деньгами и войском, не принимая, впрочем, прямого участия в войне и считаясь только помощницею. Теперь война между двумя союзницами России – Пруссиею и Саксониею; обе имеют право требовать от нас исполнения договоров: на которую же сторону склониться? Разумеется, на саксонскую, ибо Фридрих II – нарушитель всеобщего спокойствия: он без всякой причины напал на Саксонию и на королеву венгерскую, разорвал бреславский мир, гарантированный Россиею и Англиею. Фридрих II, несмотря на все увещания со стороны России, несмотря на собственные его обнадеживания, сделанные здесь через Мардефельда, что он ничего не предпримет против наследственных земель короля польского и против спокойствия в королевстве Польском, воспользовался неудовольствием сендомирского воеводы Тарло и предложил ему польскую корону или если он ее не желает, то обещал возвести на престол Станислава Лещинского, во всяком случае обещал поддержку со стороны Пруссии и Франции, если Тарло образует конфедерацию и откажет в повиновении королю Августу. Если бы принято было мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что надобно приготовить к походу 10000 козаков, или если бы принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского резидента Пецольда об отправлении 12000 войска, за которые король польский обязывался платить субсидные деньги, то, конечно, король прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию, нам бы теперь меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше импер. величество не желаете, чтобы король прусский еще более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, самый верный ваш союзник, предан был ему в жертву со своими наследными землями, если не желаете, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял императорскую корону, отчего в Польше произойдут неминуемые замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь».
Говорили, что императрица была недовольна мнением вице-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Воронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные торжества препятствовали собранию совета по прусско-саксонским делам; но, по всем вероятностям, он откладывал собрание, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова. Бестужев объявил императрице, что Розенберг отзывается своим правительством; Елисавета спросила: что это значит? Бестужев отвечал, что тут нет ничего удивительного: Мария Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет признать существования договора с Австриею в такое время, когда последняя крайне нуждается в помощи. И другие послы – датский, голландский, английский – уедут, видя, что им незачем жить и, вероятно, дворы будут присылать в Петербург только посланников или даже резидентов. Елисавета весь тот день была очень задумчива и вечером, уже очень поздно, велела на другой день собраться чрезвычайному совету.
К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, фельдмаршал граф Леси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал граф Румянцев, тайный советник барон Черкасов, тайный советник Юрьев, тайный советник Веселовский, статский советник Неплюев (Адриан). Предложен был для обсуждения вопрос: «Надлежит ли ныне королю прусскому, яко ближайшему и наисильнейшему соседу, долее в усиление приходить допускать, или несходственнее ли будет королю польскому, яко курфюрсту Саксонскому, по действительному настоящему с ним случаю союза помощь подать и каким образом?»
На другой день, 20 сентября, члены совета представили свои мнения. Канцлер Бестужев написал: «Еще в 1744 году саксонскому министру Флемингу было объявлено (в Киеве), что ее импер. величество всегда верною и истинною союзницею короля польского пребывает и в случае нападения на него скорою помощью поспешить не оставит: я на ее величества соизволение предаю, каким образом с королем польским поступать повелит». Мнение барона Черкасова: «Нельзя допустить короля прусского более усиливаться; королю польскому помочь тем, что находящиеся в Лифляндии и Эстляндии полки ввести в Курляндию и там им зимовать, а на весну и все полевые полки придвинуть к границам. Этот способ всего удобнее даст понять королю прусскому увещания императрицы; а если и это его не исправит, то ее импер. величество может употребить войско по своему усмотрению, что, может быть, и неминуемо». Румянцев представил такое же мнение. Куракин думал, что должно по договору послать на помощь польскому королю 12000 войска, а по надобности и больше. Ушаков – послать эти 12000 и, кроме того, сделать диверсию в Курляндию. Леси стоял за диверсию в Курляндии. Фельдмаршал Долгорукий также; он писал, что надобно положить пределы замыслам прусского короля, иначе он может овладеть Лифляндиею и Эстляндиею для себя или для шведов.
3 октября было снова собрание совета. Все поданные мнения были выслушаны в присутствии императрицы; читан был также перевод с письма Мардефельда к канцлеру и мемория, в которой он снова просил помощи против Саксонии. По выслушании всех этих бумаг императрица начала говорить: