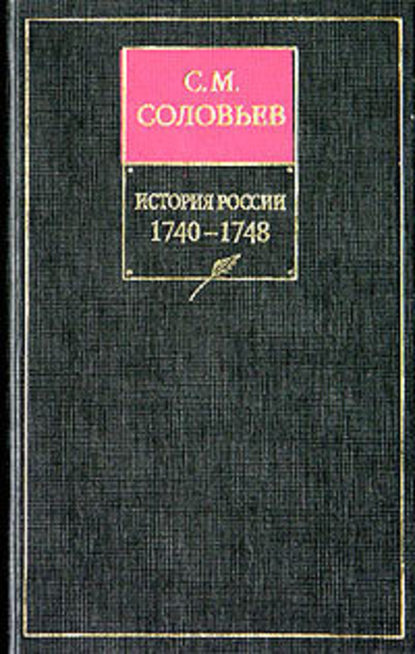По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России с древнейших времен. Книга XI. 1740–1748
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Лопухин был приведен в застенок, где прибавил, что Бестужева говорила его матери: «Ох, Натальюшка! Ботта-то и страшен, а иногда и увеселит». 27 июля поручик Машков объявил, что Лопухин говорил ему: «Сказывал матери моей Александр Зыбин, что принцессу скоро отпустят в отечество брауншвейгское, а с нею и прежний ее штат, в том числе и молодого Миниха; я для того и от службы отбываю, что, как это сделается, и я при ней по-прежнему буду камер-юнкером. Не бойся, Машков! Может быть, принцесса по-прежнему будет здесь, и тогда счастье получим. А ежели принцесса освобождена не будет, то надеюсь, что война будет; а когда меня пошлют, то я драться не буду, а уйду в прусское войско: разве мне самому против себя драться? Думаю, что и многие драться не станут». На другой день призван был к допросу Зыбин и сказал: «О принцессе и принце от Натальи Лопухиной я слыхал: она их жалела и желала, чтоб им быть по-прежнему; от таких слов я ее унимал, говоря, что я могу от них пропасть, на что она сказала: разве тебе будет первый кнут?»
В тот же день была очная ставка Бестужевой с Лопухиными, и Бестужева призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лилиенфельд, того же полка адъютант Степан Колычов и жена камергера Лилиенфельда Софья Васильевна. Двое первых не показали ничего нового; Софья Лилиенфельд объявила: «С маркизом Боттою я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла, всегда слушалась фрейлины Юлии, на что мы ему отвечали, что то совершенная правда, сама она принцесса пропала и нас погубила, в подозрение нынешней государыне привела. Говаривали при мне графиня Бестужева с Лопухиной, что ее величество непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегает. Говаривали про принцессу: лучше б нам было, когда б она была; может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя б ее отпустили». Софья Лилиенфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но тот во всем заперся, равно как и камергер Лилиенфельд. Иван Лопухин поднят был на дыбу и получил одиннадцать ударов, но не прибавил ничего больше к своему показанию. 11 августа его снова пытали, дали 9 ударов, и опять никаких новых признаний.
Отец его Степан Лопухин в допросе сказал: «Маркиз Ботта у меня часто бывал и говаривал о принцессе, что лучше б и покойнее было, если б она оставалась правительницею, а теперь такие беспорядки происходят, министров прежних всех разослали, после императрица будет о них и тужить, да взять будет негде; на это и я говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо, завладали было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала. Что ее величеством я недоволен и обижен, об этом с женою своею я говаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен; а чтоб принцессе быть по-прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дела не делают и тем приводят ее величество народу в озлобление. Когда император Петр II скончался, тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын да фельдмаршал князь Долгорукий и спрашивали, не подписывал ли его величество какой духовной? И я сказал: не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии Феодоровне, что она уже стара, потом о царевнах Екатерине и Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные; потом о ее величестве молвил из них, помнится, фельдмаршал князь Долгорукий, что она родилась до брака, и за тем, и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя, и потом положили намерение к выбору императрицы Анны». 17 августа Степан Лопухин был поднят на дыбу, висел десять минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Бестужева и также не прибавили ничего к прежним показаниям.
Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лилиенфельд больна (беременна) и потому нужно ли делать ей очную ставку с оговоренными ею? Елисавета собственноручно написала: «Сие дело мне пришло в память, когда оная Лилиенфельдова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставкою производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать».
Кроме упомянутых лиц привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденное в Сенате генеральное собрание (в котором были и духовные лица: троицкий архимандрит Кирилл, суздальский епископ Симон, псковский епископ Стефан) 19 августа положило сентенцию: Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Мошкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью – Мошкова и Путятина четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельда за нерадение о том, что слышал от жены, лиша всех чинов, сослать в деревню; вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Колычова определить в армейские полки; дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом: троих Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку; Мошкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина – плетьми и послать в ссылку, Софью Лилиенфельд, пока не разрешится от бремени, не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьми и послать в ссылку. Имение всех означенных конфисковать. Прочим учинить по сентенции, только Ржевского написать в матросы без наказания. Экзекуция учинена была на публичном месте, перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом; на содержание давали каждому в день по рублю; но Ивану Лопухину, Мошкову и Путятину давали по 50 копеек; для прислуги при Степане Лопухине с женою было отправлено четыре человека, двое мужчин и две женщины, из них один повар; при Анне Бестужевой и Софье Лилиенфельд – по четыре человека при каждой, при Зыбине – два человека, при Иване Лопухине, Мошкове и Путятине – по одному; прислуга получала по десяти копеек на день.
Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду, увеселял их? Маркиз Ботта – посланник венгерской королевы.
В сентябре Ланчинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего двора на маркиза Ботту. Улефельд, выслушав все молчаливо и с печальным лицом, сказал: «Никак я этого не ожидал: как государственный канцлер, имея в руках все реляции маркиза Ботты, могу засвидетельствовать, что он ревностно исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружественных и союзнических чувств ее к вашей государыне; в его реляциях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения, о происшествиях же рассказывает просто, как что было». Ланчинский отвечал, что жалоба не на реляции, а на богомерзкие, неоднократные в конфидентных обхождениях имевшиеся разговоры, на предерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Улефельд возражал, что надобно и другую сторону выслушать, знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улефельд объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которой дружбу особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства; но маркиза Ботту до выслушания от него ответа ни обвинить, ни оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что, по имеющимся достовернейшим доказательствам, Ботта оправдаться не может.
В октябре Ланчинский имел разговор с самою королевой. Жалобным голосом начала речь Мария Терезия: «Неприятели мои для повреждения нашей с российскою императрицею дружбы нанесли на маркиза Ботту затейные, но тяжкие вины; а он человек разумный; как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» Ланчинский отвечал, что его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Ботты, если б не были ей представлены ясные доказательства. Королева возразила: «Что касается доказательств, то преступники из страха могли насказать на Ботту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавши его оправданий? И в Константинополе, и в Швеции усердно старалась я в пользу вашей императрицы: однако неприятели своими ковами и внушениями явно берут верх». Граф Улефельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем победе своего войска, и хвалятся, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россиею и Австриею.
Когда Ботта приехал из Берлина, то из Вены в Петербург пошло требование подробных доказательств его вины, а между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Ботту и нарекали на русский двор, который вопреки справедливости выставил его виновным в манифесте о преступлении Лопухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из рескрипта императрицы к Ланчинскому:
«Мы никак не могли думать, чтоб старание оправдать Ботту зашло в Вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашею собственною особою захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Ботте. Партия, кажется, неравная – мы и маркиз Ботта; однако Ботту во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном – на установленной при венском дворе беспорочной репутации маркиза; повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Ботты в Вене доказывается: 1) приобретенною репутациею; 2) данными ему от королевы указами; 3) свидетельством берлинского двора и обстоятельствами тамошнего министерства Ботты; 4) отсутствием письменных улик; против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастью или в надежде избежать тяжкого наказания весьма легко могли быть приведены к ложному оговору. Что касается первого пункта, то мы не хотим оспаривать прежних услуг маркиза Ботты; утверждаем только одно, что у нас он мало старался о поддержании своей великой репутации, ибо он не только при прежнем здесь правлении довольно известным и явным образом во многие интриги против нас вмешивался, но продолжал такой же способ действия и после нашего законного вступления на престол. Мы никогда не сомневались, что данные ему от королевы указы и инструкции предписывали ему совершенно другой способ действия; но это его нисколько не оправдывает, напротив, подвергает наказанию; что касается его поведения при прусском дворе, то, по объявлению последнего, хотя маркиз Ботта и не сделал самому королю никаких обвиняющих его предложений, однако в разговорах с другими очень часто отзывался о необходимой вскоре революции в России. Наконец, относительно недостаточности доказательств вины, взятых из допросных речей, которые могли быть вынужденны, мы приказали объявить венскому двору, что мы сами при допросах присутствовали и сами можем засвидетельствовать, что они происходили в должном порядке и ни малейшего принуждения или каких-нибудь других неправильностей не было; думаем, что такое свидетельство и положительное обнадеживание может идти за достаточное доказательство. Остается недостаток письменного изобличения; но во многих случаях виновные изобличаются и без письменных свидетельств; а с другой стороны, и письменные свидетельства не всегда бывают свободны от возражений и споров; следовательно, в письменных уликах необходимости нет, особенно в настоящем случае, когда содержание советов у Ботты и его сообщников было так опасно, что нельзя ожидать собственноручных писем от Ботты, а если бы они были, то сообщники его не могли их сохранять; также нельзя предполагать, чтоб Ботта вел переписку с своими сообщниками, когда он мог иметь с ними довольно частые свидания, да и все дело состояло только в безбожных и достойных наказания расположениях, желаниях, разговорах и советах, ибо все такие интриги были и всегда будут бессильными произвести в нашей империи прямую против нас революцию; мы считаем Ботту достойным наказания за предерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем. Нам было бы приятно, если б венский двор, прекратя всякие проволочки и сомнительные обнадеживания, дал краткий и точный ответ о своих намерениях, какого удовлетворения мы должны от него ожидать».
Но в Вене не хотели спешить таким решительным ответом и говорили Ланчинскому, что королева связана уложениями, из которых выступить не может; по делу Ботты наряжена судная комиссия, и если бы можно было предвидеть заранее, что маркиз будет обвинен, то королеве было бы очень приятно наказанием его освободиться от такого неприятного дела и удовлетворением русской императрицы получить продолжение ее дружбы: для королевы особа одного из подданных ничего не значит! Но что если бы комиссия оправдала Ботту? В здешнем уголовном праве определено, во сколько могут обвинить человека показания разыскиваемых лиц, а Ботту надобно судить по здешним, немецким правам. Он присягает, что имел дозволенные сношения только с двумя женщинами, со стариком Лопухиным более пяти или шести раз в доме его не говорил, а с молодым никогда, в доме Лилиенфельда более одного раза в год не был, а других людей, замешанных в дело, не знает. Собственное свидетельство императрицы принимается с должным уважением; но возлагается надежда на мудрое рассуждение ее величества, что преступники и в присутствии своих государей осмеливаются говорить неправду для облегчения себе наказания и что те, которых маркиз Ботта вовсе не знал, разумеется, могли сказать только неправду.
В Вене говорили, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем выигранному сражению. Кантемир писал императрице: «Министерство здешнее вложило себе в мысль, что после открытия вредных и богомерзких умыслов маркиза Ботты здешний двор должен всеми способами искать, чтоб тем обстоятельством (от которого по меньшей мере холодности меж вашим имп. величеством и королевою венгерскою ожидают) пользоваться, и при таких обстоятельствах присутствие Шетардиево при дворе вашего имп. величества признавают весьма нужным». Шетарди отправился тайком в Россию, и Кантемир писал: «Тому его потаенному отсюда отъезду весь город со мною дивится, и всем такой его поступок кажется чрезвычайным».
Легко понять, что противоположное впечатление дело Ботты должно было произвести в Лондоне. Здесь в начале года торжествовали заключение союзного договора с Россиею. Лорд Картерет говорил Нарышкину, что надобно стараться поднять в Швеции прежнее министерство. «Чрез это, – говорил он, – наша партия усилится естественными друзьями для наилучшего успеха наших желаний. Король прусский очень беспокоится, слыша о нашей дружбе с вами». Английский министр в Петербурге Вейч объявил министрам императрицы, что его король готов действовать в Швеции заодно с Россиею, но должно соблюдать большую осторожность в таком деликатном деле, как предложение наследника вольным шведским чинам, чтоб не придать этим силы французской партии; надобно поступать не торопясь и прежде всего составить себе сильную партию. О браке между епископом Любским и английскою принцессою не сказал ни слова. В Англии хотели прежде всего знать, будет ли жених иметь состояние; Картерет говорил Нарышкину, что когда епископа Любского выберут в наследники шведского престола, то великий князь Петр Федорович должен ему уступить хотя часть голштинских земель, потому что как шведский наследник епископ больше пяти или шести тысяч ефимков годового содержания не получит. Нарышкин отвечал, что об этом уведомит голштинский посланник, который скоро приедет в Лондон, так как прежде назначенный в Англию Бухвальд отправился в Стокгольм. Относительно издержек в Швеции, необходимых для составления сильной партии в пользу епископа Любского, Нарышкин объявил, что Россия денег не пожалеет. Но дело шло не об одних деньгах: в Англии не понравились мирные условия, предложенные сначала русскими уполномоченными в Абове; здесь желали, чтоб Россия легкими условиями достигла мира и избрания своего кандидата в наследники шведского престола и, таким образом освободившись от войны, могла вмешаться в европейские дела согласно видам Англии.
Картерет говорил Нарышкину: «Уступками вы можете достигнуть желаемого; но если вы доведете шведов до крайности своими запросами, то принудите их отдаться Дании». Нарышкин отвечал, что нельзя ожидать соединения двух народов, так страшно ненавидящих друг друга, как шведы и датчане; России же необходим Ботнический залив. Картерет продолжал: «От всего сердца желаем, чтоб ваши дела на Севере окончились поскорее; со стороны Персии и Турции вы безопасны, в Европе Россия могла бы играть важную роль, помогая королеве венгерской вместе с нами; а Франция всеми силами будет стараться, чтоб ваши дела не оканчивались». Наконец, Картерет просил Нарышкина донести императрице, что гофмаршал великого князя Брюммер переписывается с Нолькеном и эта переписка приводит в негодование друзей России и Англии; кроме того, Бухвальд обнаруживает холодность к английскому посланнику в Стокгольме, ласкает французскую партию, дает ей деньги; та деньги берет, но действует не в его пользу. При следующих свиданиях с Нарышкиным Картерет продолжал твердить: «Лучше б вам не делать больших запросов, а заключить мир прочный; можно иметь хорошую границу и без всей Финляндии». Когда Нарышкин указывал на датские вооружения, имевшие целью поддерживать избрание кронпринца Датского в наследники шведского престола, и требовал для удержания Дании посылки английской эскадры в Балтийское море, то Картерет отвечал: «Если б Франция послала свою эскадру в Балтийское море, то мы тотчас бы велели своей за нею следовать; а Дания не страшна, ее намерения химерические; захочет ли она возобновить калмарский союз без Финляндии? Ей дорого станет кормить Швецию без этого герцогства; это было бы все равно как взять жену без приданого; притом Дании объявлено от нас, что если она нападет на Россию, то мы по союзу с последнею пошлем нашу эскадру. Мир с Швециею и избрание епископа Любского зависят от императрицы: если будет отдана вся Финляндия, то сейчас же будет избран епископ, а если по реку Кюмень, то мир будет заключен, но в наследники шведы выберут, кого хотят». Когда Нарышкин настаивал, чтоб английскому посланнику в Копенгагене посланы были указы увещевать датское правительство оставаться в покое, то Картерет отвечал с неудовольствием: «Ведь мы знаем, что надобно делать в таких случаях: наши интересы предписывают нам быть всегда с Россиею, только нам неприлично стращать Данию».
Когда Нарышкин объявил королю Георгу о заключении мира со шведами, то король с благосклоннейшим лицом отвечал: «Надеюсь, что я ничего не испортил в этом важном деле, когда присоветовал ее величеству уступить большую часть завоеванной Финляндии для истинного блага России, ибо ее величество имеет и без того довольно земли; а если бы опоздали заключить мир, то в короткое время был бы избран принц Датский». Лорд Картерет говорил: «Хотя французы вам на нас и наносят, будто мы хотели войну затягивать, но вашим министрам довольно известно, что если мы решались вашему двору в чем поперечить, то одними советами прекратить как можно скорее войну пристойными уступками. Прежде вашего проекта о наследстве шведском для голштинского принца мы прочили это наследство принцу Кассельскому; но когда узнали ваше намерение, то я не так прост был, чтоб трудиться над невозможным делом. Для вас нет ничего выгоднее, как усиливать свою торговлю дружбою с нами, потому что у вас много всякой-всячины, кроме денег; с другой стороны, для своей безопасности от турок вы должны скреплять союз с королевою венгерскою». Мы видели, что дело шло о браке епископа Любского, теперь наследного принца Шведского, на английской принцессе Луизе; но в то время как шли выборы епископа Любского и мирные переговоры в Або, Луизу просватали за наследного принца Датского, что не могло быть приятно русскому двору, особенно вследствие датских движений, грозивших Швеции и Голштинии.
У Нарышкина по этому случаю было объяснение с Картеретом, который с обычной своей бесцеремонностью говорил: «Шлюсь на всех: что может быть лучше, как выдать принцессу Луизу за принца Датского? Он самодержавный, а у епископа Любского нет никакой земли; Россияне захочет сделать его самодержавным или полновластнее, чем нынешний король; у него самого немного денег, а Швеция большого содержания ему не даст. Если б он и другую нашу принцессу взять захотел, то надобно знать наперед, какое содержание ему будет даваться». На замечание Нарышкина, что содержание будет достаточное, Картерет возразил: «Разве вы половину будете давать, а шведы не очень богаты. Мы в датском браке ничего не ищем, кроме приличного мужа для нашей принцессы; это дело чисто семейное, мы от этого не будем ни больше любить, ни больше ненавидеть датский двор; вот он теперь просит 80000 фунтов стерлингов, а мы не намерены дать больше 40000, т.е. более нашего обыкновенного приданого… Дивлюсь я, чего вы боитесь: что вам Дания может сделать! Изволила б императрица заключить договор с королевою венгерскою да вступила с нами в союз для ее обороны: этим закрепится согласие с нами в истинную славу ее императорского величества… Я уверен, что Дания ничего не сделает против России; только претензии великого князя (Петра Федоровича) на Шлезвиг ее беспокоят, оттого и все эти шумные приготовления – все для сохранения Шлезвига: хотят побудить Швецию, чтоб она просила великого князя отказаться от своих претензий. Может быть, и Франция ее подучает».
В то время как английский министр твердил, что Россия должна помочь королеве венгерской, в Англии узнают, что на эту помощь рассчитывать нельзя вследствие Лопухинского дела; мало того что это дело дает врагам Бестужевых удобный случай низложить их, что Шетарди спешит в Россию, чтоб ускорить низвержение Бестужевых, порвать английский союз и отдать Россию в руки Франции. Вейч писал Картерету по поводу лопухинского дела: «Я вижу, что неприятели обер-гофмаршала Бестужева усильно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих происках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра, Он и брат его, вице-канцлер, присоветовали императрице в начале ее царствования не принимать французской медиации в шведских делах. Обер-гофмаршалу объявлено, чтоб он остался на своем загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрица продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку обер-гофмаршала на графине Ягужинской и что этот брак произвел холодность между обоими братьями».
О стараниях погубить Бестужевых видно из письма Дальона к Амелоту от 20 августа: «Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубления Бестужевых. Господа Брюммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чем бы мог поймать Бестужевых; он клянется, что если ему это удастся, то уже он доведет дело до того, что они понесут на эшафот свои головы». Не в одном Петербурге, и в Стокгольме усердно трудились над погибелью Бестужевых. Картерет писал Вейчу: «Французы теперь в Стокгольме стараются достать фальшивые экстракты из допросов Гилленштерна на последнем сейме и прибавить к ним такие вещи, которые должны повредить господину Бестужеву. Так как они хотят эти фальшивые документы переслать императрице, то вы уведомьте об этом тамошнее министерство и употребите все средства для открытия такого наглого и ужасного обмана. Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию: сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне; если же увидят, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до 100000 рублей, которые Франция заплатить хочет, чтоб подкопать кредит Бестужевых».
Но Бестужевых сломить было трудно. Из лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, что бы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обер-гофмаршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев; Разумовский и Воронцов были за них; за них был и самый видный из архиереев, новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, успевший приобресть значительный вес при дворе набожной Елисаветы. Когда увидали, что из лопухинского дела Бестужевы выходят чисты, то Лесток начал внушать императрице, что если жена обер-гофмаршала будет наказана, то мужа ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отмстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Лестока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает Бестужевых, – это именно Воронцов; но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, и потому на его свидетельства нельзя полагаться. Елисавета передала об этой выходке Воронцову, а тот – Бестужеву. Лесток не унялся и несколько раз подступал к императрице с своими внушениями против Бестужевых, но всякий раз Елисавета выпроваживала его.
Защищаемый от Лестока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средство собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с цифирного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов – средство, разумеется, не придуманное самим Бестужевым, но заимствованное от западных соседей. Почт-директор Аш и академик Тауберт трудились над дешифровкою депеш; вице-канцлер извлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено кроме депеш Дальона на депеши Мардефельда, потому что он сильно подозревал Пруссию во враждебных замыслах против России, и на депеши Нейгауза посла императора Карла VII, императора милостью Франции и Пруссии и потому тесно связанного с этими обеими державами. Вскрыта и прочтена была депеша Нейгауза, в которой он писал императору по поводу лопухинского дела, что обер-гофмаршал Бестужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вице-канцлера. На это последний заметил: «Вице-канцлер, не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственным своим умом министерство свое управлял». Нейгауз доносил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Бестужев замечает: «Сие злоумышленное внушение Нейгаузу учинено весьма уповательноот подобно такого, который не устрашится дерзнуть и у самой ее и. в-ства против своего знания и совести оклеветать, якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен. Всеведущему единому все откровенно, какие и более оклеветания учинены и еще продолжаются. Оный да буди вскоре судиею и воздателем всякому по делам его».
В октябре Нейгауз давал знать своему двору, что Мардефельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как было бы прискорбно Фридриху II, если б Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между нею и императором Карлом. На это Бестужев заметил: «Прусский двор всеми удобь вымышленными способы старается, чтоб российско-императорский с римско-императорским двором соединить, дабы чрез оное российско-императорский двор у древних союзников в подозрение, а наконец и в несогласие привесть и оным в тайных своих предвосприятиях пользоваться». В каких тайных предвосприятиях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года: «От стороны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, не было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком… Он может подкупить курляндское шляхетство, чтоб выбрали герцогом брата его; а если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе и с Франциею не опасны».
Из депеш Нейгауза открылось, что его поддерживали Брюммер и Лесток, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу: «Вместо того что было надлежало о всем том, что Нейгаузен Лестоку и Брюммеру открыл, верно ее и. в-ству донести, а они напротив того, против своей совести, что от ее и. в-ства ни слышали, ему, Нейгаузену, и другим иностранным министрам сообщали».
Но Бестужеву очень трудно было бороться с Фридрихом II, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получено было известие о вскрытии лопухинского дела, Фридрих писал своему министру Подевильсу: «Надобно воспользоваться благоприятным случаем; я не пощажу денег, чтоб теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении; теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе».
От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе: Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антоновича со всем его семейством, удивлялся медленности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле; советовал, что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а, напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Ботта после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтоб она отозвала Ботту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардефельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елисавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардефельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король – наисовершеннейший монарх в свете. Мардефельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что Бестужев в этом отношении брал себе за образец «наисовершеннейшего монарха в свете». Он писал к своему двору: «Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не драчлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою».
Наконец враги Бестужевых были обрадованы приездом могущественного союзника – Шетарди. Мардефельд писал своему двору 29 ноября: «Шетарди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать». Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо, не привезши грамот от короля с императорским титулом для Елисаветы, он, как тогда выражались, должен был остаться бесхарактерным , т.е. не мог получить значения как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу, велевши сказать, что он должен быть наказан, как маленький ребенок, за неосторожную игру с порохом. Шетарди действительно перевязал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом. Но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шетарди, как Дальон, потому что видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать своей досады и, явившись к Шетарди, начал делать ему выговоры, зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит; Воронцов пересказал Бестужевым все, что он, Шетарди, говорил об них дурного, потому он не может надеяться никакого успеха, и он, Дальон, один может здесь служить с пользою для Франции. Шетарди вспылил и с своей стороны начал попрекать Дальона не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шетарди – каналья; Шетарди дал ему пощечину, Дальон бросился на него с обнаженною шпагою, Шетарди схватил ее, чтоб удержать удар, и обрезал себе руку; прибежали слуги и развели борцов; но рука долго не заживала у маркиза.
Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шетарди возможности действовать заодно с Брюммером, Лестоком и Мардефельдом против Бестужевых. Но и вице-канцлер принимал свои меры. 23 декабря во время доклада вице-канцлер подал императрице просьбу:
«От самого почти начала даже до сего времени обретаясь при вашего имп. в-ства всемилостивейше поверенных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю, по какой-либо злобе или с зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания, иногда якобы я закуплен был от Австрии, иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те же мои неприятели должны и принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах ничего нигде нимало не упущено или бы пренебрежено было… Дерзновение взял к вашим монаршеским стопам себя повергнуть всеподданнейше, прося от таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают, монаршескою своею властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого в какое время и какие о мне произведены ни были… И по таким злоумышленным внушениям ежели ваше имп. в-ство какое обо мне сумнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать, ибо я не токмо в превеликую оттого робость приведен буду, но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнуты и в ничто превращены будут». Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сумнения и недоверенности возыметь не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестужев остался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обер-гофмаршал, вследствие дела жены должен был на время оставить двор и Россию; но он отправился за границу с дипломатическим поручением, отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и свои собственные.
И русские министры, и послы иностранные с надеждою и страхом ехали в Москву, где императрица намерена была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит – Шетарди или Бестужев, – вопрос, занимавший всю Европу.
Глава четвертая
Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1744 год
Деятельность Сената в 1744 году. – Беспорядки в коллегиях и канцеляриях. – Недостаток в соли. – Дело о суконных фабриках. – Недостаток рабочих рук. – Разбои. – Усмирение крестьян. – Деятельность Синода: распоряжения о новокрещенах. – Раскол. – Хлыстовщина. – Уничтожение коллегии Экономии. – Воеводы и архиереи. – Исправление библии. – Вопрос о женитьбе великого князя-наследника. – Императрица останавливается на принцессе Ангальт-Цербстской. – Письма Брюммера к ее матери. – Участие Фридриха II в деле. – Приезд цербстских принцесс в Москву. – Отношение принцессы-матери к партиям. – Обручение. – Высылка Шетарди из России. – Поездка императрицы в Киев. – Внимание сосредоточивается на прусских отношениях.
16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжение года присутствовала еще три раза в Сенате. В этом году Сенату случилось решить собственное дело: донесли на служителя графа Головкина – Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в Сенат, выбранил это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно в страх другим, подведя статью Уложения о бесчестии бояр, окольничих и думных людей, нанесенном простыми людьми.
Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор Мануфактур-коллегии донес, что присутствующие даже очень редко ездят, отчего в делах волокита, и колодники, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения; Сенат приказали: призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить реприманд , а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенатского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегий и канцелярий найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы; приказали: призвать их в Сенат, сказать реприманд и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали; 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист неявившихся: велено им подать ответы, почему не явились; 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число неявившихся, и в тот самый день, 9 октября, солдат, посланный в Юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека.
Узнаны были чрез прокуроров и другие беспорядки. В Коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелиссино происходили многие споры, вздоры и крики; Мелиссино подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор донес, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указные места неотослано с 737 по 743 год, провиантских за многие годы, крепостных за 12 лет и в доимке находится с 730 по 743 год таможенных и кабацких 476884 рубля, канцелярских 13270 рублей, и хотя он губернской канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказано ль будет для составления и свидетельства запущенных счетов определить особое число приказных служителей и к ним особливую надежную персону? Сенат приказал определить такую персону.
В самом начале года Сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа – недостаток в соли, потому что соль, шедшая из пермских Строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями подал в Сенат доношение, чтоб правительство помогло им, ибо они потерпели убыток, именно: чтоб велено набрать 9500 рабочих, не упуская времени, а без такой помощи в поставке соли исправиться им невозможно, вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться; Строганов уступил, согласился, чтоб правительство дало ему 5000 рабочих, нарядив с обывателей за его жалованье, потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова. А между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками из солдат, которые продирались первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил Сенат, что в Москве из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам и скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить, некоторые же за теснотою никак не достанут; что он, генерал-прокурор, 9 февраля в одиннадцатом часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал, нашел у лавок крестьян и прочей подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соли. По предложению генерал-прокурора Сенат приказал: казенную соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день; солдатам из лавок не продавать, а по требованию Военной коллегии и прочих команд отпускать соляной конторе помесячно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнею ценою перепродавать не могли; также не продавать из лавок в знатные и прочие домы и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке соли остановки и задержания не было, а продавать им с соляного двора, а ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнею ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец, поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга.
Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на 1745 год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют; в феврале у поставки заморозной соли с Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по 5 копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по 3 1/2 копейки; также за провоз в нынешнем году соли до Москвы от Нижнего подрядчики явились и просили по 5 1/2 копеек с пуда, а теперь и сыскать их не могут, тогда как указная им цена с расходами положена по 5 копеек пуд; и они не только не могут делать приготовлений к завару 745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего года; также не в состоянии отправить соль, уже пришедшую из Нижнего и верховые города, и просят, чтоб принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обнадежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно.
Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр да действительный. камергер Сергей бароны Строгановы и выслушали объявление, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае и июне месяцах, не только вся ими не поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц, а в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу.
Сенат приказывал, чтоб они в доставке соли в Москву приложили крайнее старание, в противном случае непременно будут штрафованы. Строгановы отвечали, что они от соляных промыслов несут великий убыток, и просили, чтоб сенаторы выслушали сделанную из прошения их выписку об увольнении их от содержания соляных промыслов. В ноябре Сенат объявил барону Александру Строганову, чтоб он готовил соль и поставил в 745 году до Нижнего и верховых городов. Строганов отвечал, что они подали челобитную императрице о снятии с них соляных заводов, а по определению Сената, сколько возможности есть, исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем и подписался.
Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовало высочайшей резолюции. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей. И теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай: генерал Любрас, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, чтоб приказано было выслать 1033 человека каменщиков самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал: наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившею рабочею порою сделать нельзя, и прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы; нанимать помесячно добровольным договором.
Много хлопот было Сенату с поставкою сукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабриканты подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина, обязались поставить 178500 аршин; но когда поставили, то браковщики в годные отбраковали у Болотина из 1800 – 1509, у Серикова из 200 – 38, у Третьякова из 80 – 27, да и то, кроме фабрики Болотина, выбраковано с большой натяжкой. Но президент Мануфактур-коллегии объявил, что брак комиссариата ему сомнителен. Военная коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и Мануфактур-коллегиею не лучше ли брак поручить одной Мануфактур-коллегии или суконные фабрики отдать в полное ведение Главного комиссариата. Сенат приказал: сукно свидетельствовать Главному комиссариату вместе с Мануфактур-коллегиею, а фабрикантов обязать делать по образцам и лучше; если же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных сукон. Чрез несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон, кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего Болотину немалая обида; справедливость требует цену прочим понизить, а Болотину повысить. Сенат приказал: купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценою образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа; а Болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом ее имп. в-ства, именно по 58 копеек за аршин. В конце года вопрос о поставке сукон опять возобновился, и Сенат приказал: принудить Болотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за аршин, потому что образцы сам Болотин на своей фабрике сделал; прочим же фабрикантам, которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова, и так как эти образцы ниже, то платить им только по 56 копеек за аршин. Болотину с товарищами выдать взаймы без процентов на поправление и усиление фабрики их 30000 рублей, разложив уплату на 10 лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские, потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания сравнительно с Петербургом. Так, московский купец Залесский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики – одну в Петербурге, а другую в Москве – и просил перевести петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Мануфактур-коллегия представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собою и беспокоить Сенат таким представлением не следовало.
Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни, и в новой России главным препятствием служил недостаток рук; несмотря на сознание достоинства и выгоды вольнонаемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты – Болотин, Еремеев, Третьяков, Сериков – представили Мануфактур-коллегии, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми: вольных набрать негде, продажных без земель и особенно малолетних купить негде, помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных; на фабриках же настоит большая нужда в малолетних от 10 до 15 лет, которые должны быть в прядильщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них – недостаток рабочих. На основании этих объявлений Мануфактур-коллегия представила Сенату, не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии (церковничьих детей, незаконнорожденных, вольноотпущенных), отдавать всех без изъятия из платежа подушных денег на фабрики. Сенат не согласился, потому что по инструкции ревизии велено таких разночинцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать в солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то к помещикам и на фабрики.
Для честного труда рабочих рук не было; а между тем столько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать опять по недостатку людей. Всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности Войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще заводчиками беспорядков, виновниками преступлений являлись люди из войска: сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтоб пользоваться этой силой против безоружных сограждан. В Петербурге убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышева, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвою-рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицеймейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно; она должна была, как скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии и в Военную коллегию сообщить с требованием, чтоб у всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что главная полиция слабое смотрение имеет; в Москве не только непотребства, но и многие воровства происходят, в домах обывательских, приходя, крадут; также умножилось нищих, которые работать могут и, под образом разных болезней притворяясь, милостыни просят; во многих местах рогаток нет и ходят по ночам без фонарей, а во время торжества о замирении с Швециею во многих домах не только иллюминаций, но и свеч в окнах не было. Но полицию оправдывали происшествия, подобные тому, какое случилось 8 сентября: в пятом часу пополудни за Яузою у Земляного вала начался кулачный бой, полицейская команда два раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патруличный разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода колья и каменья, бросился на вахмистра патруличной команды и прибил его до полусмерти; зачинщиком драки был измайловский солдат.
Так было в столице, что же в областях?
В Дмитровском уезде, в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники и смертоубийцы из его крестьян; для взятия их был отправлен офицер с командою; но они возвратились без успеха; привезли 14 человек своих солдат, больных от побоев, нанесенных Семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер добрый с командою; ему было приказано: если крестьяне станут сопротивляться, то для страха палить пыжами и накрепко стараться, чтоб разбойники были взяты без кровопролития; если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. Из Астрахани писали, что на три купеческие рыбные ватаги приезжали в двух лодках разбойники, больше 50 человек, и, ограбя ватаги, побрали большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. В ветлужской вотчине графа Головкина селе Никольском, Баки то ж, убили приказчика, разграбили казенную палатку, все это днем и в вотчине, где считалось 1668 человек крестьян. В половине года Сенату дано было знать, что по большим дорогам и не в дальнем расстоянии от Москвы, особенно по владимирской дороге, разбои умножаются, разбивают не только проезжих, но нападают на деревни. Генерал-майор Шереметев объявил, что ночью пришли в Сокольскую его волость, в село Воскресенское, разбойники, двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли; в той же волости выжгли две деревни; атаману шайки прозвание Кнут. Обер-президент Главного магистрата князь Хованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в суздальское его село Пестяково: церковь, его двор и крестьянские дворы выжгли, пять человек крестьян убили до смерти, четверо лежат при смерти. Вследствие этих заявлений Военная коллегия распорядилась: по Волге, от Твери до Астрахани, расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников; с тою же целью расставлены были войска по Оке, от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской и Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках, для чего они своею слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний, также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении. Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина пойманы в Москве три разбойника и один атаман; разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Посулихин, со всею воровскою станицею, которая разбойничала около Нижнего, находятся на приплывших в Коломну купеческих судах. Немедленно отправлены были в этот город 50 драгун.
Войско должно было действовать и против возмутившихся крестьян. В селе Рогачеве и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, приписному к Троицко-Сергиевой лавре, крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству, посланного усмирить их капитана покололи, солдат прибили, и Сенат распорядился послать штаб-офицера из русских . Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причиною неповиновения был слух, будто крестьяне приписных монастырей объявлены свободными. В другом месте, в псковской Велейской вотчине графини Анны Бестужевой, крестьяне самовольно выбрали себе управителя Трофимова, а прежнего управителя, Залевского, выгнали. Усмирять их отправился изо Пскова с командою подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить самозваного управителя с сообщниками; но крестьяне вышли навстречу в числе 150 человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять в солдат; те, отстреливаясь, убили одного крестьянина, шестерых захватили, прочие разбежались. На другой день была отправлена новая команда, которая, подошед к крестьянской толпе, стала было уговаривать ее к сдаче; но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата; солдаты, начавши стрелять, ранили девицу и поймали пять человек, в том числе мать Трофимова; прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что с ослушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки. На третий день крестьяне в числе 300 человек напали на команду, состоявшую из 126 человек, и убили одного солдата да ранили троих; солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было 22 человека. После этого сопротивление прекратилось, крестьяне начали записываться, что приходят в покорение, и записалось их 731 человек. Управитель со старостою и целовальником сначала скрывались; потом Трофимов был пойман, но ушел из-под караула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на Головина; Сенат отправил его в Сыскной приказ.
У Синода были свои борьбы.
13 апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений, Сената и Синода, по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии было сломано из 536 мечетей 418, причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей и построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно: магометане, старые подданные, могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали: мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские и новокрещены, чтоб им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтоб не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построены св. церкви (не произошло бы там церквам какого утеснения?), и потому велеть построить татарам в Казани в Татарской слободе две мечети; также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен и где жителей от 200 до 300 человек; а если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно.
Для покровительства новокрещенам и побуждения иноверцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник Ярцев. Он донес, что новокрещены, терпят обиды от всяких людей: держат их у себя в работе и берут на них крепостные записи; а если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новокрещен, которые не только ябеднических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах челобитные, и по происку хозяев воеводы поступают с новокрещенами немилостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, т.е. принуждают опять давать на себя крепости; которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения; у них же проезжие люди берут подводы без подорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. Иноверцы страшно их обижают: принуждают платить вместе с собою подати, хотя новокрещены освобождены от этого платежа на три года; отдают в рекруты за некрещеных; клевещут на них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти; Ярцев подает об этом промемории, но воеводы не обращают на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев воевод, столько же превозносит нижегородского архиерея Димитрия, который, по его словам, в своей епархии в обращении иноверцев и в охранении новокрещен от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что когда придет в иноверческую деревню с конвоем, то желающие креститься могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно и вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах некрещеные сопротивлялись указу и его, Ярцева, ругательски бранили и хотели бить, а команды его солдат и били; без конвоя иноверцы не слушаются и на определенные им к переселению места не переходят. Из иноверцев всего более противятся принятию христианства магометане. Во многих уездах некрещеные выбираются в сотники, старосты и выборные, начальствуют таким образом над новокрещенами и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал: для такого богоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством Ярцева; они должны смотреть, чтоб новокрещенам никаких обид и озлобления не было.
Другая забота – раскол. В Волоколамске поймано было двадцать человек крестьян, которые пробирались за польскую границу, на Ветку, подговоренные пушкарским сыном из Ржевы Володимеровой Ямщиковым, который за провожанье до Ветки подрядился взять с них по пяти рублей с семьи; он же научил их молиться по-раскольничьи. Движение, которое мы видели в царствование Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыни, в 60 верстах от Москвы, у строителя, в особой пустой келье в саду, происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины – по другую, и пели стих: «Дай к нам, господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, сыне божий, помилуй нас! Пресвятая богородица, упроси об нас сына своего и бога нашего, да тобою спасет души наши многогрешные на земле!» Во время пения купец Иван Дмитриев, вскоча с лавки, затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: «Верьте мне, что во мне действует дух св. и что я говорю не от своего ума, но чрез духа св.», и, подходив, кого знал, называл именем: «Бог помочь тебе, братец или сестрица; как ты живешь? Молись богу по ночам, а блуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пива не пей и, где песни поют, не слушай, где драки случатся, тут не стой». Кого именем назвать не умел, того называл: «Велмушка, велмушка! помолись за меня!» Отходя от них, говорил: «Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя?» Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба, изрезал в куски и, положа на тарелку вместе с солью и налив в стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водою и прикладываться к стакану, творя крестное знамение. После этого все присутствующие, взяв друг друга за руки, вертелись вкруг, вспрыгивая, что у них называлось корабль ; вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву и бились обухами и ядрами, поставляя в этом сокрушение плоти; княжна Хованская, испугавшись этого битья, вышла с своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен и показал, что был научен штофной фабрики учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искусе в московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за Яузу в сборище, состоявшее из 10 человек, где молились двуперстным крестом; Голубцов вертелся и говорил, что первое крещение им было водою, а второе духом и, кто вторым крещением не крестится, тот и в царство небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствование Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре. Хотя еретики отвергали законный брак и находившимся в браке запрещали совокупляться (совокупление – грех, уставили-де то напрасно Адам и Ева), однако учитель-сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницею Федосьею Яковлевою. На сборище, бывшем в доме Григорья Сапожникова, хозяин вертелся и говорил: «Молитесь богу, идет на вас гнев божий, взяты будете под караул, будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, а вы их не вините и не кляните и потерпите, а потерпя, бог и всемилостивейшая государыня освободят». Федосья Яковлева показала: слышала она от согласных своих, что есть у нас в Ярославле, наш государь батюшка, крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Афросинью Госпожою Богородицею; учителем Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги – «Розыск о раскольничей брынской вере» Димитрия Ростовского и «Возражения на ответы выгорецких раскольников Феофилакта Лопатинского.
В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ: коллегию Экономии отставить, и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать в ведомство и управление св. Синода по прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только Заиконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму. Кончились столкновения с коллегиею Экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводский товарищ в Переяславле-Залесском князь Щепин-Ростовский бранил и мучил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал накрепко исследовать и Щепина взять в Москву. Чрез несколько времени Синод представил в Сенат длинный список, присланный казанским епископом Лукою, – список побоям, которым подверглись духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил; когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бранить скаредною бранью и. наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, Измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа канальи, хлыновское купечество!» Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарские и взяты в воеводскую канцелярию для розыска; пьяный воевода с сыном велели уже и огонь в застенке разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей ударил его по ланите.
В тот же день была очная ставка Бестужевой с Лопухиными, и Бестужева призналась во всем, что показали Лопухины. 29 июля были допрошены конной гвардии вице-ротмистр Лилиенфельд, того же полка адъютант Степан Колычов и жена камергера Лилиенфельда Софья Васильевна. Двое первых не показали ничего нового; Софья Лилиенфельд объявила: «С маркизом Боттою я встречалась в домах Бестужевой и Лопухиной и слышала, как он с сожалением говорил, что принцесса неосторожно жила, отчего и правление потеряла, всегда слушалась фрейлины Юлии, на что мы ему отвечали, что то совершенная правда, сама она принцесса пропала и нас погубила, в подозрение нынешней государыне привела. Говаривали при мне графиня Бестужева с Лопухиной, что ее величество непорядочно и просто живет, всюду беспрестанно ездит и бегает. Говаривали про принцессу: лучше б нам было, когда б она была; может быть, это и сделается, а когда не сделается, то хотя б ее отпустили». Софья Лилиенфельд оговорила камергера князя Сергея Васильевича Гагарина, но тот во всем заперся, равно как и камергер Лилиенфельд. Иван Лопухин поднят был на дыбу и получил одиннадцать ударов, но не прибавил ничего больше к своему показанию. 11 августа его снова пытали, дали 9 ударов, и опять никаких новых признаний.
Отец его Степан Лопухин в допросе сказал: «Маркиз Ботта у меня часто бывал и говаривал о принцессе, что лучше б и покойнее было, если б она оставалась правительницею, а теперь такие беспорядки происходят, министров прежних всех разослали, после императрица будет о них и тужить, да взять будет негде; на это и я говорил, что правда, но говорил, что и тогда было не совсем хорошо, завладали было немцы, потому что принцесса никуда не выхаживала. Что ее величеством я недоволен и обижен, об этом с женою своею я говаривал и неудовольствие причитал такое, что безвинно был арестован и без награждения рангом отставлен; а чтоб принцессе быть по-прежнему, желал я для того, что при ней мне будет лучше, а что присягу свою презрел, в том приношу мою пред ее величеством вину. Говорил я про сенаторов, что ныне путных мало, а прочие все дураки, что дела не делают и тем приводят ее величество народу в озлобление. Когда император Петр II скончался, тогда меня призвали фельдмаршал князь Голицын, князь Дмитрий Голицын да фельдмаршал князь Долгорукий и спрашивали, не подписывал ли его величество какой духовной? И я сказал: не видал. И притом они имели рассуждение, кого выбрать на престол, и сперва говорили о царице Евдокии Феодоровне, что она уже стара, потом о царевнах Екатерине и Прасковье, что их нельзя, сказав некоторые слова непристойные; потом о ее величестве молвил из них, помнится, фельдмаршал князь Долгорукий, что она родилась до брака, и за тем, и за другим, сказав еще некоторые непристойные слова, выбрать нельзя, и потом положили намерение к выбору императрицы Анны». 17 августа Степан Лопухин был поднят на дыбу, висел десять минут и ничего нового не сказал. Потом подняты были на дыбу жена его Наталья и графиня Бестужева и также не прибавили ничего к прежним показаниям.
Следователи спрашивали императрицу, что Софья Лилиенфельд больна (беременна) и потому нужно ли делать ей очную ставку с оговоренными ею? Елисавета собственноручно написала: «Сие дело мне пришло в память, когда оная Лилиенфельдова жена показала на Гагарина и жену его, то надлежит их в крепость всех взять и очную ставкою производить, несмотря на ее болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать».
Кроме упомянутых лиц привлечены были к делу князь Иван Путятин, подпоручик Нил Акинфов, дворянин Николай Ржевский. Учрежденное в Сенате генеральное собрание (в котором были и духовные лица: троицкий архимандрит Кирилл, суздальский епископ Симон, псковский епископ Стефан) 19 августа положило сентенцию: Лопухиных всех троих и Анну Бестужеву казнить смертью, колесовать, вырезав язык. Ивана Мошкова, Александра Зыбина, князя Ивана Путятина, Софью Лилиенфельд казнить смертью – Мошкова и Путятина четвертовать, Зыбину и Лилиенфельд отсечь голову за то, что, слыша опасные разговоры, не доносили. Камергера Лилиенфельда за нерадение о том, что слышал от жены, лиша всех чинов, сослать в деревню; вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Акинфова и адъютанта Колычова определить в армейские полки; дворянина Ржевского высечь плетьми и написать в матросы. Императрица изменила эту сентенцию таким образом: троих Лопухиных и Анну Бестужеву высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку; Мошкова и Путятина высечь кнутом, Зыбина – плетьми и послать в ссылку, Софью Лилиенфельд, пока не разрешится от бремени, не наказывать, а только объявить, что велено ее высечь плетьми и послать в ссылку. Имение всех означенных конфисковать. Прочим учинить по сентенции, только Ржевского написать в матросы без наказания. Экзекуция учинена была на публичном месте, перед коллежскими апартаментами. В Сибири сосланных держали под караулом; на содержание давали каждому в день по рублю; но Ивану Лопухину, Мошкову и Путятину давали по 50 копеек; для прислуги при Степане Лопухине с женою было отправлено четыре человека, двое мужчин и две женщины, из них один повар; при Анне Бестужевой и Софье Лилиенфельд – по четыре человека при каждой, при Зыбине – два человека, при Иване Лопухине, Мошкове и Путятине – по одному; прислуга получала по десяти копеек на день.
Люди, дурно отзывавшиеся о поведении императрицы, жалевшие о падшем правительстве, желавшие его восстановления и питавшие надежду на это восстановление, были наказаны. Но кто возбуждал в них эту надежду, увеселял их? Маркиз Ботта – посланник венгерской королевы.
В сентябре Ланчинский изложил канцлеру Улефельду причины неудовольствия своего двора на маркиза Ботту. Улефельд, выслушав все молчаливо и с печальным лицом, сказал: «Никак я этого не ожидал: как государственный канцлер, имея в руках все реляции маркиза Ботты, могу засвидетельствовать, что он ревностно исполнял и исполняет инструкции королевы относительно дружественных и союзнических чувств ее к вашей государыне; в его реляциях не видно ни малейшего неудовольствия или злого намерения, о происшествиях же рассказывает просто, как что было». Ланчинский отвечал, что жалоба не на реляции, а на богомерзкие, неоднократные в конфидентных обхождениях имевшиеся разговоры, на предерзостные слова, ругательные выражения и злостные намерения, которые должны быть исследованы в Берлине. Улефельд возражал, что надобно и другую сторону выслушать, знатного ранга персон. Несколько времени спустя Улефельд объяснил Ланчинскому, что королева очень огорчена неудовольствием императрицы, которой дружбу особенно ценит и старается поддерживать союзнические обязательства; но маркиза Ботту до выслушания от него ответа ни обвинить, ни оправдать не может, в чем полагается на правосудие императрицы. Ланчинский отвечал, что, по имеющимся достовернейшим доказательствам, Ботта оправдаться не может.
В октябре Ланчинский имел разговор с самою королевой. Жалобным голосом начала речь Мария Терезия: «Неприятели мои для повреждения нашей с российскою императрицею дружбы нанесли на маркиза Ботту затейные, но тяжкие вины; а он человек разумный; как он мог так постыдно вмешиваться в Петербурге во внутренние дела?» Ланчинский отвечал, что его государыня никак бы не поверила известиям о таких поступках Ботты, если б не были ей представлены ясные доказательства. Королева возразила: «Что касается доказательств, то преступники из страха могли насказать на Ботту, а другое нанесено от моих неприятелей, и как мне им пожертвовать, не выслушавши его оправданий? И в Константинополе, и в Швеции усердно старалась я в пользу вашей императрицы: однако неприятели своими ковами и внушениями явно берут верх». Граф Улефельд говорил Ланчинскому, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем победе своего войска, и хвалятся, что теперь могут разрушить дружбу и союз между Россиею и Австриею.
Когда Ботта приехал из Берлина, то из Вены в Петербург пошло требование подробных доказательств его вины, а между тем ко всем министрам королевы при иностранных дворах разослан был циркуляр, в котором оправдывали Ботту и нарекали на русский двор, который вопреки справедливости выставил его виновным в манифесте о преступлении Лопухиной. Циркуляр возбудил сильное раздражение в Петербурге, что видно из рескрипта императрицы к Ланчинскому:
«Мы никак не могли думать, чтоб старание оправдать Ботту зашло в Вене так далеко, что отложили в сторону всякое уважение к нам и над нашею собственною особою захотели выместить за мнимую несправедливость, оказанную Ботте. Партия, кажется, неравная – мы и маркиз Ботта; однако Ботту во что бы то ни стало хотят оправдать, тогда как невинность его и несправедливость нашей жалобы основывается на одном – на установленной при венском дворе беспорочной репутации маркиза; повреждение этой репутации считается нарушением всех естественных народных прав, тогда как оскорбление нашей высочайшей особы поставляется очень легким делом. Невинность Ботты в Вене доказывается: 1) приобретенною репутациею; 2) данными ему от королевы указами; 3) свидетельством берлинского двора и обстоятельствами тамошнего министерства Ботты; 4) отсутствием письменных улик; против маркиза имеются только допросные речи некоторых преступников, которые будто по принуждению, по интригам и пристрастью или в надежде избежать тяжкого наказания весьма легко могли быть приведены к ложному оговору. Что касается первого пункта, то мы не хотим оспаривать прежних услуг маркиза Ботты; утверждаем только одно, что у нас он мало старался о поддержании своей великой репутации, ибо он не только при прежнем здесь правлении довольно известным и явным образом во многие интриги против нас вмешивался, но продолжал такой же способ действия и после нашего законного вступления на престол. Мы никогда не сомневались, что данные ему от королевы указы и инструкции предписывали ему совершенно другой способ действия; но это его нисколько не оправдывает, напротив, подвергает наказанию; что касается его поведения при прусском дворе, то, по объявлению последнего, хотя маркиз Ботта и не сделал самому королю никаких обвиняющих его предложений, однако в разговорах с другими очень часто отзывался о необходимой вскоре революции в России. Наконец, относительно недостаточности доказательств вины, взятых из допросных речей, которые могли быть вынужденны, мы приказали объявить венскому двору, что мы сами при допросах присутствовали и сами можем засвидетельствовать, что они происходили в должном порядке и ни малейшего принуждения или каких-нибудь других неправильностей не было; думаем, что такое свидетельство и положительное обнадеживание может идти за достаточное доказательство. Остается недостаток письменного изобличения; но во многих случаях виновные изобличаются и без письменных свидетельств; а с другой стороны, и письменные свидетельства не всегда бывают свободны от возражений и споров; следовательно, в письменных уликах необходимости нет, особенно в настоящем случае, когда содержание советов у Ботты и его сообщников было так опасно, что нельзя ожидать собственноручных писем от Ботты, а если бы они были, то сообщники его не могли их сохранять; также нельзя предполагать, чтоб Ботта вел переписку с своими сообщниками, когда он мог иметь с ними довольно частые свидания, да и все дело состояло только в безбожных и достойных наказания расположениях, желаниях, разговорах и советах, ибо все такие интриги были и всегда будут бессильными произвести в нашей империи прямую против нас революцию; мы считаем Ботту достойным наказания за предерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем. Нам было бы приятно, если б венский двор, прекратя всякие проволочки и сомнительные обнадеживания, дал краткий и точный ответ о своих намерениях, какого удовлетворения мы должны от него ожидать».
Но в Вене не хотели спешить таким решительным ответом и говорили Ланчинскому, что королева связана уложениями, из которых выступить не может; по делу Ботты наряжена судная комиссия, и если бы можно было предвидеть заранее, что маркиз будет обвинен, то королеве было бы очень приятно наказанием его освободиться от такого неприятного дела и удовлетворением русской императрицы получить продолжение ее дружбы: для королевы особа одного из подданных ничего не значит! Но что если бы комиссия оправдала Ботту? В здешнем уголовном праве определено, во сколько могут обвинить человека показания разыскиваемых лиц, а Ботту надобно судить по здешним, немецким правам. Он присягает, что имел дозволенные сношения только с двумя женщинами, со стариком Лопухиным более пяти или шести раз в доме его не говорил, а с молодым никогда, в доме Лилиенфельда более одного раза в год не был, а других людей, замешанных в дело, не знает. Собственное свидетельство императрицы принимается с должным уважением; но возлагается надежда на мудрое рассуждение ее величества, что преступники и в присутствии своих государей осмеливаются говорить неправду для облегчения себе наказания и что те, которых маркиз Ботта вовсе не знал, разумеется, могли сказать только неправду.
В Вене говорили, что в Париже делу Ботты радуются больше, чем выигранному сражению. Кантемир писал императрице: «Министерство здешнее вложило себе в мысль, что после открытия вредных и богомерзких умыслов маркиза Ботты здешний двор должен всеми способами искать, чтоб тем обстоятельством (от которого по меньшей мере холодности меж вашим имп. величеством и королевою венгерскою ожидают) пользоваться, и при таких обстоятельствах присутствие Шетардиево при дворе вашего имп. величества признавают весьма нужным». Шетарди отправился тайком в Россию, и Кантемир писал: «Тому его потаенному отсюда отъезду весь город со мною дивится, и всем такой его поступок кажется чрезвычайным».
Легко понять, что противоположное впечатление дело Ботты должно было произвести в Лондоне. Здесь в начале года торжествовали заключение союзного договора с Россиею. Лорд Картерет говорил Нарышкину, что надобно стараться поднять в Швеции прежнее министерство. «Чрез это, – говорил он, – наша партия усилится естественными друзьями для наилучшего успеха наших желаний. Король прусский очень беспокоится, слыша о нашей дружбе с вами». Английский министр в Петербурге Вейч объявил министрам императрицы, что его король готов действовать в Швеции заодно с Россиею, но должно соблюдать большую осторожность в таком деликатном деле, как предложение наследника вольным шведским чинам, чтоб не придать этим силы французской партии; надобно поступать не торопясь и прежде всего составить себе сильную партию. О браке между епископом Любским и английскою принцессою не сказал ни слова. В Англии хотели прежде всего знать, будет ли жених иметь состояние; Картерет говорил Нарышкину, что когда епископа Любского выберут в наследники шведского престола, то великий князь Петр Федорович должен ему уступить хотя часть голштинских земель, потому что как шведский наследник епископ больше пяти или шести тысяч ефимков годового содержания не получит. Нарышкин отвечал, что об этом уведомит голштинский посланник, который скоро приедет в Лондон, так как прежде назначенный в Англию Бухвальд отправился в Стокгольм. Относительно издержек в Швеции, необходимых для составления сильной партии в пользу епископа Любского, Нарышкин объявил, что Россия денег не пожалеет. Но дело шло не об одних деньгах: в Англии не понравились мирные условия, предложенные сначала русскими уполномоченными в Абове; здесь желали, чтоб Россия легкими условиями достигла мира и избрания своего кандидата в наследники шведского престола и, таким образом освободившись от войны, могла вмешаться в европейские дела согласно видам Англии.
Картерет говорил Нарышкину: «Уступками вы можете достигнуть желаемого; но если вы доведете шведов до крайности своими запросами, то принудите их отдаться Дании». Нарышкин отвечал, что нельзя ожидать соединения двух народов, так страшно ненавидящих друг друга, как шведы и датчане; России же необходим Ботнический залив. Картерет продолжал: «От всего сердца желаем, чтоб ваши дела на Севере окончились поскорее; со стороны Персии и Турции вы безопасны, в Европе Россия могла бы играть важную роль, помогая королеве венгерской вместе с нами; а Франция всеми силами будет стараться, чтоб ваши дела не оканчивались». Наконец, Картерет просил Нарышкина донести императрице, что гофмаршал великого князя Брюммер переписывается с Нолькеном и эта переписка приводит в негодование друзей России и Англии; кроме того, Бухвальд обнаруживает холодность к английскому посланнику в Стокгольме, ласкает французскую партию, дает ей деньги; та деньги берет, но действует не в его пользу. При следующих свиданиях с Нарышкиным Картерет продолжал твердить: «Лучше б вам не делать больших запросов, а заключить мир прочный; можно иметь хорошую границу и без всей Финляндии». Когда Нарышкин указывал на датские вооружения, имевшие целью поддерживать избрание кронпринца Датского в наследники шведского престола, и требовал для удержания Дании посылки английской эскадры в Балтийское море, то Картерет отвечал: «Если б Франция послала свою эскадру в Балтийское море, то мы тотчас бы велели своей за нею следовать; а Дания не страшна, ее намерения химерические; захочет ли она возобновить калмарский союз без Финляндии? Ей дорого станет кормить Швецию без этого герцогства; это было бы все равно как взять жену без приданого; притом Дании объявлено от нас, что если она нападет на Россию, то мы по союзу с последнею пошлем нашу эскадру. Мир с Швециею и избрание епископа Любского зависят от императрицы: если будет отдана вся Финляндия, то сейчас же будет избран епископ, а если по реку Кюмень, то мир будет заключен, но в наследники шведы выберут, кого хотят». Когда Нарышкин настаивал, чтоб английскому посланнику в Копенгагене посланы были указы увещевать датское правительство оставаться в покое, то Картерет отвечал с неудовольствием: «Ведь мы знаем, что надобно делать в таких случаях: наши интересы предписывают нам быть всегда с Россиею, только нам неприлично стращать Данию».
Когда Нарышкин объявил королю Георгу о заключении мира со шведами, то король с благосклоннейшим лицом отвечал: «Надеюсь, что я ничего не испортил в этом важном деле, когда присоветовал ее величеству уступить большую часть завоеванной Финляндии для истинного блага России, ибо ее величество имеет и без того довольно земли; а если бы опоздали заключить мир, то в короткое время был бы избран принц Датский». Лорд Картерет говорил: «Хотя французы вам на нас и наносят, будто мы хотели войну затягивать, но вашим министрам довольно известно, что если мы решались вашему двору в чем поперечить, то одними советами прекратить как можно скорее войну пристойными уступками. Прежде вашего проекта о наследстве шведском для голштинского принца мы прочили это наследство принцу Кассельскому; но когда узнали ваше намерение, то я не так прост был, чтоб трудиться над невозможным делом. Для вас нет ничего выгоднее, как усиливать свою торговлю дружбою с нами, потому что у вас много всякой-всячины, кроме денег; с другой стороны, для своей безопасности от турок вы должны скреплять союз с королевою венгерскою». Мы видели, что дело шло о браке епископа Любского, теперь наследного принца Шведского, на английской принцессе Луизе; но в то время как шли выборы епископа Любского и мирные переговоры в Або, Луизу просватали за наследного принца Датского, что не могло быть приятно русскому двору, особенно вследствие датских движений, грозивших Швеции и Голштинии.
У Нарышкина по этому случаю было объяснение с Картеретом, который с обычной своей бесцеремонностью говорил: «Шлюсь на всех: что может быть лучше, как выдать принцессу Луизу за принца Датского? Он самодержавный, а у епископа Любского нет никакой земли; Россияне захочет сделать его самодержавным или полновластнее, чем нынешний король; у него самого немного денег, а Швеция большого содержания ему не даст. Если б он и другую нашу принцессу взять захотел, то надобно знать наперед, какое содержание ему будет даваться». На замечание Нарышкина, что содержание будет достаточное, Картерет возразил: «Разве вы половину будете давать, а шведы не очень богаты. Мы в датском браке ничего не ищем, кроме приличного мужа для нашей принцессы; это дело чисто семейное, мы от этого не будем ни больше любить, ни больше ненавидеть датский двор; вот он теперь просит 80000 фунтов стерлингов, а мы не намерены дать больше 40000, т.е. более нашего обыкновенного приданого… Дивлюсь я, чего вы боитесь: что вам Дания может сделать! Изволила б императрица заключить договор с королевою венгерскою да вступила с нами в союз для ее обороны: этим закрепится согласие с нами в истинную славу ее императорского величества… Я уверен, что Дания ничего не сделает против России; только претензии великого князя (Петра Федоровича) на Шлезвиг ее беспокоят, оттого и все эти шумные приготовления – все для сохранения Шлезвига: хотят побудить Швецию, чтоб она просила великого князя отказаться от своих претензий. Может быть, и Франция ее подучает».
В то время как английский министр твердил, что Россия должна помочь королеве венгерской, в Англии узнают, что на эту помощь рассчитывать нельзя вследствие Лопухинского дела; мало того что это дело дает врагам Бестужевых удобный случай низложить их, что Шетарди спешит в Россию, чтоб ускорить низвержение Бестужевых, порвать английский союз и отдать Россию в руки Франции. Вейч писал Картерету по поводу лопухинского дела: «Я вижу, что неприятели обер-гофмаршала Бестужева усильно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих происках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра, Он и брат его, вице-канцлер, присоветовали императрице в начале ее царствования не принимать французской медиации в шведских делах. Обер-гофмаршалу объявлено, чтоб он остался на своем загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрица продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку обер-гофмаршала на графине Ягужинской и что этот брак произвел холодность между обоими братьями».
О стараниях погубить Бестужевых видно из письма Дальона к Амелоту от 20 августа: «Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубления Бестужевых. Господа Брюммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чем бы мог поймать Бестужевых; он клянется, что если ему это удастся, то уже он доведет дело до того, что они понесут на эшафот свои головы». Не в одном Петербурге, и в Стокгольме усердно трудились над погибелью Бестужевых. Картерет писал Вейчу: «Французы теперь в Стокгольме стараются достать фальшивые экстракты из допросов Гилленштерна на последнем сейме и прибавить к ним такие вещи, которые должны повредить господину Бестужеву. Так как они хотят эти фальшивые документы переслать императрице, то вы уведомьте об этом тамошнее министерство и употребите все средства для открытия такого наглого и ужасного обмана. Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию: сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне; если же увидят, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до 100000 рублей, которые Франция заплатить хочет, чтоб подкопать кредит Бестужевых».
Но Бестужевых сломить было трудно. Из лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, что бы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обер-гофмаршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев; Разумовский и Воронцов были за них; за них был и самый видный из архиереев, новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, успевший приобресть значительный вес при дворе набожной Елисаветы. Когда увидали, что из лопухинского дела Бестужевы выходят чисты, то Лесток начал внушать императрице, что если жена обер-гофмаршала будет наказана, то мужа ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отмстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Лестока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает Бестужевых, – это именно Воронцов; но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, и потому на его свидетельства нельзя полагаться. Елисавета передала об этой выходке Воронцову, а тот – Бестужеву. Лесток не унялся и несколько раз подступал к императрице с своими внушениями против Бестужевых, но всякий раз Елисавета выпроваживала его.
Защищаемый от Лестока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средство собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с цифирного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов – средство, разумеется, не придуманное самим Бестужевым, но заимствованное от западных соседей. Почт-директор Аш и академик Тауберт трудились над дешифровкою депеш; вице-канцлер извлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено кроме депеш Дальона на депеши Мардефельда, потому что он сильно подозревал Пруссию во враждебных замыслах против России, и на депеши Нейгауза посла императора Карла VII, императора милостью Франции и Пруссии и потому тесно связанного с этими обеими державами. Вскрыта и прочтена была депеша Нейгауза, в которой он писал императору по поводу лопухинского дела, что обер-гофмаршал Бестужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вице-канцлера. На это последний заметил: «Вице-канцлер, не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственным своим умом министерство свое управлял». Нейгауз доносил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Бестужев замечает: «Сие злоумышленное внушение Нейгаузу учинено весьма уповательноот подобно такого, который не устрашится дерзнуть и у самой ее и. в-ства против своего знания и совести оклеветать, якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен. Всеведущему единому все откровенно, какие и более оклеветания учинены и еще продолжаются. Оный да буди вскоре судиею и воздателем всякому по делам его».
В октябре Нейгауз давал знать своему двору, что Мардефельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как было бы прискорбно Фридриху II, если б Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между нею и императором Карлом. На это Бестужев заметил: «Прусский двор всеми удобь вымышленными способы старается, чтоб российско-императорский с римско-императорским двором соединить, дабы чрез оное российско-императорский двор у древних союзников в подозрение, а наконец и в несогласие привесть и оным в тайных своих предвосприятиях пользоваться». В каких тайных предвосприятиях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года: «От стороны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, не было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком… Он может подкупить курляндское шляхетство, чтоб выбрали герцогом брата его; а если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе и с Франциею не опасны».
Из депеш Нейгауза открылось, что его поддерживали Брюммер и Лесток, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу: «Вместо того что было надлежало о всем том, что Нейгаузен Лестоку и Брюммеру открыл, верно ее и. в-ству донести, а они напротив того, против своей совести, что от ее и. в-ства ни слышали, ему, Нейгаузену, и другим иностранным министрам сообщали».
Но Бестужеву очень трудно было бороться с Фридрихом II, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получено было известие о вскрытии лопухинского дела, Фридрих писал своему министру Подевильсу: «Надобно воспользоваться благоприятным случаем; я не пощажу денег, чтоб теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении; теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе».
От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе: Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антоновича со всем его семейством, удивлялся медленности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле; советовал, что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а, напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Ботта после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтоб она отозвала Ботту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардефельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елисавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардефельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король – наисовершеннейший монарх в свете. Мардефельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что Бестужев в этом отношении брал себе за образец «наисовершеннейшего монарха в свете». Он писал к своему двору: «Все выходящие из здешней империи письма продолжают вскрывать. Надеюсь, что те, которые в моих письмах нюхают, со временем сами носом в грязь попадут. Я бы этому только смеялся, если бы плуты не причитали мне то, что читают в письмах членов своей шайки. Я не драчлив и не задорлив, но со временем, удостоверившись, кто этим промышляет, проколю каналью шпагою».
Наконец враги Бестужевых были обрадованы приездом могущественного союзника – Шетарди. Мардефельд писал своему двору 29 ноября: «Шетарди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом. Он у меня обедал и нынешним вечером будет ужинать». Императрица приняла очень хорошо своего старого знакомого и приятного собеседника, хотя приняла его как простого дворянина, ибо, не привезши грамот от короля с императорским титулом для Елисаветы, он, как тогда выражались, должен был остаться бесхарактерным , т.е. не мог получить значения как посланник. Скоро после его приезда императрица послала ему розгу, велевши сказать, что он должен быть наказан, как маленький ребенок, за неосторожную игру с порохом. Шетарди действительно перевязал себе руку, объявляя, что обжег ее порохом. Но все знали, что рука болела у него не от пороха. Никто не был так взбешен приездом Шетарди, как Дальон, потому что видел в нем человека, который оттеснит его на задний план, порвет начатую им работу и в случае успеха выставит одного себя его виновником. Дальон не мог сдержать своей досады и, явившись к Шетарди, начал делать ему выговоры, зачем он возвратился в Россию, где его весь народ ненавидит; Воронцов пересказал Бестужевым все, что он, Шетарди, говорил об них дурного, потому он не может надеяться никакого успеха, и он, Дальон, один может здесь служить с пользою для Франции. Шетарди вспылил и с своей стороны начал попрекать Дальона не очень честными делами. Дальон крикнул в ответ, что Шетарди – каналья; Шетарди дал ему пощечину, Дальон бросился на него с обнаженною шпагою, Шетарди схватил ее, чтоб удержать удар, и обрезал себе руку; прибежали слуги и развели борцов; но рука долго не заживала у маркиза.
Эта история, впрочем, нисколько не отняла у Шетарди возможности действовать заодно с Брюммером, Лестоком и Мардефельдом против Бестужевых. Но и вице-канцлер принимал свои меры. 23 декабря во время доклада вице-канцлер подал императрице просьбу:
«От самого почти начала даже до сего времени обретаясь при вашего имп. в-ства всемилостивейше поверенных мне делах, принужден от неприятелей моих, не знаю, по какой-либо злобе или с зависти, претерпевать мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания, иногда якобы я закуплен был от Австрии, иногда от Англии подкуплен, а иногда, смотря по обстоятельствам, вашему интересу противным, то и от датчан. Однако ж те же мои неприятели должны и принуждены по совести своей сами признавать, что при божеском благословении еще до сего времени как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах ничего нигде нимало не упущено или бы пренебрежено было… Дерзновение взял к вашим монаршеским стопам себя повергнуть всеподданнейше, прося от таких оклеветаний, что и в бывшую богомерзкую конспирацию меня приплетают, монаршескою своею властью оборонить, повелеть о том исследовать, от кого в какое время и какие о мне произведены ни были… И по таким злоумышленным внушениям ежели ваше имп. в-ство какое обо мне сумнение или недоверенность возыметь соизволите, то какого успеха в делах можно ожидать, ибо я не токмо в превеликую оттого робость приведен буду, но и все от чистого моего сердца произносительные труды и усердствования весьма отвергнуты и в ничто превращены будут». Просьба была подана для вызова уверений, что никакого сумнения и недоверенности возыметь не будет соизволено. Уверения, конечно, были даны, потому что Бестужев остался в прежнем значении. Бестужев оставался теперь один, потому что брат его, обер-гофмаршал, вследствие дела жены должен был на время оставить двор и Россию; но он отправился за границу с дипломатическим поручением, отправился в Берлин, самый важный пост, где мог всего успешнее своими наблюдениями охранять интересы России и свои собственные.
И русские министры, и послы иностранные с надеждою и страхом ехали в Москву, где императрица намерена была прожить 1744 год. В древней столице должен был решиться вопрос, кто победит – Шетарди или Бестужев, – вопрос, занимавший всю Европу.
Глава четвертая
Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1744 год
Деятельность Сената в 1744 году. – Беспорядки в коллегиях и канцеляриях. – Недостаток в соли. – Дело о суконных фабриках. – Недостаток рабочих рук. – Разбои. – Усмирение крестьян. – Деятельность Синода: распоряжения о новокрещенах. – Раскол. – Хлыстовщина. – Уничтожение коллегии Экономии. – Воеводы и архиереи. – Исправление библии. – Вопрос о женитьбе великого князя-наследника. – Императрица останавливается на принцессе Ангальт-Цербстской. – Письма Брюммера к ее матери. – Участие Фридриха II в деле. – Приезд цербстских принцесс в Москву. – Отношение принцессы-матери к партиям. – Обручение. – Высылка Шетарди из России. – Поездка императрицы в Киев. – Внимание сосредоточивается на прусских отношениях.
16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжение года присутствовала еще три раза в Сенате. В этом году Сенату случилось решить собственное дело: донесли на служителя графа Головкина – Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в Сенат, выбранил это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно в страх другим, подведя статью Уложения о бесчестии бояр, окольничих и думных людей, нанесенном простыми людьми.
Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор Мануфактур-коллегии донес, что присутствующие даже очень редко ездят, отчего в делах волокита, и колодники, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения; Сенат приказали: призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить реприманд , а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенатского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа по осмотру коллегий и канцелярий найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы; приказали: призвать их в Сенат, сказать реприманд и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали; 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист неявившихся: велено им подать ответы, почему не явились; 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число неявившихся, и в тот самый день, 9 октября, солдат, посланный в Юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека.
Узнаны были чрез прокуроров и другие беспорядки. В Коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелиссино происходили многие споры, вздоры и крики; Мелиссино подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор донес, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указные места неотослано с 737 по 743 год, провиантских за многие годы, крепостных за 12 лет и в доимке находится с 730 по 743 год таможенных и кабацких 476884 рубля, канцелярских 13270 рублей, и хотя он губернской канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказано ль будет для составления и свидетельства запущенных счетов определить особое число приказных служителей и к ним особливую надежную персону? Сенат приказал определить такую персону.
В самом начале года Сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа – недостаток в соли, потому что соль, шедшая из пермских Строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями подал в Сенат доношение, чтоб правительство помогло им, ибо они потерпели убыток, именно: чтоб велено набрать 9500 рабочих, не упуская времени, а без такой помощи в поставке соли исправиться им невозможно, вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться; Строганов уступил, согласился, чтоб правительство дало ему 5000 рабочих, нарядив с обывателей за его жалованье, потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова. А между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками из солдат, которые продирались первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил Сенат, что в Москве из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам и скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить, некоторые же за теснотою никак не достанут; что он, генерал-прокурор, 9 февраля в одиннадцатом часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал, нашел у лавок крестьян и прочей подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соли. По предложению генерал-прокурора Сенат приказал: казенную соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день; солдатам из лавок не продавать, а по требованию Военной коллегии и прочих команд отпускать соляной конторе помесячно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнею ценою перепродавать не могли; также не продавать из лавок в знатные и прочие домы и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке соли остановки и задержания не было, а продавать им с соляного двора, а ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнею ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец, поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга.
Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на 1745 год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют; в феврале у поставки заморозной соли с Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по 5 копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по 3 1/2 копейки; также за провоз в нынешнем году соли до Москвы от Нижнего подрядчики явились и просили по 5 1/2 копеек с пуда, а теперь и сыскать их не могут, тогда как указная им цена с расходами положена по 5 копеек пуд; и они не только не могут делать приготовлений к завару 745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего года; также не в состоянии отправить соль, уже пришедшую из Нижнего и верховые города, и просят, чтоб принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обнадежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно.
Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр да действительный. камергер Сергей бароны Строгановы и выслушали объявление, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае и июне месяцах, не только вся ими не поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц, а в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу.
Сенат приказывал, чтоб они в доставке соли в Москву приложили крайнее старание, в противном случае непременно будут штрафованы. Строгановы отвечали, что они от соляных промыслов несут великий убыток, и просили, чтоб сенаторы выслушали сделанную из прошения их выписку об увольнении их от содержания соляных промыслов. В ноябре Сенат объявил барону Александру Строганову, чтоб он готовил соль и поставил в 745 году до Нижнего и верховых городов. Строганов отвечал, что они подали челобитную императрице о снятии с них соляных заводов, а по определению Сената, сколько возможности есть, исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем и подписался.
Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовало высочайшей резолюции. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей. И теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай: генерал Любрас, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, чтоб приказано было выслать 1033 человека каменщиков самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал: наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившею рабочею порою сделать нельзя, и прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы; нанимать помесячно добровольным договором.
Много хлопот было Сенату с поставкою сукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабриканты подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина, обязались поставить 178500 аршин; но когда поставили, то браковщики в годные отбраковали у Болотина из 1800 – 1509, у Серикова из 200 – 38, у Третьякова из 80 – 27, да и то, кроме фабрики Болотина, выбраковано с большой натяжкой. Но президент Мануфактур-коллегии объявил, что брак комиссариата ему сомнителен. Военная коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и Мануфактур-коллегиею не лучше ли брак поручить одной Мануфактур-коллегии или суконные фабрики отдать в полное ведение Главного комиссариата. Сенат приказал: сукно свидетельствовать Главному комиссариату вместе с Мануфактур-коллегиею, а фабрикантов обязать делать по образцам и лучше; если же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных сукон. Чрез несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон, кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего Болотину немалая обида; справедливость требует цену прочим понизить, а Болотину повысить. Сенат приказал: купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценою образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа; а Болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом ее имп. в-ства, именно по 58 копеек за аршин. В конце года вопрос о поставке сукон опять возобновился, и Сенат приказал: принудить Болотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за аршин, потому что образцы сам Болотин на своей фабрике сделал; прочим же фабрикантам, которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова, и так как эти образцы ниже, то платить им только по 56 копеек за аршин. Болотину с товарищами выдать взаймы без процентов на поправление и усиление фабрики их 30000 рублей, разложив уплату на 10 лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские, потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания сравнительно с Петербургом. Так, московский купец Залесский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики – одну в Петербурге, а другую в Москве – и просил перевести петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Мануфактур-коллегия представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собою и беспокоить Сенат таким представлением не следовало.
Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни, и в новой России главным препятствием служил недостаток рук; несмотря на сознание достоинства и выгоды вольнонаемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты – Болотин, Еремеев, Третьяков, Сериков – представили Мануфактур-коллегии, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми: вольных набрать негде, продажных без земель и особенно малолетних купить негде, помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных; на фабриках же настоит большая нужда в малолетних от 10 до 15 лет, которые должны быть в прядильщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них – недостаток рабочих. На основании этих объявлений Мануфактур-коллегия представила Сенату, не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии (церковничьих детей, незаконнорожденных, вольноотпущенных), отдавать всех без изъятия из платежа подушных денег на фабрики. Сенат не согласился, потому что по инструкции ревизии велено таких разночинцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать в солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то к помещикам и на фабрики.
Для честного труда рабочих рук не было; а между тем столько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать опять по недостатку людей. Всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности Войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще заводчиками беспорядков, виновниками преступлений являлись люди из войска: сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтоб пользоваться этой силой против безоружных сограждан. В Петербурге убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышева, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвою-рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова, жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицеймейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно; она должна была, как скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии и в Военную коллегию сообщить с требованием, чтоб у всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что главная полиция слабое смотрение имеет; в Москве не только непотребства, но и многие воровства происходят, в домах обывательских, приходя, крадут; также умножилось нищих, которые работать могут и, под образом разных болезней притворяясь, милостыни просят; во многих местах рогаток нет и ходят по ночам без фонарей, а во время торжества о замирении с Швециею во многих домах не только иллюминаций, но и свеч в окнах не было. Но полицию оправдывали происшествия, подобные тому, какое случилось 8 сентября: в пятом часу пополудни за Яузою у Земляного вала начался кулачный бой, полицейская команда два раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патруличный разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода колья и каменья, бросился на вахмистра патруличной команды и прибил его до полусмерти; зачинщиком драки был измайловский солдат.
Так было в столице, что же в областях?
В Дмитровском уезде, в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники и смертоубийцы из его крестьян; для взятия их был отправлен офицер с командою; но они возвратились без успеха; привезли 14 человек своих солдат, больных от побоев, нанесенных Семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер добрый с командою; ему было приказано: если крестьяне станут сопротивляться, то для страха палить пыжами и накрепко стараться, чтоб разбойники были взяты без кровопролития; если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. Из Астрахани писали, что на три купеческие рыбные ватаги приезжали в двух лодках разбойники, больше 50 человек, и, ограбя ватаги, побрали большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. В ветлужской вотчине графа Головкина селе Никольском, Баки то ж, убили приказчика, разграбили казенную палатку, все это днем и в вотчине, где считалось 1668 человек крестьян. В половине года Сенату дано было знать, что по большим дорогам и не в дальнем расстоянии от Москвы, особенно по владимирской дороге, разбои умножаются, разбивают не только проезжих, но нападают на деревни. Генерал-майор Шереметев объявил, что ночью пришли в Сокольскую его волость, в село Воскресенское, разбойники, двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли; в той же волости выжгли две деревни; атаману шайки прозвание Кнут. Обер-президент Главного магистрата князь Хованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в суздальское его село Пестяково: церковь, его двор и крестьянские дворы выжгли, пять человек крестьян убили до смерти, четверо лежат при смерти. Вследствие этих заявлений Военная коллегия распорядилась: по Волге, от Твери до Астрахани, расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников; с тою же целью расставлены были войска по Оке, от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской и Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках, для чего они своею слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний, также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении. Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина пойманы в Москве три разбойника и один атаман; разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Посулихин, со всею воровскою станицею, которая разбойничала около Нижнего, находятся на приплывших в Коломну купеческих судах. Немедленно отправлены были в этот город 50 драгун.
Войско должно было действовать и против возмутившихся крестьян. В селе Рогачеве и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, приписному к Троицко-Сергиевой лавре, крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству, посланного усмирить их капитана покололи, солдат прибили, и Сенат распорядился послать штаб-офицера из русских . Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причиною неповиновения был слух, будто крестьяне приписных монастырей объявлены свободными. В другом месте, в псковской Велейской вотчине графини Анны Бестужевой, крестьяне самовольно выбрали себе управителя Трофимова, а прежнего управителя, Залевского, выгнали. Усмирять их отправился изо Пскова с командою подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить самозваного управителя с сообщниками; но крестьяне вышли навстречу в числе 150 человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять в солдат; те, отстреливаясь, убили одного крестьянина, шестерых захватили, прочие разбежались. На другой день была отправлена новая команда, которая, подошед к крестьянской толпе, стала было уговаривать ее к сдаче; но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата; солдаты, начавши стрелять, ранили девицу и поймали пять человек, в том числе мать Трофимова; прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что с ослушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки. На третий день крестьяне в числе 300 человек напали на команду, состоявшую из 126 человек, и убили одного солдата да ранили троих; солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было 22 человека. После этого сопротивление прекратилось, крестьяне начали записываться, что приходят в покорение, и записалось их 731 человек. Управитель со старостою и целовальником сначала скрывались; потом Трофимов был пойман, но ушел из-под караула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на Головина; Сенат отправил его в Сыскной приказ.
У Синода были свои борьбы.
13 апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений, Сената и Синода, по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии было сломано из 536 мечетей 418, причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей и построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно: магометане, старые подданные, могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали: мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские и новокрещены, чтоб им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтоб не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построены св. церкви (не произошло бы там церквам какого утеснения?), и потому велеть построить татарам в Казани в Татарской слободе две мечети; также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен и где жителей от 200 до 300 человек; а если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно.
Для покровительства новокрещенам и побуждения иноверцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник Ярцев. Он донес, что новокрещены, терпят обиды от всяких людей: держат их у себя в работе и берут на них крепостные записи; а если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новокрещен, которые не только ябеднических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах челобитные, и по происку хозяев воеводы поступают с новокрещенами немилостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, т.е. принуждают опять давать на себя крепости; которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения; у них же проезжие люди берут подводы без подорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. Иноверцы страшно их обижают: принуждают платить вместе с собою подати, хотя новокрещены освобождены от этого платежа на три года; отдают в рекруты за некрещеных; клевещут на них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти; Ярцев подает об этом промемории, но воеводы не обращают на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев воевод, столько же превозносит нижегородского архиерея Димитрия, который, по его словам, в своей епархии в обращении иноверцев и в охранении новокрещен от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что когда придет в иноверческую деревню с конвоем, то желающие креститься могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно и вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах некрещеные сопротивлялись указу и его, Ярцева, ругательски бранили и хотели бить, а команды его солдат и били; без конвоя иноверцы не слушаются и на определенные им к переселению места не переходят. Из иноверцев всего более противятся принятию христианства магометане. Во многих уездах некрещеные выбираются в сотники, старосты и выборные, начальствуют таким образом над новокрещенами и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал: для такого богоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством Ярцева; они должны смотреть, чтоб новокрещенам никаких обид и озлобления не было.
Другая забота – раскол. В Волоколамске поймано было двадцать человек крестьян, которые пробирались за польскую границу, на Ветку, подговоренные пушкарским сыном из Ржевы Володимеровой Ямщиковым, который за провожанье до Ветки подрядился взять с них по пяти рублей с семьи; он же научил их молиться по-раскольничьи. Движение, которое мы видели в царствование Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыни, в 60 верстах от Москвы, у строителя, в особой пустой келье в саду, происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины – по другую, и пели стих: «Дай к нам, господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, сыне божий, помилуй нас! Пресвятая богородица, упроси об нас сына своего и бога нашего, да тобою спасет души наши многогрешные на земле!» Во время пения купец Иван Дмитриев, вскоча с лавки, затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: «Верьте мне, что во мне действует дух св. и что я говорю не от своего ума, но чрез духа св.», и, подходив, кого знал, называл именем: «Бог помочь тебе, братец или сестрица; как ты живешь? Молись богу по ночам, а блуда не твори, на свадьбы и крестины не ходи, вина и пива не пей и, где песни поют, не слушай, где драки случатся, тут не стой». Кого именем назвать не умел, того называл: «Велмушка, велмушка! помолись за меня!» Отходя от них, говорил: «Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя?» Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба, изрезал в куски и, положа на тарелку вместе с солью и налив в стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водою и прикладываться к стакану, творя крестное знамение. После этого все присутствующие, взяв друг друга за руки, вертелись вкруг, вспрыгивая, что у них называлось корабль ; вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву и бились обухами и ядрами, поставляя в этом сокрушение плоти; княжна Хованская, испугавшись этого битья, вышла с своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен и показал, что был научен штофной фабрики учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искусе в московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за Яузу в сборище, состоявшее из 10 человек, где молились двуперстным крестом; Голубцов вертелся и говорил, что первое крещение им было водою, а второе духом и, кто вторым крещением не крестится, тот и в царство небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствование Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре. Хотя еретики отвергали законный брак и находившимся в браке запрещали совокупляться (совокупление – грех, уставили-де то напрасно Адам и Ева), однако учитель-сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницею Федосьею Яковлевою. На сборище, бывшем в доме Григорья Сапожникова, хозяин вертелся и говорил: «Молитесь богу, идет на вас гнев божий, взяты будете под караул, будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, а вы их не вините и не кляните и потерпите, а потерпя, бог и всемилостивейшая государыня освободят». Федосья Яковлева показала: слышала она от согласных своих, что есть у нас в Ярославле, наш государь батюшка, крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Афросинью Госпожою Богородицею; учителем Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги – «Розыск о раскольничей брынской вере» Димитрия Ростовского и «Возражения на ответы выгорецких раскольников Феофилакта Лопатинского.
В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ: коллегию Экономии отставить, и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать в ведомство и управление св. Синода по прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только Заиконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму. Кончились столкновения с коллегиею Экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводский товарищ в Переяславле-Залесском князь Щепин-Ростовский бранил и мучил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал накрепко исследовать и Щепина взять в Москву. Чрез несколько времени Синод представил в Сенат длинный список, присланный казанским епископом Лукою, – список побоям, которым подверглись духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил; когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бранить скаредною бранью и. наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, Измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь вечную память и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа канальи, хлыновское купечество!» Потом приходил к келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальник и хлебник семинарские и взяты в воеводскую канцелярию для розыска; пьяный воевода с сыном велели уже и огонь в застенке разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей ударил его по ланите.