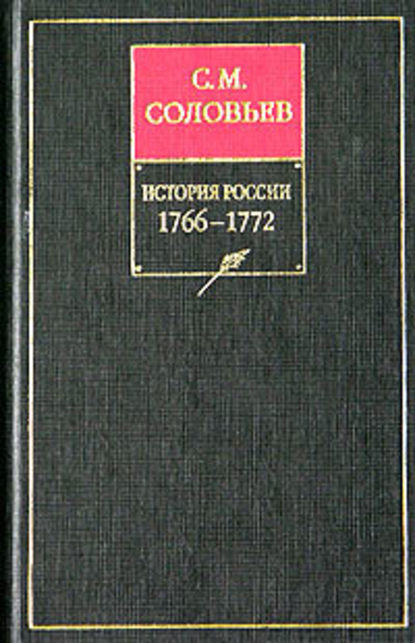По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
Жанр
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Екатерина имела право быть недовольною некоторыми отдельными явлениями; но не могла не признать, что общая цель, с какою она созвала комиссию, была достигнута. «Комиссия Уложения, – говорит она в одной из своих записок, – быв в собрании, подала мне свет и сведение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно. Она все части закона вобрала и разобрала по материям и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поехали в армию. Наказ комиссии ввел единство в правило и в рассуждения не в пример более прежнего. Стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать».
Екатерина имела право приписывать своему «Наказу» такое просветительное и воспитательное значение для народа. Депутаты, созванные изо всех мест, из разных сословий, слышали «Наказ», пользовались им, утверждались на его словах в своих мнениях и спорах, но дальнейшее пользование им было ограничено. В сентябре 1767 года Сенат определил по предложению генерал-прокурора разослать экземпляры «Наказа» в высшие учреждения, в департаменты Сената, коллегии и конторы их, в Судный приказ, в канцелярию Конфискации, но исключил губернские, провинциальные и воеводские канцелярии да и относительно высших учреждений в указе говорится, «чтоб экземпляры „Наказа“ содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутствующих и чтоб оные никому из нижних канцелярских служителей, ни из посторонних не только для списывания, но ниже для прочтения даваны были, для чего и иметь их всегда на судейских столах при зерцалах». Присутствующие в этих высших учреждениях должны были читать «Наказ» в свободное от текущих дел время, т.е. по субботам, но при этом чтении могли находиться кроме них только секретари и протоколисты. Таким образом, «Наказ» был доступен только старшим и составлял запрещенную книгу для младших; о нем сделано постановление, подобное тому, какое сделано в латинской церкви относительно Св. Писания. Найдено, что сочинение самодержавной государыни, и прошедшее через строгую цензуру подданных, все еще содержит в себе аксиомы, способные разрушить стены, по выражению Никиты Ив. Панина. Объяснение такому распоряжению мы найдем в сенатском указе по поводу дворовых людей и крестьян генерала Леонтьева, генеральши Толстой, бригадира Олсуфьева и подполковника Лопухина с братьями. Эти дворовые люди и крестьяне подали императрице челобитную на своих господ. «Из обстоятельств сего дела усматривается, – говорит указ, – что таковые преступления большею частию происходят от разглашения злонамеренных людей, рассевающих вымышленные ими слухи о перемене законов и собирающих под сим видом с крестьян поборы, обнадеживая оных исходатайствовать им разные пользы и выгоды, которые вместо того теми поборами корыстуются сами, а бедных и не знающих законов крестьян, отвратя их от должного помещикам повиновения, приводят в разорение и в крайнее несчастие».
При самом начале заседаний комиссии об Уложении, в августе 1767 года, Сенату было доложено о возмущении заводских крестьян. Мы видели, что исследование об общем почти восстании заводских крестьян на северо-востоке, порученное сначала кн. Вяземскому, потом Бибикову, было окончено, восставшие были усмирены, более виновные наказаны, также наказаны и заводские приказчики, уличенные в притеснениях крестьянам, должная последним заработная плата, удержанная приказчиками, взыскана, введено лучшее против прежнего и различное по различию местности распределение работ. Но неудовольствие не могло прекратиться, ибо отношения в существе остались прежние; подобные исследования при всей благонамеренности следователей представляли чрезвычайные затруднения, и мы теперь, отдаленные с лишком веком от событий, при обсуждении результатов этих исследований должны быть очень осторожны. Для образца приведем показания крестьян, жаловавшихся на демидовских приказчиков. Первый показал: «В прошлом 59 году, когда не упомню, нарядчик ударил меня безвинно по голове поленом один раз, я упал и едва очувствовался, а более никакого битья не было». Второй показал: «Били меня безвинно приказчик и его сын саженью немилостиво». Третий : «Стегал меня батожьем за то, что на работу из дому приехал не на срок». Четвертый : «В заводской работе я не бывал, и никто меня не бивал». Пятый : «При перекличке опоздал, и отметили в нетчики, и за то приказчик стегал меня кнутьем не весьма душевредно, но посредственно». Шестой : «Сын приказчика налагал поденную работу чрезвычайную, которую сработать невозможно, и за то стегал меня батожьем немилостивно один раз, а более того никто не бивал, и посторонних свидетелей не было». Седьмой : «Приказчик бил меня палками смертельно и изломал об меня две палки, а более того никто не бивал». Восьмой : «Приказчик сказал, будто приездом опоздал, и стегал меня батожьем весьма душевредно, так что несколько дней наклоняться не мог». Девятый : «Не поверя моей болезни, приказчик стегал меня батожьем нещадно, от которого стеганья наиболее занемог и лежал с неделю». Десятый : «Стегал меня плетьми весьма жестоко и приговаривал, чтоб знать грозу демидовскую». Некоторые показывали, что лежали по 4 и по 8 недель больные от побоев. Показывали, что бывали смертные случаи от побоев. Но какие были средства удостовериться в правде показаний? Обвиняемые запирались, запирались и на пытке, отстраняя свидетелей, тех же заводских крестьян, как свидетелей пристрастных; выкапывание трупов и медицинское свидетельство было тогда невозможно, и судья решал по своим соображениям, могла ли приключиться смерть от показываемых побоев, и если решил, что не могла, то какие мы имеем средства обвинять его в решении неправильном, в потачке притеснителям? Признаем за русскими людьми, жившими сто лет тому назад, большую опытность в этих вещах, чем какую имеем мы, к великому нашему счастию; признаем, если хотим быть сами справедливы и беспристрастны, что жалоба на побои, весьма душевредные, не могла производить на них такого сильного впечатления, какое производит теперь на нас: вспомним, что телесные наказания в самых тяжелых формах были в общем употреблении, считались необходимыми, еще наше поколение помнит истязания детей в школах, истязания вполне «душевредные»; что же было за сто лет? Вспомним, что в это время только начали раздаваться голоса некоторых достойных пастырей церкви против ужасных истязаний, которым подвергалось духовенство в монастырях; все эти душевредности встречались по всей России везде, где только сильный, власть имеющий приходил в столкновение с слабым, игумен – с простым монахом, учитель – с учеником, господин – с слугою, хозяин – с работником, договорим: отец с сыном. Возбуждение уголовного преследования против приказчиков за жестокие наказания заводских крестьян заставило бы скольких людей переглянуться и поднять вопль, ибо и они должны были подвергнуться такому же преследованию. Явление не было одиноким, выходящим из ряду.
В доказательство затруднительности положения кн. Вяземского и Бибикова, затруднительности, которой подвергается и позднейший исследователь этих печальных явлений, приведем следующий случай. Много было жалоб на демидовского приказчика прапорщика Кулалеева. Вяземский нашел в нем человека с нечистою совестью, взяточника и удалил его от заведования приписными крестьянами, но уголовному наказанию он не подвергся, хотя была жалоба, что он в 1760 году крестьянина Алексеева, будучи в Дуброве, неведомо за что изрубил саблею до смерти. Кулалеев отвечал на обвинение следующее: «Села Котловки крестьянин Летков пришел ко мне и объявил, что, отрезав на реке Каме паром, переехали воровские люди на горную сторону. Я, собрав села Котловки крестьян, разослал их для поиску воровских людей, а сам поехал с другими крестьянами и в лесу встретил неведомо каких людей ночью; стали их ловить, один из них бросился на меня с топором и порубил мою лошадь, а я порубил его по плечу тесаком; порубленный побежал, крестьянин Таланов его догнал; он Таланова сшиб с ног; я побежал за ним пешком, нагнал: он бросился на меня с топором, а я, обороняясь, порубил ему ногу, отчего он упал и тут же на месте умер. Между тем пойманы были товарищи убитого, беглые заводские крестьяне, которые объявили, что убитый тоже беглый заводской крестьянин Михайла Алексеев Болонкин». Кулалеева оправдали. Наконец, затруднительное положение следователей увеличивалось еще тем, что одни крестьяне восставали, а другие оставались спокойными и отправляли свои работы, и восставшие вооружались против них, силою заставляя их принимать свою сторону.
Но если положение Вяземского и Бибикова было крайне затруднительно, если мы не имеем никакого права требовать от них, чтоб они поступали по понятиям и условиям не своего времени, а нашего, а потому не признавать их заслуги, то, с другой стороны, мы должны признать, что их распоряжениями зло совершенно прекращено быть не могло. О средстве коренного исцеления болезни вопрос был задан Екатериною: нет ли возможности заменить приписных крестьян вольнонаемными рабочими? Понятно, что ответ был отрицательный, потому что если бы эта возможность существовала, то крепостное право исчезло бы на всем протяжении России; при сохранении же обязательных отношений работника к хозяину никакие определения отношений не могли принести всей желаемой пользы, даже при условии постоянного строгого надзора и всегда справедливого, беспристрастного решения споров; но возможно ли было требовать этих условий на отдаленных окраинах при известном печальном состоянии правосудия? Заводские крестьяне хотели вовсе не того, что им дали, они не хотели более сносного определения обязательных отношений, они хотели полного увольнения от заводских работ, ибо их положение было самым тяжким видом крепостного права. Крестьянин-земледелец, какого бы корыстолюбивого и жестокого господина или приказчика судьба ему ни послала, все же оставался на своем месте при своих обычных занятиях, тогда как заводская работа была по преимуществу работа «невольная, рабская», по выражению самих крестьян. К заводам приписывались крестьяне, жившие от них в очень дальнем расстоянии, в расстоянии нескольких сот верст, и должны были являться в срок, должны были тратиться, разоряться для этих переходов и в случае запаздывания должны были готовиться к наказанию, к побоям от приказчика, более или менее душевредным , смотря по характеру и расположению последнего. Кроме того, хозяин или приказчик стремились извлечь всевозможную выгоду из работника, находившегося совершенно в их руках, прижать его, недоплатить, заставить проработать лишнее, продать ему дорогою ценою необходимые предметы. Все это не могло приучить крестьянина к заводским работам, и постоянным его желанием было освободиться от них; мы видели, что первые сильные крестьянские восстания при Елисавете были восстания заводских крестьян; мы должны ждать, что они не прекратятся и после усмирения их в первые годы екатерининского царствования.
Летом 1767 года пришли в непослушание крестьяне, приписные к Юговским горным заводам графа Ив. Чернышева, заводчика Походяшина и покойного канцлера Воронцова. Соликамская воеводская канцелярия нашла, что виновником был премьер-майор Дервецкий, который приказал крестьянам ходить на одни соляные заводы. Сенат для усмирения крестьян велел ехать с военною командою генерал-майору и главному командиру над Гороблагодатскими и Кемскими заводами Ирману. В октябре месяце пришел рапорт канцелярии Главного правления заводов об упорствах и отбывательствах от работ крестьян, приписных к Аннинскому заводу гр. Чернышева, Соликамского и Чердынского уездов; канцелярия писала, что никакой надежды к утишению восстания нет, и она обратилась за помощью к казанскому губернатору. В том же месяце подали просьбу в Сенат содержатель рязанской игольной фабрики Рюмин и компаньон его бригадир князь Килдишев, что Мануфактур-коллегия освободила их крепостных людей, содержавшихся по обвинению в непослушании, отчего на их фабрике произошло еще большее неповиновение и озорничество; челобитчики писали, чтоб велено было усмирить крестьян военною командою. Сенат велел послать команду и приказал дать знать коллегии, что она поступила весьма неблагорассудительно и неосторожно, освободивши означенных крепостных людей без всякого удовольствия, их владельцу, сделав распоряжение, чтоб их употреблять только на игольной фабрике, а не посылать на железный завод для тяги проволоки. Коллегия отвечала, что она отослала крестьян в исполнение указа не держать долго колодников, поручив Рязанской губернской канцелярии рассмотрение дела о их виновности; что же касается распоряжения ее ходить крестьянам только на игольную фабрику, то иначе произошла бы смута: игольная фабрика подведомственная ей, а железный завод – Берг-коллегии. В конце года Ирман донес, что возмутившиеся крестьяне пришли в послушание и обязались идти на заводские работы, кроме 37 человек деревни Бурдаковой, приписных к Пыскорскому заводу. Сенат приказал: рекомендовать Ирману секретно поступать в этом случае с такой умеренностью, чтоб крестьяне не могли иметь предлога к возмущению. Рязанская губернская канцелярия донесла, что крестьяне игольной фабрики Рюмина за учиненные ими противности наказаны кто кнутом, кто плетьми и тем в должное послушание приведены. Вследствие донесения воронежского губернатора о противностях липецких рабочих Сенат приказал: так как по делу видно, что непослушание заводских рабочих большею частию произошло и теперь происходит от притеснения управителями кн. Репнина, то последнему дать знать секретно, чтоб он без нарушения собственной пользы постарался принять заблаговременно такие меры, благодаря которым рабочие не имели бы прямых причин к жалобам, а для большего успокоения отрешил бы нынешних своих управителей и определил других, если только от этого не произойдет заводам его какого вреда.
В то самое время, как в комиссии, созванной из всех концов России для подания императрице «света и сведения» о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно, в то самое время, как в этой комиссии разные сословия наперерыв требовали себе права иметь крепостных людей, государыня подписывала приговор над явлением, которое показывало, до чего может доводить крепостное право, отдававши человека во власть другого человека. И это явление произошло в среде тех людей, которые в комиссии предъявляли свое исключительное право иметь крепостных людей, управление ими выставляя как школу, как приготовление к высшим правительственным должностям, причем указывали на свои большие средства нравственные, на свое образование. Оказалось, что ужасное явление могло быть продолжительно именно в среде этих людей, потому что в их среде могло находить долгую безнаказанность.
Жена ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова Дарья Николаева, овдовевши 25 лет, получила в управление населенные имения, толпу крепостных слуг и в этом управлении развила чудовищную жестокость: собственными руками она била без милости своих слуг и служанок чем попало, припекала им уши разожженными щипцами, обливала кипятком. По ее приказу били, секли дворовых мужчин и женщин, забивали и засекали до смерти, и все за маловажные вины по хозяйству. Злость Салтыковой, усиливаясь по мере терзания несчастных жертв, доходила до бешенства. «Бейте до смерти, – кричала она наказывавшим, – я сама в ответе и никого не боюсь, хотя от вотчин своих отстать готова. Никто ничего сделать мне не может!» Сознание безнаказанности, возможности по родственным связям и богатству запугать и задарить судей разнуздывало Салтыкову, и, действительно, более шести лет жалобы на нее крепостных оставались без последствий, жалобщиков наказывали и отсылали назад к госпоже, которая говорила им: «Вы мне ничего не сделаете; сколько вам ни доносить, мне ничего не сделают и меня на вас не променяют». Наконец в 1762 году дошла до Екатерины жалоба, что с 1756 года Салтыковой погублено уже душ со сто. Жалоба переслана была в Юстиц-коллегию; началось следствие. В конце 1763 года коллегия представила, что Салтыкову, «яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительною, во изыскании истины надлежит пытать». Мы видели, какую борьбу вела Екатерина против пытки. И тут она не хотела ее допустить как средство, вовсе не ведущее к изысканию истины, и приказала: «Объявить Салтыковой, что все обстоятельства оного дела и многих людей свидетельство доводят ее до пытки, что с нею действительно и последует, если она не принесет чистосердечного признания. Между тем определить к ней искусного, честного жития и в Божественном Писании знающего священника на месяц, который бы увещевал ее к признанию, и если от сего еще не почувствует она в совести своей угрызения, то чтоб он приготовил ее к неизбежной пытке, а потом показать ей жестокость розыска приговоренным к тому преступником, и если еще и тогда чистосердечия от нее не будет, то представить ее и. в-ству, не объявляя ей о том последнем представлении, и ожидать указа».
Эти средства не помогли: Салтыкова ни в чем не призналась. Екатерина и тут не хотела употребить пытки. Сделан был повальный обыск, который указал на убийства; по этим указаниям подняты были дела о Салтыковой в Полицмейстерской канцелярии, Сыскном приказе и Тайной конторе, решенные в пользу Салтыковой по взяточничеству присутствующих. Люди Салтыковой обвиняли ее в убийстве 75 человек обоего пола; Юстиц-коллегия по рассмотрении дел обвинила ее положительно в убийстве 38 человек и оставила в подозрении относительно убийства 26 человек. В октябре 1768 года последовал высочайший указ Сенату: «Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и того великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо пред многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему Сенату: 1) Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. 2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую (т.е. главную, Красную) площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: „Мучительница и душегубица“. 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтоб она ниоткуда света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую (монашескую) подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь». Салтыкова была заключена в Ивановском монастыре; в 1779 году наказание смягчено: ее перевели из подземелья в каменную пристройку к церкви с окном. В 1801 году Салтыкова умерла, и до сих пор еще в народе живет память об ужасной Салтычихе.
Также без пыток особенная комиссия производила дело о ливенском помещике поручике Мишкове, который между прочим обвинен был в четверократной посылке нарядным разбойническим образом крестьян своих, однодворцев и малороссиян в дом однодворца Писарева; в двух приездах и сам он, Мишков, был, грабил пожитки Писарева и дом его совершенно разорил, а самого захватил в дом к себе, и по приказу его Писарев сечен батожьем; потом Мишков приказал однодворцу Пыхтину, беглому, крывшемуся у него крестьянину Никифорову да солдату Медведеву, напоя их пьяными, переломить Писареву обухом ноги, что ими и сделано, а сам Мишков выколол ему глаза сапожным шилом, от чего Писарев чрез девять дней и умер. Приказал однодворцам Жиляеву и Пыхтину живущего в доме его однодворца Енина убить до смерти, что ими исполнено, и проч. Вдова тайного советника Мария Ефремова за смертное убийство крепостной своей девки предана церковному покаянию. Какое было обращение с крестьянами серпейского помещика отставного гвардии поручика Шеншина, неизвестно; только ночью приехали к нему в дом неведомые люди с ружьями и рогатинами, дом разбили, его, жену и старосту умертвили; в этом убийстве оказались собственные крестьяне Шеншина.
В 1768 году казанский губернатор донес об усилившихся в Симбирском уезде разбоях и смертоубийствах, причем представлял о малолюдстве тамошних гарнизонов и надобности прислать еще военных команд. Сенат приказал: хотя и нарядить команды, но они не поспеют, а зимнее время и без команд разбойников разгонит, и потому послал указ губернатору, чтоб они во время их зимнего укрывательства самими обывателями и находящимися там командами были переловлены. Так как видно, что крестьяне и помещичьи служители при нападении разбойников на домы господ и их самих не дают им никакого отпора, несмотря на то что превосходят многолюдством иногда во сто крат, убегая и укрываясь, предают неповинную жизнь господ на жертву свирепости и алчности разбойников, для того обнародовать печатным указом, что если впредь крестьяне и служители, невзирая на свое многолюдство, отпора давать не будут, то без должного за то денежного и телесного наказания не останутся. А чтоб показать первое действие указа, к казанскому губернатору написать, чтоб во всех местах его ведомства, где произошли разбои и смертоубийства, приказать исследовать, и, если где найдется, что крестьяне по одной своей холодности, а иногда и по злости помещиков своих не защищали, в таком случае поступить с виноватыми по законам. Московский главнокомандующий граф Солтыков писал императрице, что в Москве и около нее воровство и разбои сильно умножились.
Мы видели, что депутаты в комиссии об Уложении приписывали разбои беглым крепостным. Мы видели также, что помещики пограничных областей жаловались на бегство крестьян их в остзейские провинции. Но жалобы были обоюдные. Новгородский губернатор Сиверс представил Сенату доклад, что остзейские дворяне жаловались ему на невыдачу им их беглых из Новгородской губернии, преимущественно из Псковской провинции, хотя они точно знают о местах их укрывательства; все затруднение происходит оттого, что беглых без суда взять нельзя, и если беглые из Лифляндии и Эстляндии примут веру греческого исповедания, то их уже к старым помещикам не возвращают, а крепят за кого пожелают из русских. По мнению Сиверса, надобно было бы с обеих сторон выдавать беглых без суда, невзирая на то что приняли греческую веру, ибо в Лифляндии и теперь уже столько построено греческих церквей, что каждому принявшему это исповедание недалеко сходить в город или к полковым церквам.
Сиверс подал Сенату также любопытный доклад о состоянии городов своей губернии: «Город Псков по своему красивому и очень удобному для торговли положению мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения моих чувств о разорении этого города; скажу одно, что он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает тою же чахоткою. Как в одном, так и другом почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось. Во всех городах моей губернии со второй по третью ревизию число жителей умножилось до седьмой, а в некоторых, где порядок и нравы добрые, до пятой и до четвертой части против прежнего; только в Новгороде и Пскове целая треть убыла. В Пскове через 150 лет почти ни одного посадского жителя не останется. Способы к устранению этого зла: 1) увеличение числа купцов переводом их из пригородов; 2) включение в купечество или в цехи всех государственных и экономических крестьян, которыеживут в городе и подгородных слободах; 3) вывод одного полка в другой город, ибо почти невероятно, что в одном месте, где 450 душ купечества, квартируют два пехотных полка; 4) учреждение банка для уничтожения разорительных займов у нарвских контор. Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и я уже третьего года приказал канцелярию из него вывесть в обывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Я нашел изрядную гарнизонную школу, построенную комендантом. Город Остров – сущая деревня, имеет около 120 душ купечества; в воеводском доме только сороки да вороны живут, ни площади, ни лавок не нашел. В Холме я внезапно вошел в соляной амбар и велел считать кули с солью; по запискам значилось в наличности около 7000 пудов, а оказалось только около тысячи, остальные были в раздаче почти всему посаду до священников заимообразно. В Холме более 700 душ, и только один умеет писать. Торопец – лучший город во всей Новгородской губернии. Хотя торопчане имеют дурную славу, что много товаров провозят без пошлины, однако доходы ближних таможен доказывают, что некоторые, и лучшие из них, поступают как добрые люди. Торгуют преимущественно шелковыми товарами, которые закупают на ярмарках в Кенигсберге, Данциге, Бреславле и Лейпциге, а некоторые отправляют лен и пеньку в Петербург. Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник вступившего в город полка занял его как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего никто уже другого каменного дома не заложил. Между воеводскою канцеляриею и магистратом я нашел великие несогласия и в обоих местах более челобитчиков, чем в каком-либо другом городе. Воеводский дом так ветх, что в нем жить нельзя, и канцелярия не лучше. Острога или тюрьмы совсем нет, а колодников ставят попеременно по домам разночинцев взамен постоя, чего нигде я не видал и не слыхал. Ржев Володимеров может спорить с Торопцом, одно худо, что между жителями капитальных людей мало, вредят своей торговле, занимая большие капиталы у англичан и других за весьма высокие проценты. У них великие споры с разночинцами, особливо с пушкарями старых служб и с ямщиками о землях. Вкоренившийся здесь раскол – порок сему городу. Хуже всех городов Белозерск. Я нигде не находил, чтоб магистрат был действительно таким городским опекуном, как в Торжке. Тверскою канцеляриею я был доволен, кроме великого числа колодников; я заметил из ведомостей, что всегда две трети колодников ржевитяне, точно то же и в магистрате. Купцы как сами без воспитания были, так и детей своих теперь не воспитывают. Торговля их производится без всякого порядка, редко с запискою, без книг и почти без счетов. Между ними нет доверия, которое составляет дух коммерции. Главнейший вред купечеству, кажется, от подушного оклада; вместо подушных денег можно положить каждый город в особый оклад одной круглой суммы, а сей оклад собирать с имения и с торгу каждого горожанина. Еще бы сему роду людей дало лучшие мысли, если бы по уголовным делам их от розысков избавить. О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид». Для дворян Сиверс требовал выборной службы в погостах для полицейского надзора, также службы в звании уездных комиссаров. Об упадке дворянских родов вследствие раздела имений Сиверс говорит: «Я был в одной деревне, где в 15 избах крестьянских нашлись 17 помещиков, и весь народ, который я нашел на жнитве хлеба, был благородный».
Относительно духовенства произошло любопытное явление в Тамбове. Тамбовский купец Александр Попов подал в Синод челобитную за рукоприкладством 106 человек, духовных и светских лиц: просили о переводе находившегося прежде в Тамбове и переведенного в Устюг епископа Пахомия опять назад в Тамбов на место нынешнего епископа Феодосия, переведенного из Устюга; и Синод, найдя, что в челобитной не выставлено никакой законной причины, сообщил Сенату, что он сделал определение о духовных лицах, подписавших челобитную, а светских предает на рассмотрение Сената; при этом Синод сообщал, что Пахомий уже переведен из Устюга в Москву за старостию и слабостию. Сенат отрешил от должностей тамбовского, нижнеломовского и верхнеломовского воевод и воеводских товарищей, приложивших руки к челобитной. Епископ Феодосий по этому поводу доносил, что духовенство побуждаемо было к рукоприкладству тамбовским купцом Расторгуевым, который зазывал священников к себе и поил допьяна.
В церкви в описываемое время произошел еще любопытный случай: известный владелец медеплавильных и железных заводов, пожалованный званием директора этих заводов, Петр Осокин записал себя в раскол с женою, двумя малолетними приемышами и с некоторыми дворовыми людьми. Сенат приговорил его к лишению директорского чина и написанию в двойной подушный оклад. Императрица написала на докладе Сената: «Как мне самой в проезд мой по Волге случалось видеть сего человека, который лет 80 от роду и слеп, и хотя весьма добродетельным человеком слывет, но в рассуждении его старости и дряхлости едва ли в совершенной памяти, то надлежит взять от него ответ, знает ли он подлинно о сей записке его в раскол и не воспользовался ли иногда кто его старостью и слепотою; а из того ответа можно будет лучшее заключение сделать о его судьбине».
Сибирский губернатор Денис Чичерин доносил, как производится обращение в христианство иноверцев его губернии: «Проповедники отправлялись сначала на коште и подводах иноверцев, но так как теперь это им запрещено, то они изыскали способ ездить в отдаленные иноверческие жилища на подводах живущих по тракту церковных причетников. К иноверцам, живущим близ города большими деревнями, они не заезжают, и во всю бытность мою ни один из этих жителей не окрещен; стараются они пробраться в отдаленные и дикие места, где проповедуют на русском языке таким людям, которые не слыхивали, как по-русски говорят, и увещевают к крещению всегда тех, у которых больше пожитку видят. Обольстя награждением, напоя пьяных или напугавши, крестят, а как при крещении действуют, того неизвестно. Перекрестя, отъезжают в другие места на лошадях и на издержках новокрещеного, оставив ему написанный на бумаге символ веры, который этот христианин безумно почитает божеством, а что в нем написано, не знает. Через год и больше проповедник возвращается для свидетельства новых христиан, и тут великие привязки делаются. В посты привозят с собою посуду, намазанную молоком или маслом, лошадиные кости, обвиняют в отступничестве от веры христианской, пугают жестокими наказаниями и чрез то грабят бесчеловечно; если же кто не дает, тех берут с собою и на их же подводах и коште, забивши в колодки, везут по другим жилищам. Кто побогаче, к таким в потаенных местах ставят болванов, а потом сами же и сыскивают. Священники этих дел сами решить не могут, отсылают в высший суд, где происходит долголетнее разбирательство. Другой способ к грабительству: придут к новокрещеному и, если узнают, что был покойник и погребен без священника или младенец некрещен, привязываются, зачем долго не крещен, зачем без священника погребен. Тогда как священник по отдаленности только в несколько лет раз может приехать; точно так же и венчаться в церковь ездить не могут, венчаются по домам, а это служит главным источником взяточничества, привязываются, кричат о поругании веры, и, если кто не откупится, должен ехать от 300 до 400 верст. Священник приезжает исповедовать: отец духовный по-инородчески, сын духовный по-русски ни слова не знают, одна только пожива священникам. Этот беспорядок может быть пресечен только определением в сибирскую митрополию человека, который бы мог в эти дела благоразумно вникать, и хотя крещение инородцев должно продолжать, однако в таких только местах, где поблизости церкви есть, и учредить школы для образования священников из инородцев, а в отдаленных местах проповедь и крещение до времени оставить».
Вследствие этого донесения составлена была комиссия из новгородского митрополита Димитрия, псковского епископа Иннокентия и Теплова. Они подали доклад: сменить тобольского митрополита Павла как за нерадение, так и по другим жалобам; избрать нового, лучшего и дать ему от Синода инструкцию относительно проповеди: 1) Слово Божие должно быть проповедуемо из одного Евангелия, деяний и посланий апостольских, не отягощая разума обращенных преданиями св. отец, кроме самых нужнейших, каков символ веры. 2) Три обязанности проповедника: учить, увещевать, напоминать; повеление, угроза и строгое с утеснением взыскание есть насилие совести и злочестие. 3) Не должно давать воли проповедникам ездить, куда захотят. Архиерей сочиняет план страны, где и какие обитают язычники, выбирает проповедников благонравных, особенно некорыстолюбивых, трезвых, разумных и кротких, и распределяет время и места, когда и куда им отправляться. Начинать должно с ближних к городу мест, дабы мало-помалу вера расширялась. Новообращенных не принуждать к таким преданиям церковным, которые могут быть неудобоносимы для непривычных; проповедники должны отдавать отчет архиерею. 4) Проповедник должен иметь вид человека, не по указу присланного, но добровольно пришедшего; проповедники отнюдь не должны прямой веры пополнять суеверием, рассказами о ложных чудесах и откровениях. Проповедники не должны ничего брать, кроме пищи повседневной, и за ту платить. 5) Если проповедник языка инородческого не разумеет, то должен употреблять толмача, а впредь принимать из обращенных в семинарии с тем, чтоб они никогда своего языка не забывали, или лучше и завести учение инородческих языков.
Из восточной степной украйны пришло известие, что киргизы собираются напасть на кочующих около Хивы трухменцев: русское пограничное начальство встревожилось, боясь, чтоб киргизы, переменя намерение, не напали на калмыков, и послало предупредить калмыцкого наместника ханства, послало и в саратовскую контору Опекунства иностранных, боясь за немецкие колонии на луговом берегу Волги. Екатерина написала: «Вовсе сии люди, кои сие пишут, карту не знают: яицкие козаки покрывают калмык, а калмыки поселения – и так по-пустому людей тревожат. Зри карту. Все сие похоже на малороссийские известия, откудова неоднократно рапортовано, что король прусский едет брать непобедимого города Киева».
Самозванство не прекращалось. В 1769 году беглый солдат Мамыкин на дороге в Астрахань разглашал, что Петр III жив, примет опять царство и будет льготить крестьян.
О Петре III толковали и на Астраханской дороге, и около Петербурга. При изложении дела Батурина мы видели, что приговор о нем не был исполнен при Елисавете. При Петре III Сенат хотел сослать его в Нерчинск на работу, но император велел оставить его в Шлюссельбурге и давать лучшее содержание. В 1768 году солдат Сорокин, придя к другому солдату, Ушакову, вынул из кармана две бумажки и говорил: «Я был в Шлюшине (Шлюссельбурге) у одного колодника, который называл себя полковником, у Иоасафа Андреевича Батурина; он отдал мне эти две бумажки и просил, чтоб я одну, маленькую, подал государыне, а другую – Петру Федоровичу, и говорил мне Батурин, что ежели я эти две бумажки подам, то мне будет великое награждение». Ушаков, развернув сперва большую бумажку и увидя, что она писана к бывшему государю, говорил Сорокину: «Пустое, ведь он давно уже умер; ведь ты помнишь, еще мы были в походе, так там это было уже известно, что он подлинно умер». Но Сорокин отвечал: «Нет, брат, Батурин знает планеты; смотря в окошко из казармы на небо, указывал государеву планету и говорил, что он жив и теперь гуляет, а чрез год или два сюда придет». Ушаков взял обе записки и маленькую искал случая подать императрице, случая не находилось, и однажды, подравшись пьяный с хозяином квартиры, выронил обе записки на пол; они были подобраны и представлены куда следовало. Ушаков показал о приведенном разговоре с Сорокиным, а тот прибавил: «Батурин рассказывал караульным, что он хотел Петра Федоровича возвести на престол. Караульные говорили ему: если ты такую услугу Петру Федоровичу оказал, так для чего он тебя, пока жив был, отсюда не освободил? Батурин отвечал: врете вы, государь не умер, а жив, поехал гулять, а меня здесь оставил под видом; я по планетам знаю, что он жив, планету вижу, и увидите, что он года через два в Россию возвратится». Сорокин признался, что взял бумажки от Батурина, чтоб одну подать государыне, а другую Петру Федоровичу, когда тот приедет в Россию. После этих открытий Батурина признали за лучшее удалить в Камчатку; но мы еще должны будем упомянуть о нем впоследствии.
В том же 1768 году лекарь Лебедев донес, что восемнадцатилетний адъютант Опочинин, сын генерал-майора, выдавал себя сыном английского короля и императрицы Елисаветы и составлял заговор свергнуть Екатерину с престола и возвести великого князя Павла Петровича, истребив Орловых, между которыми Екатерина будто бы хочет поделить Россию. Опочинин объявил, что мысль о происхождении внушил ему корнет Батюшков, который говорил: «Сказывала мне покойная бабушка Анна Пребышевская, что когда был здесь английский посол, то в его свите был под именем кавалера посольства сам король английский». Батюшков оговорил конной гвардии берейтора Штейгерса, который будто намеревался с товарищами возвести на престол великого князя, который знает о их намерении чрез Панина: Штейгерс приглашал Батюшкова быть участником заговора и уговаривал приглашать других; Батюшков и пригласил майора Патрикеева и Опочинина. Батюшков, по показанию Опочинина, говорил: «Федор Хитров хотел было свергнуть государыню, да не удалось; сослали его в деревню, да и Захара Григорьича (Чернышева) к этому делу примешали, за что и отставку ему дали, но после, видно, он выправился, и так приняли его в службу по-прежнему; да даром что он выправился, он нашей партии будет, потому что он не Григория Петровича сын, а сын Петра Великого». Батюшков во всем признался. Штейгере все сложил на Батюшкова, который говорил: «Больше мне досадно на графов Орловых, что они не помнят милости отца моего и сестру мою Кропотову выгнали из дворца, а меня против воли моей отставили от службы». Батюшков признался, что первый начал говорить о намерении своем произвести такой же переворот, какой произвели Орловы. Преступление Батюшкова приписано пьянству и умопомешательству, он приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Мангазею с производством ему по 2 копейки в день на содержание, а когда будет в здравом уме, то заставлять работать; Опочинина по молодости лет, также во внимание к раскаянию его и службе отцовской, послать тем же чином в гарнизон на линию.
Глава третья
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1766, 1767, 1768 годы
Борьба с Польшею за диссидентов. – Разрыв с Турциею. – Сношения с европейскими державами во время этих событий.
В то время как Восточная Россия в лице своих депутатов слушала «Наказ» и рассуждала о средствах улучшать свой быт, народонаселение России Западной с трепетом ожидало окончания борьбы, поднятой в Польше решением той же составительницы «Наказа» не успокаиваться до тех пор, пока русские люди «придут в законное положение по правам и справедливости». Таким образом, и здесь и там задача была одинаковая и разрешалась одновременно, но разными способами.
Мы видели, что диссидентское дело порывало старую связь между русским двором и князьями Чарторыйскими, которые издавна считались главами русской партии в Польше.
2 января 1766 года Репнин писал Панину: «Во время бытности на охоте имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей Чарторыйских и о необходимой нужде, чтоб он наконец старался сам господином быть, а не вечно б в зависимости их остался. О сей материи я столько уже к в. высокоп-ству писал, что стыдно мне почти то же все повторять, видя бесплодность и неосновательность всех чинимых мне королем обещаний; и так не смею я, зная его слабость, и сам веру им подавать, а доношу вам оное не с уверением, что оно исполнится, но более как известие. Его величество в вышепомянутом разговоре меня всячески уверял, что он меры возьмет, дабы из зависимости своих дядьев выйти, и что он уже им самим прямо объявил намерение свое иметь директную переписку во всех воеводствах с главными там живущими знатными людьми, дабы чрез них иметь картину состояния и дел каждой провинции и чтоб к нему прямо адресовались те, которые в провинциальные чины производиться желают, и генерально все, кои от него какую-либо милость получить хотят, а не чрез них бы князей Чарторыйских тех милостей просили, как то по сю пору делается. Сей поступок, конечно бы, вскоре подрыв силе Чарторыйских сделал и партизанов их к королю привлек в надежде получения от него разных милостей, но твердость его в сих случаях так мала, что я не смею надеяться, чтоб он подлинно сей поступок в действие произвел, ибо, по несчастию, он себе в голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит; они ж, имея интерес, его в когтях держат, чтоб самовластными быть, конечно, от сего добровольно не отступят, которое я не оставил его величеству прямо и неоднократно уже доносить. Слабость его столь удивительна, что не узнают его пред тем, как он партикулярным был человеком, и заподлинно мне стороною известно, что сам Ржевуский в крайней конфиденции с удивлением отзывался, что он его пред прежним узнать совсем не может, и если бы думал, что он так слаб будет, то бы присоветовать ему сие высочайшее достоинство на себя не принимать; Ржевуский же стал усерден к нашему высочайшему двору, чтоб не мог более того быть, хотя б действительно и подданный наш был, и в том же самом виде всячески старается и к прусскому королю в доброе поведение здешний двор привесть, дабы здесь всегда потолику с ним в дружбе были, поколику он с нами в дружеских обязательствах находиться будет. И об сем я с королем в разговоре говорил, который утверждал, что король прусский николи благосостояния и некоторого активитета Польше не пожелает; а я ему, напротив, изъяснял, что король прусский на то согласится, если Польша захочет ему доказать, что благосостояние ее ему полезно быть может чрез союз с нею, в котором она по многим вещам ему помощью быть может, все сие, разумеется, поколь и сколько прусский король с нами дружески пребудет. Наконец, и в сем разговоре его в-ство мне обещал все то учинить, что за полезно и нужно России покажется, уверяя, что он, конечно, от нашей системы никогда нимало не отступит. Не знаю, твердо ль останется его в-ство в вышеписаных намерениях. В совершенной его к нам преданности и в его прямодушии я нимало не сомневаюсь и почти за оные отвечать осмеливаюсь, но слабость его против дядьев несказанро велика, а они всегда дела замешивают и замешивать будут, дабы тем навсегда нужными королю быть».
Охлаждением между русским двором и Чарторыйскими хотела пользоваться враждебная фамилии партия и стала заискивать расположения державы, могуществом которой была сокрушена. Великий казначей коронный граф Вессель уверял Репнина, что воевода киевский, епископ краковский, гетман польный, воевода краковский, маршал надворный, коронный и многие другие желают только одного – быть в русской партии независимо от короля, что они не войдут ни в какое обязательство с другими иностранными дворами, если русский двор возьмет их в свое покровительство; но Россия за то должна защищать их твердо и сильно против Чарторыйских, и прежде всего на будущем сейме должна разрушиться генеральная конфедерация, на которую главным образом опирается партия Чарторыйских. Вессель просил Репнина как можно скорее дать ему ответ, чтоб им заранее принять меры к будущим сеймикам, если будут обнадежены русским покровительством. Репнин отвечал ласково, но в общих выражениях, что русский двор никогда не отказывает людям, которые с истинным усердием прибегают к его покровительству, и что правосудие и соблюдение польских прав всегда руководили политикою России; касательно же решительного ответа Репнин просил подождать и дать ему время подумать и снестись с своим двором. Извещая об этом разговоре с Весселем, Репнин писал Панину: «Если паче всякого чаяния найдемся мы в той самой крайности, чтоб особо партию свою собирать независимо от короля, то оное без большой трудности учинить можно будет по великому числу недовольных здешних магнатов и в том случае надобно будет и письменно их обязать, дабы не так легко они, как прежние наши здешние друзья, на все стороны вертелись. Признаюсь же, что с наичувствительнейшим оскорблением о сем cпocoбе говорю, ибо оный нанесет несказанное неудовольствие королю, который, конечно, предан нам, но на сию преданность, по несчастию, считать неможно по чрезмерной его слабости, коей мы столько уже доказательств имели».
Репнин напрасно употребил выражение «паче всякого чаяния ». Необходимость противодействовать Чарторыйским, опираясь на людей, им враждебных, была очевидна для успеха диссидентского дела. Конисский все жил в Варшаве, добиваясь управы; Репнин подал в его пользу два мемориала польскому министерству, что сделал, заметив, что министерство не хочет оказать ему удовлетворения, а виновником этого нежелания оказывался Чарторыйский, канцлер литовский: он настаивал, что в этом деле не нужно издавать королевского универсала, а надобно только разослать министерские письма по униатским епископам, чтоб они не притесняли более греческого исповедания. Но известно было, что подобные письма не имели никакого действия; тот же Чарторыйский сопротивлялся конфирмации привилегий православным. Король, который прежде хотел дать Конисскому полное удовлетворение, стал колебаться.
Ввиду этих колебаний короля, которые в Петербурге приписывались Чарторыйским, Панин писал Репнину, что предложение Потоцких вступить в непосредственную связь с Россиею заслуживает полного внимания; из поступков фамилии нельзя не заключить, что она мало думает об удовлетворении русских требований, особенно по диссидентскому и пограничному делам, что фамилия думает об одном, как бы руководить королем, обращать все в свою пользу и располагать делами по своим мыслям и интересам. Теперь приходит время, когда король может доказать на деле, как далеко он намерен способствовать видам и намерениям императрицы: диссидентское дело, будучи нераздельно соединено с благосостоянием наших единоверных и потому интересуя в высшей степени достоинство ее величества, будет служить нам в этом случае прямым опытом искренности его польского величества или слабости, в которой он останется пред своими дядьями. Если предположить первое, то необходимо предположить разрыв между королем и князьями Чарторыйскими, следовательно, надобно заранее стараться, во-первых, доставить ему другую опору и, во-вторых, показать Чарторыйским, как много они могут потерять, лишась русского покровительства. Если же король останется в руках фамилии, в зависимости от нее, то нам нужно иметь другие орудия, посредством которых можно было бы достигнуть желаемого. «Поэтому, – оканчивал Панин, – рекомендую вам привязать к нашим интересам фамилию Потоцких».
Репнин постоянно толковал о преданности и слабости короля; это могло возбудить подозрение, не оказывает ли сам посол некоторой слабости вследствие своей преданности Станиславу-Августу, и решили на помощь Репнину послать человека, который по своему характеру, казалось, способен был с достаточною силою высказать требования своего двора, и если не заставить короля и Чарторыйских исполнить эти требования, то по крайней мере привести в ясность отношения: то был известный уже нам Сальдерн. Мы познакомились с голштинцем Сальдерном в царствование Петра III, когда он, нося звание конференц-советника, назначен был уполномоченным на Берлинский конгресс по датским делам. В это время он выставлял себя человеком, вполне преданным Пруссии, а после 28 июня 1762 года мы видим его заведывающим голштинскими делами и человеком, очень близким к Панину, который называл его своим другом. Сальдерн умел подделываться к сильным людям, принимая горячо к сердцу их интересы, усваивая и развивая их любимые мысли. Так, он заявил себя пред Паниным горячим поклонником любимых мыслей его о северном аккорде и об уступке Голштинии в пользу короля датского. Но Сальдерн не пренебрегал и другими средствами для приобретения благосклонности сильных людей: так, в письмах к Панину он называл его своим отцом и покровителем, говорил о своей невыразимой радости при виде подписи Панина, о небесном чувстве, какое он испытывал, находясь в присутствии Панина. Но этот человек, как обыкновенно бывает, спешил вознаградить себя, когда был не в присутствии сильного, а сам был сильным; тут он давал всю волю своей раздражительной природе; и люди, обязанные иметь с ним дело, не испытывали в его присутствии небесного чувства.
Сальдерн отправился в Варшаву и от 17 апреля писал Панину, сколько труда принял он, стараясь направить на настоящий путь короля и членов различных партий. Сальдерн выражал надежду, что король по серьезному тону, с каким он, Сальдерн, представил ему страшную будущность, сделается осторожным в своем поведении, постоянным в своих принципах, раз признанных верными, и твердым в их проведении. Король дал ему обещание не даваться в руки своим дядьям, но в то же время признал необходимым обуздывать и своих родных братьев и друзей, которые действуют против Чарторыйских. Сальдерн передавал и ответ Чарторыйских на его представления и требования, делая которые он употреблял то ласку, то угрозы. «Мы до сих пор думали, – говорили Чарторыйские, – что король, будучи молод, нерешителен и недоверчив к своим собственным средствам, нуждается, по крайней мере для внутренних дел, в нас, своих старых друзьях и родственниках, как руководителях, и мы думаем, что такой взгляд наш и справедлив, и умерен, когда мы видим, что король, окружив себя новыми друзьями и молодыми людьми, слепо предался их идеям и советам. Мы часто имели случай противиться людям, которых принципы нам подозрительны и которых советы вредят истинным интересам короля и отечества. Наши лета, наше положение и благоразумие не позволяют нам добиваться презренного титула королевских фаворитов. Пусть он имеет сердечных друзей и фаворитов сколько ему угодно, пусть раздает им места, осыпает богатствами и благодеяниями всякого рода, лишь бы только это было не противно законам; пусть он с ними забавляется: смешно было бы для нас этим оскорбляться. Но когда мы видим, что эти молодые люди ослеплены фавором и поддерживаются средствами, которые они употребляют для возбуждения чувственности и безрассудства короля, то мы считаем своею обязанностью противиться им, хотя нам никогда не приходит в голову образовывать особую партию или отделить свой интерес от истинных интересов короля и нации. Но как скоро мы увидим, что наши представления будут бесполезны и зло так сильно, что будет иметь влияние на настоящее и будущее, то мы готовы покинуть государственную деятельность и оставаться спокойными зрителями. Мы убеждены, что такое решение и такое поведение не может понравиться русскому двору, ибо рано или поздно, и особенно на будущем сейме, вся вина может пасть на нас: интриги и хитрости наших завистников и врагов никогда не перестанут портить дела с целью увеличить обвинения против нас».
Передавая эти речи Чарторыйских, Сальдерн писал: «Если князья захотят искренне удалиться от дел, то найдется средство успеть во всем и без них, хотя это и несколько замедлит дело, но если они захотят удалиться не одни, а увлекут за собою и всех своих сторонников и сделают это вовсе не вовремя и с горечью, то зло будет неминуемо и поведение их испортит все на будущем сейме, как на прошлом сейме испорчено было диссидентское дело, которому они не хотели добросовестно помогать. Мне кажется, надобно теперь их щадить и держать при делах до тех пор, пока не обнаружится их поведение на будущем сейме; если их поведение окажется дурным, то можно будет принять свои меры и предосторожности».
Репнин писал Панину, что пребывание Сальдерна в Варшаве было для него благодеянием, и расхваливал изо всех сил деятельность Сальдерна; но из его слов выходило, что Сальдерн, несмотря на все свое усердие, не мог ничего сделать; поэтому Репнин был вполне оправдан и действительно должен был восхищаться присылкою Сальдерна и его неутомимою деятельностью. «Осмелюсь сказать, – писал Репнин, – что если пребывание Сальдерна не исправит поведения здешнего двора, то уже ничто на свете его не исправит. Не было дня, в который бы он не говорил королю самых резких вещей насчет непоследовательности и слабости его поведения; точно так же поступал он и с князьями Чарторыйскими, чтоб положить предел их безмерному честолюбию и дать им понять, какие печальные следствия будет иметь их неисправимость. Он, подобно мне, льстил себя надеждою, что можно их помирить с королем и его братьями; но это оказалось совершенно невозможным. Г. Сальдерн со всех сторон получил много обещаний и прекрасных слов; время покажет, что из этого выйдет, ибо, зная чрезвычайную слабость короля, я не могу надеяться, чтоб он когда-нибудь сделался тверд, точно так как не могу поручиться, чтоб дядья снова им не овладели».
А между тем король решился прямо действовать в Петербурге мимо Репнина, для чего придумал отправить туда графа Ржевуского, человека, считавшегося совершенно преданным России. Репнин узнал, что Ржевускому предписано домогаться вывода русских войск из польских владений, особенно по настоянию князя Михаила Чарторыйского. Репнин в разговоре с Ржевуским упомянул об этом, не делая вида, что наверное знает об инструкции. Ржевуский признался, что действительно имеет такое повеление. Тогда Репнин с удивленным видом сказал ему, что ведь это противоречит тем мнениям, с которыми и он, Ржевуский, был согласен, именно, что войска нужны для обуздания нации и для побуждения ее к исполнению требований по диссидентскому делу. Ржевуский отвечал, что все это так, но что король делает только вид, не будучи в силах противиться представлениям своего министерства, которое основывается на просьбах, присланных из всех уголков Польши. Репнин писал по этому случаю Панину: «Желая полного успеха на будущем сейме, совершенною надеждою, однако ж, льститься не смею; в случае же неудачи думаю, что нужно будет ввести наши войска в деревни противников нашим намерениям, чтоб уменьшить их гордость, упрямство и кредит в земле, ибо когда партизаны увидят, что шефы их не могли себя оградить от сего поступка, то натурально от них отставать станут, не имея надежды, чтоб они их более себя спасти могли. Я чрез сие разумею двух стариков Чарторыйских, которые одни в нынешних обстоятельствах наши дела сделать и испортить могут, тогда ж уже по обстоятельствам увидим, если дела против желаний наших решатся, каким образом оное исправить, чрезвычайным ли сеймом, новою ли конфедерациею или другим каким образом». Екатерина написала Панину на этом донесении: «Я думаю, что и сих стариков склонить можно действовать по нашим желаниям на будущем сейме; поговорите о сем со мной».
Панин отвечал, что императрица одобряет все сделанное Репниным вместе с Сальдерном, и предписывал Репнину: присматривая с крайнею осторожностью за поступками Чарторыйских и восстановляя по возможности согласие между ними и королевскими креатурами для приближающегося сейма и успеха диссидентского дела, в то же самое время тайно привлекать к себе Потоцких и других противников фамилии ввиду того же диссидентского дела, внушать им по секрету, что так как это дело касается близко славы императрицы и пользы их отечества, то содействием ему они приобретут благоволение императрицы, а следовательно, и могущественное влияние в делах Польши. Потом Панин предписывал не допускать никакого французского министра к сеймовым делам.
Если все усилия с русской стороны клонились к тому, чтоб на будущем сейме провести с успехом диссидентское дело, то не дремали и враги этого дела. Масальские, до сих пор такие ревностные приверженцы России, теперь объявили себя в Литве злыми врагами диссидентов, и Репнин распорядился отправлением к ним офицера с увещанием удержаться, если не хотят подвергнуться каким-нибудь неприятностям. В собственной Польше врагом диссидентского дела явился краковский епископ Солтык, который в письме своем к королю прямо хвалился, что на будущем сейме употребит все усилия, чтоб диссиденты не получили никаких прав. «Я думаю, – писал Репнин Панину в конце июля, – я думаю, что сие ему даром пройти не долженствует, если мы не хотим поляков к дерзости приучить и повод дать слова наши не почитать, не подкрепляя их делами». Репнин просил позволения ввести до сейма русские войска в деревни Солтыка. «Который образец, – писал он, – конечно, приведет в почтение наши здесь требования, и всякий будет остерегаться им перечить, а между тем сие движение войск приблизит их к Варшаве, что и всем будущим в Варшаве на сейме в некоторое обуздание служить станет. Я рассуждаю, что в Литве нужно несколько войска оставить також для образца над Масальскими, если они тоже свои развратные поступки продолжать будут».
Панин отвечал, что императрица соизволила на это представление. При этом Репнину приказывалось прямо объявлять всем, что диссидентское дело нераздельно соединено с благосостоянием республики или с весьма дурными последствиями для тех, которые будут ему препятствовать. Императрица дружбу и доброжелательство свое к существенным польским интересам поставит в зависимость от того положения, в какое будут поставлены диссиденты на сейме. Какие следствия будет иметь препятствие успеху диссидентского дела, это легко можно видеть из того, чему подвергнутся Масальские и Солтык; а если они и единомышленники их не исправятся после этого первого поучения, то могут быть уверены, что на границах стоит 40000 войска, которое тотчас будет введено в Польшу и Литву, расставлено по деревням противников и содержано на их иждивении, потому что императрица считает диссидентское дело интересующим и собственную ее славу, и прямое благо республики и непременно желает достигнуть его успеха всеми возможными способами, даже самыми сильными, дабы истребить препятствия в самом их источнике, т.е. в имениях и лицах тех людей, которые, возбуждая волнения и беспокойства, становятся этим самыми сущими злодеями своего отечества.
Станислав-Август писал совершенно другое Ржевускому в Петербург. «Чем более я думаю, – писал король, – тем более нахожу дурною мысль провести диссидентское дело с помощью оружия. Во-первых, чтоб сделать меру действительною, надобно выставить большое войско; во-вторых, когда дела поведутся таким образом, то они станут для меня семенем Равальяков, а для диссидентов породят Варфоломеевскую ночь… Диссидентское дело трудно, но не невозможно; ради Бога, чтоб не было русского войска в Польше, чтоб не было фраз, доказывающих иностранное господство». В то же время Чарторыйские отправили к Панину письмо, наполненное жалобами на короля и на Репнина. «Признаемся, – писали Чарторыйские, – что с величайшим прискорбием видим мы исчезновение наших лучших надежд, исчезновение средств, дарованных, казалось, провидением для того, чтоб вывести Польшу из глубины зол, в которые она была погружена. Вместо счастливого будущего мы теперь предвидим одну смуту, если король будет окружен постоянно молодежью, которая без опытности и системы руководствуется одними страстями, портя самые важные дела по самым мелким побуждениям, не разбирая средств для приобретения королевской благосклонности, всякими хитростями злоупотребляет ежедневно умом и сердцем короля, раздражает его, делает раздражительным относительно тех, которые могли бы обратить его к постоянной системе. Люди, окружающие короля, никогда бы не посмели действовать так открыто и смело, если б они не льстили себя поддержкою России вследствие публичного, самого явного покровительства и приема, которые оказывает им ежедневно князь-посол, и вследствие удаления, которое он оказывает нам без всякого прикрытия. Мы принуждены вам сказать, что такое поведение князя Репнина перевернуло мысли большей части нашего народа, заставило думать, что одни дружеские связи и забавы вашего племянника не могли бы внушить ему такого пристрастия, если бы политическая система России была этому противна. Перспектива будущего сейма приводит нас в ужас. Императрица, конечно, хочет добра Польше и хочет дать нам доказательства этого желания своего, настаивая на диссидентское дело; ни один образованный поляк вместе с нами не сомневается в важности этого предмета для пользы страны; но подобные дела во всякое время подвержены народным предубеждениям, должны быть ведены искусными руками; тут надобно употреблять не чуждую силу, всегда унизительную для народа, а кротость, искусство приобретать доверие и уважение каждого значительного лица в государстве. Несмотря на наши усилия и намерения императрицы, дело, без сомнения, не удастся, если самые главные пружины кротости и убеждения не будут употреблены искусно и настойчиво. Ни императрица, ни вы не будете свидетелями наших действий, и легко будет нас обвинять за 200 лье. Если люди, идущие к одной цели, не могут устроить между собою точного соглашения и не помогают взаимно друг другу, то при лучших намерениях успех невозможен. Но какое может быть соглашение, когда нет доверия, а доверия к нам нет в сердце князя Репнина, хотя мы не пренебрегли ничем для его приобретения с самого приезда князя сюда. Мы с удовольствием увидали бы возрождение этого доверия благодаря вашим внушениям».
Панин сообщил Репнину копию этого письма и копию ответа своего на него: в самых мягких и красивых выражениях было поставлено Чарторыйским на вид, что императрица имела полное право заподозрить их поведение во время коронационного сейма: иностранные дворы давали знать, что они, Чарторыйские, меньше всего помогали диссидентскому делу, и, действительно, удаление их с сейма подтверждало эти известия. Если князь Репнин примешал сюда еще какую-нибудь личность, то он будет остановлен, но императрица требует, чтоб они содействовали как следует достижению ее целей, а этих целей три: союз России с Польшею, восстановление прав диссидентов и определение границ. На диссидентское дело императрица смотрит как на пробу, по которой она узнает их расположение. Единственное время, в которое это дело может пройти путем кротости, есть время будущего сейма: тут-то они должны показать свою преданность к императрице и к отечеству, содействуя успеху дела мудростью своих советов, своим значением в государстве и своею опытностью. Что же касается определения границ между Россиею и Польшею, то императрица поднимает этот вопрос вовсе не с целью увеличения своих владений, но с тем, чтоб пограничные жители вышли наконец из этого первобытного состояния людей, которые не знают ни что твое, ни что мое, и которые сохраняют свою собственность только путем силы и насилия. Когда границы будут установлены, то ничто не помешает тесному союзу между обоими государствами.
Репнину Панин писал, чтоб он, возвращая Чарторыйским свою доверенность и уверяя их в желании русского двора видеть короля предпочитающим их советы советам молодых людей, стремящихся к достижению своих частных целей, в то же время прямо дал им выразуметь, что императрица видит в короле неумеренное стремление к его собственному интересу, т.е. к некоторому распространению его власти, что будет тревожить людей, любящих свободу, и возбуждать недоверие соседей. Если б возник вопрос об умножении войск республики, то Репнин должен рассуждать пред Чарторыйскими, что они, как старики умные и искусные, должны знать, что увеличение военных сил происходит или во время войны с слабыми соседями, или во время упадка последних; но Польша относительно своих соседей не находится ни в том, ни в другом положении и, конечно, не захочет начать войну с целью увеличения своего войска. Поэтому у нее нет другого средства к возвращению себе силы, кроме союза с державами, которых собственная политическая надобность потребовала бы и ее усиления. Репнин должен был обходиться с Чарторыйскими ласковее, ибо, как ни рассуждать, все же фамилия Чарторыйских должна служить лучшим орудием при успешном окончании наших дел с Польшею: ее главы, канцлер литовский и воевода русский, имеют, бесспорно, больше всех других искусства и средств по своему кредиту; кроме них, не из кого выбрать человека, кому бы можно вверить руководство дел и составление новой партии.
«Конечно, – отвечал Репнин от 21 августа, – содействие князей Чарторыйских на будущем сейме необходимо не потому, чтоб можно было полагаться на их прямодушное усердие, но потому, что кредит их очень велик, и хотя сердце у них дурное, но головы здоровее, чем у кого-либо в этой земле. Изъяснения их к в. высокопр-ству не все справедливы, как, например, насчет королевского поведения. Я вполне согласен, что слабости и порывистости в нем чрезвычайно много, но не могу согласиться, чтоб какое-нибудь, хотя маловажное, дело сделано было без их ведома; что же касается до моих отношений, то, конечно, не одни забавы были причиною моего удаления от них, но их двоедушие и неблагодарность к нашему двору. Поведение их по получении вашего письма не переменилось, все по-прежнему ограничивалось холодною учтивостью: видно, они ожидали, чтоб я сделал первый шаг; я его сделал».
Репнин отправился к воеводе русскому с уверением о возвращении ему доверенности и благоволения императрицы в надежде, что его усердие и преданность будут вполне соответствовать этой милости. Чарторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После взаимных комплиментов приступили к делу. Репнин просил воеводу открыть все способы, которые могут вести к успеху в диссидентском деле; воевода отвечал уверениями в своем усердии, но за успех дела не поручился. «Кто же первый станет говорить об этом на сейме? – спросил Чарторыйский. – Я по крайней мере сделать этого не осмелюсь». Репнина сильно оскорбили эти слова; он указал воеводе на важность следствий неудачи дела и прибавил, что если главные будут остерегаться открыто содействовать успеху дела, то меньшие, конечно, не станут о нем говорить. Чарторыйский отвечал, что все свои границы имеет. Потом Репнин начал говорить о возмутительных разглашениях Масальских, епископа краковского и недавно присоединившегося к нему епископа каменецкого Красинского, спросил, не находит ли он полезным расположить по их деревням русские войска. Чарторыйский отвечал, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит всех от русской стороны и может совершенно разрушить сейм. Чарторыйский прибавил, что, по его мнению, полезно вовсе вывести русские войска во время сейма, ибо потом войска всегда могут возвратиться. Репнин заметил, что так как конфедерация еще существует, то существует и причина, приведшая русские войска в Польшу. Репнин окончил свое донесение об этом разговоре так: «Остается теперь видеть праводушие и усердие их поступков на сейме: и если на оном ласкою и приветствием желанного конца не получим, то, кроме силы, доходить до оного способов уже не остается». Екатерина заметила: «Если они дали ему слово, то сдержат его».
21 августа Репнин писал Панину, что в Великой Польше все главные обещали поддерживать диссидентов, но препятствовали друзья одного из Чарторыйских, епископа познанского; и, когда Репнин стал жаловаться на это воеводе русскому, тот отвечал, что ничего не знает, не получал от брата никаких известий. Репнин оканчивал письмо словами: «Истинно исполнение сего дела столь тяжело, столь запутанно и столь трудно, что я часто в отчаяние прихожу». Екатерина, защищая опять старших Чарторыйских, написала о познанском епископе: «Это дурак, которого братья никогда не в состоянии направить на путь истинный: шуты имеют на него больше влияния».
Репнин писал о Солтыке, что он сносится с иностранными государями, требуя их помощи в диссидентском деле, что по его влиянию на краковском сеймике католическая шляхта выгнала всех диссидентов; а Солтык писал к графу Григ. Григ. Орлову, что он нимало диссидентов не притесняет, но Репнин в разговоре с его поверенным грозил ему, епископу, Сибирью и секвестром его имений. Репнин оправдывался, что никогда ничего подобного не говорил, относительно же диссидентов слался на их депутата Гольца, который отправлялся в Петербург и мог там заявить, что нет несправедливости, какой бы не позволил себе против них епископ краковский, и что ни в одной епархии так свирепо с ними не поступают.
Относительно Чарторыйских Репнина лучше всего оправдала депеша Станислава-Августа к Ржевускому в Петербург. «Вы знаете, – писал король, – что я давно уже и постоянно требовал у дядей своих, чтоб они объяснили мне свои распоряжения относительно сеймиков, из боязни, чтоб их поверенные и мои по незнанию не противодействовали друг другу. Вы были свидетелем, как они всегда отклоняли это объяснение, и вот именно случилось то, чего я боялся: на многих сеймиках выборы произошли двойные. Для меня важно, чтоб г. Панин знал об этом заранее, иначе дядья мои скажут русскому правительству, что дело не удалось вследствие моего нежелания войти с ними в соглашение и дать им достаточно влияния. Для меня и для дел важно, чтоб они узнали от других, а не от меня (т.е. чтоб императрица велела им написать), что Россия будет стараться об ослаблении их влияния как в стране, так и у меня, если они не станут мне помогать и доставлять мне во всем удовольствие, вместо того чтоб мне противодействовать, как теперь. Я вам поручаю это как дело чрезвычайной важности. Попросите г. Панина моим именем, чтоб он это сделал, и как можно скорее; мне бы не хотелось начинать сейма без этого внушения моим дядьям. Князь Репнин обходится теперь с ними как нельзя лучше».
Внушение было сделано. 10 сентября Панин написал Чарторыйским, чтоб они не щадили никакой заботы, никакого труда для успеха диссидентского дела, ибо здесь представляется решительный случай показать им свои намерения. «Не скрою от вас, – писал Панин, – что одно ваше равнодушие в этом деле и в других, относительно которых императрица знает и одобряет расположение короля, уничтожит в принципе все добро, которое ожидалось от революции, и событие, на которое смотрели как на источник счастья для вашего отечества, произведет только ряд неприятностей для него, для короля и лично для вас».
Сделано было внушение Чарторыйским, но должно было также сделать и сильное внушение королю. От 1 сентября Репнин донес, что король прислал к нему проект постановления о диссидентах для будущего сейма, и в этом проекте он, Репнин, нашел много вредных и неприличных вещей, ибо, что в нем говорится в пользу диссидентов, то говорится глухо, в общих выражениях, а противное подробно и ясно выражено; не упомянуто вовсе о диссидентских церквах, о сохранении их навсегда с принадлежащими к ним имениями, с позволением поправлять их и перестраивать; не изъяснены религиозные права, обеспеченные договорами, тогда как здесь надобен ясный закон ввиду ябед со стороны польского католического духовенства и значительной части народа; наконец, в проект внесено, чтоб диссиденты никогда не были допускаемы к правительственным должностям и гражданским чинам. По настоянию Репнина Чарторыйский, канцлер литовский, взялся переделать проект, который, однако, без переделки уже был отправлен в Петербург к Ржевускому для показания Панину. Репнин писал последнему: «Думаю, прожект в некоторое удивление ваше высокопр-ство привел». Следствием этого удивления было письмо Панина к Репнину от 18 сентября. «Поручаю вам, – писал Панин, – дать почувствовать королю, что при тесной дружбе и искренней доверенности государи так между собою не обходятся, как его польское в-ство поступил, что заставляет подозревать желания беспредельные, недостаток искреннего доверия и стремление выигрывать время, проводить нас пестрыми словами и двоякими обнадеживаниями, а между тем достигать только собственных своих односторонних видов. Такое поведение, обнаруживаясь все более и более, может наконец принудить здешний двор разрушить генеральную конфедерацию и соединиться с теми, которые хотят поставить сейм в обыкновенный законный порядок, дабы, уничтоживши на нем большинство голосов, заградить королю все пути усиливать себя далее к нашему предосуждению. Тогда нам удобнее будет составить конфедерацию из диссидентов и чрез нее действовать вооруженною рукою. Новомодные польского двора друзья и приятели именно тут помогут: пока они будут льстить королю и собираться защищать его, мы успеем кончить все и решить навеки жребий наших ложных друзей, которые будут раскаиваться в своей неблагодарности, да поздно. Прусский король крепко у нас домогается прекращения генеральной конфедерации, и потому польский король должен поставить себе за необходимое правило, что, не приведя наших дел к желаемому императрицею концу, нельзя ему и помышлять ни о какой для себя новой пользе, не только стремиться к ней самым делом. Государыня императрица проникает уже все тонкости польского двора; и теперь она чувствительно тронута и оскорблена новою его хитростью, сшитою белыми нитками, ибо в то самое время, когда манили нас надеждою достижения всего желаемого, когда прислан был проект определения на сейме свободного отправления диссидентских религий, не дождавшись ответа императрицы, который один должен был положить меру, захотели озадачить нас другим проектом сеймовой конституции, которая наглым образом, торжественно и навеки отвергает то, о чем ея в-ство больше всего старается. Из такого оскорбительного двоедушия императрица может заключить одно: что хотели предупредить формальное с нашей стороны требование гражданских прав для диссидентов. Надобно вам непременно держаться правила, чтоб до приведения диссидентского дела в полное течение король ничего важного в пользу своих видов получить не мог и, таким образом, до окончания дела оставался у нас в уезде, тем более что теперь и его собственное и дядей его отвращение к восстановлению диссидентов в гражданских правах начинает открываться уже явным образом; но императрица никогда не отступит от этого требования. Старайтесь всеми мерами собрать к себе как можно больше диссидентов, в том числе и из наших единоверных, если между ними есть способные люди; обходясь с лучшими из тех и других откровенно, приготовляйте и ободряйте их надеждою сильного покровительства императрицы, пусть они подадут промеморию королю и сейму, в которой бы как вольные граждане требовали восстановления своих прав».
В Петербурге непременно хотели введения диссидентов в гражданские права; в Варшаве никто не имел никакой надежды достигнуть этого обыкновенным, мирным образом. Король писал Ржевускому: «Приказания, данные Репнину, ввести диссидентов и в законодательную деятельность республики, суть громовые удары для страны и для меня лично. Если есть какая-нибудь человеческая возможность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня одеждою Несса: я сгорю в ней, и конец мой будет ужасен. Ясно предвижу предстоящий мне страшный выбор, если императрица будет настаивать на своих приказаниях: или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если Россия непременно захочет ввести диссидентов в законодательство, то пусть их будет немного, 10 или 12, все же это будет 10 или 12 вождей законно существующей партии, смотрящей на государство и правительство польское как на врага, против которого она должна необходимо и постоянно искать помощи извне. Я знаю, что это дело может мне стоить короны и жизни, я это знаю, но повторяю, что не могу изменить отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать приказания Репнину, что если сейм уступит диссидентам в других их требованиях, но исключит их из законодательства, то чтоб он не двигал войск, находящихся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владения республики. Сила может все – я это знаю; но разве употребляют силу против тех, которых любят, чтоб принудить их к тому, на что они смотрят как на величайшее несчастье. Я не мог решиться написать это прямо императрице; я побоялся, чтоб мое надорванное сердце и чрезвычайное волнение моего духа не внесли в мое письмо таких слов, которые вместо смягчения могли бы раздражить ее. Но вы делайте, что можете. Погибнуть – ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой – ужасно».
Репнин также ужасался. «Повеления, данные по диссидентскому делу, ужасны, – писал он Панину, – истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы, исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно до гражданских диссидентских преимуществ». Но Екатерина не ужаснулась и велела отвечать Станиславу-Августу, что решительно не понимает, каким это образом диссиденты, допущенные к законодательной деятельности, будут вследствие этого более враждебно относиться к государству и правительству польскому, чем относятся теперь; не может понять, каким образом король считает себя изменником отечеству за то, чего требует справедливость, что составит его славу и твердое благо государства. «Если король так смотрит на это дело, – заключила Екатерина, – то мне остается вечное и чувствительное сожаление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств».
Екатерина имела право приписывать своему «Наказу» такое просветительное и воспитательное значение для народа. Депутаты, созванные изо всех мест, из разных сословий, слышали «Наказ», пользовались им, утверждались на его словах в своих мнениях и спорах, но дальнейшее пользование им было ограничено. В сентябре 1767 года Сенат определил по предложению генерал-прокурора разослать экземпляры «Наказа» в высшие учреждения, в департаменты Сената, коллегии и конторы их, в Судный приказ, в канцелярию Конфискации, но исключил губернские, провинциальные и воеводские канцелярии да и относительно высших учреждений в указе говорится, «чтоб экземпляры „Наказа“ содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутствующих и чтоб оные никому из нижних канцелярских служителей, ни из посторонних не только для списывания, но ниже для прочтения даваны были, для чего и иметь их всегда на судейских столах при зерцалах». Присутствующие в этих высших учреждениях должны были читать «Наказ» в свободное от текущих дел время, т.е. по субботам, но при этом чтении могли находиться кроме них только секретари и протоколисты. Таким образом, «Наказ» был доступен только старшим и составлял запрещенную книгу для младших; о нем сделано постановление, подобное тому, какое сделано в латинской церкви относительно Св. Писания. Найдено, что сочинение самодержавной государыни, и прошедшее через строгую цензуру подданных, все еще содержит в себе аксиомы, способные разрушить стены, по выражению Никиты Ив. Панина. Объяснение такому распоряжению мы найдем в сенатском указе по поводу дворовых людей и крестьян генерала Леонтьева, генеральши Толстой, бригадира Олсуфьева и подполковника Лопухина с братьями. Эти дворовые люди и крестьяне подали императрице челобитную на своих господ. «Из обстоятельств сего дела усматривается, – говорит указ, – что таковые преступления большею частию происходят от разглашения злонамеренных людей, рассевающих вымышленные ими слухи о перемене законов и собирающих под сим видом с крестьян поборы, обнадеживая оных исходатайствовать им разные пользы и выгоды, которые вместо того теми поборами корыстуются сами, а бедных и не знающих законов крестьян, отвратя их от должного помещикам повиновения, приводят в разорение и в крайнее несчастие».
При самом начале заседаний комиссии об Уложении, в августе 1767 года, Сенату было доложено о возмущении заводских крестьян. Мы видели, что исследование об общем почти восстании заводских крестьян на северо-востоке, порученное сначала кн. Вяземскому, потом Бибикову, было окончено, восставшие были усмирены, более виновные наказаны, также наказаны и заводские приказчики, уличенные в притеснениях крестьянам, должная последним заработная плата, удержанная приказчиками, взыскана, введено лучшее против прежнего и различное по различию местности распределение работ. Но неудовольствие не могло прекратиться, ибо отношения в существе остались прежние; подобные исследования при всей благонамеренности следователей представляли чрезвычайные затруднения, и мы теперь, отдаленные с лишком веком от событий, при обсуждении результатов этих исследований должны быть очень осторожны. Для образца приведем показания крестьян, жаловавшихся на демидовских приказчиков. Первый показал: «В прошлом 59 году, когда не упомню, нарядчик ударил меня безвинно по голове поленом один раз, я упал и едва очувствовался, а более никакого битья не было». Второй показал: «Били меня безвинно приказчик и его сын саженью немилостиво». Третий : «Стегал меня батожьем за то, что на работу из дому приехал не на срок». Четвертый : «В заводской работе я не бывал, и никто меня не бивал». Пятый : «При перекличке опоздал, и отметили в нетчики, и за то приказчик стегал меня кнутьем не весьма душевредно, но посредственно». Шестой : «Сын приказчика налагал поденную работу чрезвычайную, которую сработать невозможно, и за то стегал меня батожьем немилостивно один раз, а более того никто не бивал, и посторонних свидетелей не было». Седьмой : «Приказчик бил меня палками смертельно и изломал об меня две палки, а более того никто не бивал». Восьмой : «Приказчик сказал, будто приездом опоздал, и стегал меня батожьем весьма душевредно, так что несколько дней наклоняться не мог». Девятый : «Не поверя моей болезни, приказчик стегал меня батожьем нещадно, от которого стеганья наиболее занемог и лежал с неделю». Десятый : «Стегал меня плетьми весьма жестоко и приговаривал, чтоб знать грозу демидовскую». Некоторые показывали, что лежали по 4 и по 8 недель больные от побоев. Показывали, что бывали смертные случаи от побоев. Но какие были средства удостовериться в правде показаний? Обвиняемые запирались, запирались и на пытке, отстраняя свидетелей, тех же заводских крестьян, как свидетелей пристрастных; выкапывание трупов и медицинское свидетельство было тогда невозможно, и судья решал по своим соображениям, могла ли приключиться смерть от показываемых побоев, и если решил, что не могла, то какие мы имеем средства обвинять его в решении неправильном, в потачке притеснителям? Признаем за русскими людьми, жившими сто лет тому назад, большую опытность в этих вещах, чем какую имеем мы, к великому нашему счастию; признаем, если хотим быть сами справедливы и беспристрастны, что жалоба на побои, весьма душевредные, не могла производить на них такого сильного впечатления, какое производит теперь на нас: вспомним, что телесные наказания в самых тяжелых формах были в общем употреблении, считались необходимыми, еще наше поколение помнит истязания детей в школах, истязания вполне «душевредные»; что же было за сто лет? Вспомним, что в это время только начали раздаваться голоса некоторых достойных пастырей церкви против ужасных истязаний, которым подвергалось духовенство в монастырях; все эти душевредности встречались по всей России везде, где только сильный, власть имеющий приходил в столкновение с слабым, игумен – с простым монахом, учитель – с учеником, господин – с слугою, хозяин – с работником, договорим: отец с сыном. Возбуждение уголовного преследования против приказчиков за жестокие наказания заводских крестьян заставило бы скольких людей переглянуться и поднять вопль, ибо и они должны были подвергнуться такому же преследованию. Явление не было одиноким, выходящим из ряду.
В доказательство затруднительности положения кн. Вяземского и Бибикова, затруднительности, которой подвергается и позднейший исследователь этих печальных явлений, приведем следующий случай. Много было жалоб на демидовского приказчика прапорщика Кулалеева. Вяземский нашел в нем человека с нечистою совестью, взяточника и удалил его от заведования приписными крестьянами, но уголовному наказанию он не подвергся, хотя была жалоба, что он в 1760 году крестьянина Алексеева, будучи в Дуброве, неведомо за что изрубил саблею до смерти. Кулалеев отвечал на обвинение следующее: «Села Котловки крестьянин Летков пришел ко мне и объявил, что, отрезав на реке Каме паром, переехали воровские люди на горную сторону. Я, собрав села Котловки крестьян, разослал их для поиску воровских людей, а сам поехал с другими крестьянами и в лесу встретил неведомо каких людей ночью; стали их ловить, один из них бросился на меня с топором и порубил мою лошадь, а я порубил его по плечу тесаком; порубленный побежал, крестьянин Таланов его догнал; он Таланова сшиб с ног; я побежал за ним пешком, нагнал: он бросился на меня с топором, а я, обороняясь, порубил ему ногу, отчего он упал и тут же на месте умер. Между тем пойманы были товарищи убитого, беглые заводские крестьяне, которые объявили, что убитый тоже беглый заводской крестьянин Михайла Алексеев Болонкин». Кулалеева оправдали. Наконец, затруднительное положение следователей увеличивалось еще тем, что одни крестьяне восставали, а другие оставались спокойными и отправляли свои работы, и восставшие вооружались против них, силою заставляя их принимать свою сторону.
Но если положение Вяземского и Бибикова было крайне затруднительно, если мы не имеем никакого права требовать от них, чтоб они поступали по понятиям и условиям не своего времени, а нашего, а потому не признавать их заслуги, то, с другой стороны, мы должны признать, что их распоряжениями зло совершенно прекращено быть не могло. О средстве коренного исцеления болезни вопрос был задан Екатериною: нет ли возможности заменить приписных крестьян вольнонаемными рабочими? Понятно, что ответ был отрицательный, потому что если бы эта возможность существовала, то крепостное право исчезло бы на всем протяжении России; при сохранении же обязательных отношений работника к хозяину никакие определения отношений не могли принести всей желаемой пользы, даже при условии постоянного строгого надзора и всегда справедливого, беспристрастного решения споров; но возможно ли было требовать этих условий на отдаленных окраинах при известном печальном состоянии правосудия? Заводские крестьяне хотели вовсе не того, что им дали, они не хотели более сносного определения обязательных отношений, они хотели полного увольнения от заводских работ, ибо их положение было самым тяжким видом крепостного права. Крестьянин-земледелец, какого бы корыстолюбивого и жестокого господина или приказчика судьба ему ни послала, все же оставался на своем месте при своих обычных занятиях, тогда как заводская работа была по преимуществу работа «невольная, рабская», по выражению самих крестьян. К заводам приписывались крестьяне, жившие от них в очень дальнем расстоянии, в расстоянии нескольких сот верст, и должны были являться в срок, должны были тратиться, разоряться для этих переходов и в случае запаздывания должны были готовиться к наказанию, к побоям от приказчика, более или менее душевредным , смотря по характеру и расположению последнего. Кроме того, хозяин или приказчик стремились извлечь всевозможную выгоду из работника, находившегося совершенно в их руках, прижать его, недоплатить, заставить проработать лишнее, продать ему дорогою ценою необходимые предметы. Все это не могло приучить крестьянина к заводским работам, и постоянным его желанием было освободиться от них; мы видели, что первые сильные крестьянские восстания при Елисавете были восстания заводских крестьян; мы должны ждать, что они не прекратятся и после усмирения их в первые годы екатерининского царствования.
Летом 1767 года пришли в непослушание крестьяне, приписные к Юговским горным заводам графа Ив. Чернышева, заводчика Походяшина и покойного канцлера Воронцова. Соликамская воеводская канцелярия нашла, что виновником был премьер-майор Дервецкий, который приказал крестьянам ходить на одни соляные заводы. Сенат для усмирения крестьян велел ехать с военною командою генерал-майору и главному командиру над Гороблагодатскими и Кемскими заводами Ирману. В октябре месяце пришел рапорт канцелярии Главного правления заводов об упорствах и отбывательствах от работ крестьян, приписных к Аннинскому заводу гр. Чернышева, Соликамского и Чердынского уездов; канцелярия писала, что никакой надежды к утишению восстания нет, и она обратилась за помощью к казанскому губернатору. В том же месяце подали просьбу в Сенат содержатель рязанской игольной фабрики Рюмин и компаньон его бригадир князь Килдишев, что Мануфактур-коллегия освободила их крепостных людей, содержавшихся по обвинению в непослушании, отчего на их фабрике произошло еще большее неповиновение и озорничество; челобитчики писали, чтоб велено было усмирить крестьян военною командою. Сенат велел послать команду и приказал дать знать коллегии, что она поступила весьма неблагорассудительно и неосторожно, освободивши означенных крепостных людей без всякого удовольствия, их владельцу, сделав распоряжение, чтоб их употреблять только на игольной фабрике, а не посылать на железный завод для тяги проволоки. Коллегия отвечала, что она отослала крестьян в исполнение указа не держать долго колодников, поручив Рязанской губернской канцелярии рассмотрение дела о их виновности; что же касается распоряжения ее ходить крестьянам только на игольную фабрику, то иначе произошла бы смута: игольная фабрика подведомственная ей, а железный завод – Берг-коллегии. В конце года Ирман донес, что возмутившиеся крестьяне пришли в послушание и обязались идти на заводские работы, кроме 37 человек деревни Бурдаковой, приписных к Пыскорскому заводу. Сенат приказал: рекомендовать Ирману секретно поступать в этом случае с такой умеренностью, чтоб крестьяне не могли иметь предлога к возмущению. Рязанская губернская канцелярия донесла, что крестьяне игольной фабрики Рюмина за учиненные ими противности наказаны кто кнутом, кто плетьми и тем в должное послушание приведены. Вследствие донесения воронежского губернатора о противностях липецких рабочих Сенат приказал: так как по делу видно, что непослушание заводских рабочих большею частию произошло и теперь происходит от притеснения управителями кн. Репнина, то последнему дать знать секретно, чтоб он без нарушения собственной пользы постарался принять заблаговременно такие меры, благодаря которым рабочие не имели бы прямых причин к жалобам, а для большего успокоения отрешил бы нынешних своих управителей и определил других, если только от этого не произойдет заводам его какого вреда.
В то самое время, как в комиссии, созванной из всех концов России для подания императрице «света и сведения» о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно, в то самое время, как в этой комиссии разные сословия наперерыв требовали себе права иметь крепостных людей, государыня подписывала приговор над явлением, которое показывало, до чего может доводить крепостное право, отдававши человека во власть другого человека. И это явление произошло в среде тех людей, которые в комиссии предъявляли свое исключительное право иметь крепостных людей, управление ими выставляя как школу, как приготовление к высшим правительственным должностям, причем указывали на свои большие средства нравственные, на свое образование. Оказалось, что ужасное явление могло быть продолжительно именно в среде этих людей, потому что в их среде могло находить долгую безнаказанность.
Жена ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова Дарья Николаева, овдовевши 25 лет, получила в управление населенные имения, толпу крепостных слуг и в этом управлении развила чудовищную жестокость: собственными руками она била без милости своих слуг и служанок чем попало, припекала им уши разожженными щипцами, обливала кипятком. По ее приказу били, секли дворовых мужчин и женщин, забивали и засекали до смерти, и все за маловажные вины по хозяйству. Злость Салтыковой, усиливаясь по мере терзания несчастных жертв, доходила до бешенства. «Бейте до смерти, – кричала она наказывавшим, – я сама в ответе и никого не боюсь, хотя от вотчин своих отстать готова. Никто ничего сделать мне не может!» Сознание безнаказанности, возможности по родственным связям и богатству запугать и задарить судей разнуздывало Салтыкову, и, действительно, более шести лет жалобы на нее крепостных оставались без последствий, жалобщиков наказывали и отсылали назад к госпоже, которая говорила им: «Вы мне ничего не сделаете; сколько вам ни доносить, мне ничего не сделают и меня на вас не променяют». Наконец в 1762 году дошла до Екатерины жалоба, что с 1756 года Салтыковой погублено уже душ со сто. Жалоба переслана была в Юстиц-коллегию; началось следствие. В конце 1763 года коллегия представила, что Салтыкову, «яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительною, во изыскании истины надлежит пытать». Мы видели, какую борьбу вела Екатерина против пытки. И тут она не хотела ее допустить как средство, вовсе не ведущее к изысканию истины, и приказала: «Объявить Салтыковой, что все обстоятельства оного дела и многих людей свидетельство доводят ее до пытки, что с нею действительно и последует, если она не принесет чистосердечного признания. Между тем определить к ней искусного, честного жития и в Божественном Писании знающего священника на месяц, который бы увещевал ее к признанию, и если от сего еще не почувствует она в совести своей угрызения, то чтоб он приготовил ее к неизбежной пытке, а потом показать ей жестокость розыска приговоренным к тому преступником, и если еще и тогда чистосердечия от нее не будет, то представить ее и. в-ству, не объявляя ей о том последнем представлении, и ожидать указа».
Эти средства не помогли: Салтыкова ни в чем не призналась. Екатерина и тут не хотела употребить пытки. Сделан был повальный обыск, который указал на убийства; по этим указаниям подняты были дела о Салтыковой в Полицмейстерской канцелярии, Сыскном приказе и Тайной конторе, решенные в пользу Салтыковой по взяточничеству присутствующих. Люди Салтыковой обвиняли ее в убийстве 75 человек обоего пола; Юстиц-коллегия по рассмотрении дел обвинила ее положительно в убийстве 38 человек и оставила в подозрении относительно убийства 26 человек. В октябре 1768 года последовал высочайший указ Сенату: «Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и того великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо пред многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему Сенату: 1) Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. 2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую (т.е. главную, Красную) площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: „Мучительница и душегубица“. 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтоб она ниоткуда света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую (монашескую) подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь». Салтыкова была заключена в Ивановском монастыре; в 1779 году наказание смягчено: ее перевели из подземелья в каменную пристройку к церкви с окном. В 1801 году Салтыкова умерла, и до сих пор еще в народе живет память об ужасной Салтычихе.
Также без пыток особенная комиссия производила дело о ливенском помещике поручике Мишкове, который между прочим обвинен был в четверократной посылке нарядным разбойническим образом крестьян своих, однодворцев и малороссиян в дом однодворца Писарева; в двух приездах и сам он, Мишков, был, грабил пожитки Писарева и дом его совершенно разорил, а самого захватил в дом к себе, и по приказу его Писарев сечен батожьем; потом Мишков приказал однодворцу Пыхтину, беглому, крывшемуся у него крестьянину Никифорову да солдату Медведеву, напоя их пьяными, переломить Писареву обухом ноги, что ими и сделано, а сам Мишков выколол ему глаза сапожным шилом, от чего Писарев чрез девять дней и умер. Приказал однодворцам Жиляеву и Пыхтину живущего в доме его однодворца Енина убить до смерти, что ими исполнено, и проч. Вдова тайного советника Мария Ефремова за смертное убийство крепостной своей девки предана церковному покаянию. Какое было обращение с крестьянами серпейского помещика отставного гвардии поручика Шеншина, неизвестно; только ночью приехали к нему в дом неведомые люди с ружьями и рогатинами, дом разбили, его, жену и старосту умертвили; в этом убийстве оказались собственные крестьяне Шеншина.
В 1768 году казанский губернатор донес об усилившихся в Симбирском уезде разбоях и смертоубийствах, причем представлял о малолюдстве тамошних гарнизонов и надобности прислать еще военных команд. Сенат приказал: хотя и нарядить команды, но они не поспеют, а зимнее время и без команд разбойников разгонит, и потому послал указ губернатору, чтоб они во время их зимнего укрывательства самими обывателями и находящимися там командами были переловлены. Так как видно, что крестьяне и помещичьи служители при нападении разбойников на домы господ и их самих не дают им никакого отпора, несмотря на то что превосходят многолюдством иногда во сто крат, убегая и укрываясь, предают неповинную жизнь господ на жертву свирепости и алчности разбойников, для того обнародовать печатным указом, что если впредь крестьяне и служители, невзирая на свое многолюдство, отпора давать не будут, то без должного за то денежного и телесного наказания не останутся. А чтоб показать первое действие указа, к казанскому губернатору написать, чтоб во всех местах его ведомства, где произошли разбои и смертоубийства, приказать исследовать, и, если где найдется, что крестьяне по одной своей холодности, а иногда и по злости помещиков своих не защищали, в таком случае поступить с виноватыми по законам. Московский главнокомандующий граф Солтыков писал императрице, что в Москве и около нее воровство и разбои сильно умножились.
Мы видели, что депутаты в комиссии об Уложении приписывали разбои беглым крепостным. Мы видели также, что помещики пограничных областей жаловались на бегство крестьян их в остзейские провинции. Но жалобы были обоюдные. Новгородский губернатор Сиверс представил Сенату доклад, что остзейские дворяне жаловались ему на невыдачу им их беглых из Новгородской губернии, преимущественно из Псковской провинции, хотя они точно знают о местах их укрывательства; все затруднение происходит оттого, что беглых без суда взять нельзя, и если беглые из Лифляндии и Эстляндии примут веру греческого исповедания, то их уже к старым помещикам не возвращают, а крепят за кого пожелают из русских. По мнению Сиверса, надобно было бы с обеих сторон выдавать беглых без суда, невзирая на то что приняли греческую веру, ибо в Лифляндии и теперь уже столько построено греческих церквей, что каждому принявшему это исповедание недалеко сходить в город или к полковым церквам.
Сиверс подал Сенату также любопытный доклад о состоянии городов своей губернии: «Город Псков по своему красивому и очень удобному для торговли положению мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения моих чувств о разорении этого города; скажу одно, что он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает тою же чахоткою. Как в одном, так и другом почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось. Во всех городах моей губернии со второй по третью ревизию число жителей умножилось до седьмой, а в некоторых, где порядок и нравы добрые, до пятой и до четвертой части против прежнего; только в Новгороде и Пскове целая треть убыла. В Пскове через 150 лет почти ни одного посадского жителя не останется. Способы к устранению этого зла: 1) увеличение числа купцов переводом их из пригородов; 2) включение в купечество или в цехи всех государственных и экономических крестьян, которыеживут в городе и подгородных слободах; 3) вывод одного полка в другой город, ибо почти невероятно, что в одном месте, где 450 душ купечества, квартируют два пехотных полка; 4) учреждение банка для уничтожения разорительных займов у нарвских контор. Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и я уже третьего года приказал канцелярию из него вывесть в обывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Я нашел изрядную гарнизонную школу, построенную комендантом. Город Остров – сущая деревня, имеет около 120 душ купечества; в воеводском доме только сороки да вороны живут, ни площади, ни лавок не нашел. В Холме я внезапно вошел в соляной амбар и велел считать кули с солью; по запискам значилось в наличности около 7000 пудов, а оказалось только около тысячи, остальные были в раздаче почти всему посаду до священников заимообразно. В Холме более 700 душ, и только один умеет писать. Торопец – лучший город во всей Новгородской губернии. Хотя торопчане имеют дурную славу, что много товаров провозят без пошлины, однако доходы ближних таможен доказывают, что некоторые, и лучшие из них, поступают как добрые люди. Торгуют преимущественно шелковыми товарами, которые закупают на ярмарках в Кенигсберге, Данциге, Бреславле и Лейпциге, а некоторые отправляют лен и пеньку в Петербург. Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник вступившего в город полка занял его как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего никто уже другого каменного дома не заложил. Между воеводскою канцеляриею и магистратом я нашел великие несогласия и в обоих местах более челобитчиков, чем в каком-либо другом городе. Воеводский дом так ветх, что в нем жить нельзя, и канцелярия не лучше. Острога или тюрьмы совсем нет, а колодников ставят попеременно по домам разночинцев взамен постоя, чего нигде я не видал и не слыхал. Ржев Володимеров может спорить с Торопцом, одно худо, что между жителями капитальных людей мало, вредят своей торговле, занимая большие капиталы у англичан и других за весьма высокие проценты. У них великие споры с разночинцами, особливо с пушкарями старых служб и с ямщиками о землях. Вкоренившийся здесь раскол – порок сему городу. Хуже всех городов Белозерск. Я нигде не находил, чтоб магистрат был действительно таким городским опекуном, как в Торжке. Тверскою канцеляриею я был доволен, кроме великого числа колодников; я заметил из ведомостей, что всегда две трети колодников ржевитяне, точно то же и в магистрате. Купцы как сами без воспитания были, так и детей своих теперь не воспитывают. Торговля их производится без всякого порядка, редко с запискою, без книг и почти без счетов. Между ними нет доверия, которое составляет дух коммерции. Главнейший вред купечеству, кажется, от подушного оклада; вместо подушных денег можно положить каждый город в особый оклад одной круглой суммы, а сей оклад собирать с имения и с торгу каждого горожанина. Еще бы сему роду людей дало лучшие мысли, если бы по уголовным делам их от розысков избавить. О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид». Для дворян Сиверс требовал выборной службы в погостах для полицейского надзора, также службы в звании уездных комиссаров. Об упадке дворянских родов вследствие раздела имений Сиверс говорит: «Я был в одной деревне, где в 15 избах крестьянских нашлись 17 помещиков, и весь народ, который я нашел на жнитве хлеба, был благородный».
Относительно духовенства произошло любопытное явление в Тамбове. Тамбовский купец Александр Попов подал в Синод челобитную за рукоприкладством 106 человек, духовных и светских лиц: просили о переводе находившегося прежде в Тамбове и переведенного в Устюг епископа Пахомия опять назад в Тамбов на место нынешнего епископа Феодосия, переведенного из Устюга; и Синод, найдя, что в челобитной не выставлено никакой законной причины, сообщил Сенату, что он сделал определение о духовных лицах, подписавших челобитную, а светских предает на рассмотрение Сената; при этом Синод сообщал, что Пахомий уже переведен из Устюга в Москву за старостию и слабостию. Сенат отрешил от должностей тамбовского, нижнеломовского и верхнеломовского воевод и воеводских товарищей, приложивших руки к челобитной. Епископ Феодосий по этому поводу доносил, что духовенство побуждаемо было к рукоприкладству тамбовским купцом Расторгуевым, который зазывал священников к себе и поил допьяна.
В церкви в описываемое время произошел еще любопытный случай: известный владелец медеплавильных и железных заводов, пожалованный званием директора этих заводов, Петр Осокин записал себя в раскол с женою, двумя малолетними приемышами и с некоторыми дворовыми людьми. Сенат приговорил его к лишению директорского чина и написанию в двойной подушный оклад. Императрица написала на докладе Сената: «Как мне самой в проезд мой по Волге случалось видеть сего человека, который лет 80 от роду и слеп, и хотя весьма добродетельным человеком слывет, но в рассуждении его старости и дряхлости едва ли в совершенной памяти, то надлежит взять от него ответ, знает ли он подлинно о сей записке его в раскол и не воспользовался ли иногда кто его старостью и слепотою; а из того ответа можно будет лучшее заключение сделать о его судьбине».
Сибирский губернатор Денис Чичерин доносил, как производится обращение в христианство иноверцев его губернии: «Проповедники отправлялись сначала на коште и подводах иноверцев, но так как теперь это им запрещено, то они изыскали способ ездить в отдаленные иноверческие жилища на подводах живущих по тракту церковных причетников. К иноверцам, живущим близ города большими деревнями, они не заезжают, и во всю бытность мою ни один из этих жителей не окрещен; стараются они пробраться в отдаленные и дикие места, где проповедуют на русском языке таким людям, которые не слыхивали, как по-русски говорят, и увещевают к крещению всегда тех, у которых больше пожитку видят. Обольстя награждением, напоя пьяных или напугавши, крестят, а как при крещении действуют, того неизвестно. Перекрестя, отъезжают в другие места на лошадях и на издержках новокрещеного, оставив ему написанный на бумаге символ веры, который этот христианин безумно почитает божеством, а что в нем написано, не знает. Через год и больше проповедник возвращается для свидетельства новых христиан, и тут великие привязки делаются. В посты привозят с собою посуду, намазанную молоком или маслом, лошадиные кости, обвиняют в отступничестве от веры христианской, пугают жестокими наказаниями и чрез то грабят бесчеловечно; если же кто не дает, тех берут с собою и на их же подводах и коште, забивши в колодки, везут по другим жилищам. Кто побогаче, к таким в потаенных местах ставят болванов, а потом сами же и сыскивают. Священники этих дел сами решить не могут, отсылают в высший суд, где происходит долголетнее разбирательство. Другой способ к грабительству: придут к новокрещеному и, если узнают, что был покойник и погребен без священника или младенец некрещен, привязываются, зачем долго не крещен, зачем без священника погребен. Тогда как священник по отдаленности только в несколько лет раз может приехать; точно так же и венчаться в церковь ездить не могут, венчаются по домам, а это служит главным источником взяточничества, привязываются, кричат о поругании веры, и, если кто не откупится, должен ехать от 300 до 400 верст. Священник приезжает исповедовать: отец духовный по-инородчески, сын духовный по-русски ни слова не знают, одна только пожива священникам. Этот беспорядок может быть пресечен только определением в сибирскую митрополию человека, который бы мог в эти дела благоразумно вникать, и хотя крещение инородцев должно продолжать, однако в таких только местах, где поблизости церкви есть, и учредить школы для образования священников из инородцев, а в отдаленных местах проповедь и крещение до времени оставить».
Вследствие этого донесения составлена была комиссия из новгородского митрополита Димитрия, псковского епископа Иннокентия и Теплова. Они подали доклад: сменить тобольского митрополита Павла как за нерадение, так и по другим жалобам; избрать нового, лучшего и дать ему от Синода инструкцию относительно проповеди: 1) Слово Божие должно быть проповедуемо из одного Евангелия, деяний и посланий апостольских, не отягощая разума обращенных преданиями св. отец, кроме самых нужнейших, каков символ веры. 2) Три обязанности проповедника: учить, увещевать, напоминать; повеление, угроза и строгое с утеснением взыскание есть насилие совести и злочестие. 3) Не должно давать воли проповедникам ездить, куда захотят. Архиерей сочиняет план страны, где и какие обитают язычники, выбирает проповедников благонравных, особенно некорыстолюбивых, трезвых, разумных и кротких, и распределяет время и места, когда и куда им отправляться. Начинать должно с ближних к городу мест, дабы мало-помалу вера расширялась. Новообращенных не принуждать к таким преданиям церковным, которые могут быть неудобоносимы для непривычных; проповедники должны отдавать отчет архиерею. 4) Проповедник должен иметь вид человека, не по указу присланного, но добровольно пришедшего; проповедники отнюдь не должны прямой веры пополнять суеверием, рассказами о ложных чудесах и откровениях. Проповедники не должны ничего брать, кроме пищи повседневной, и за ту платить. 5) Если проповедник языка инородческого не разумеет, то должен употреблять толмача, а впредь принимать из обращенных в семинарии с тем, чтоб они никогда своего языка не забывали, или лучше и завести учение инородческих языков.
Из восточной степной украйны пришло известие, что киргизы собираются напасть на кочующих около Хивы трухменцев: русское пограничное начальство встревожилось, боясь, чтоб киргизы, переменя намерение, не напали на калмыков, и послало предупредить калмыцкого наместника ханства, послало и в саратовскую контору Опекунства иностранных, боясь за немецкие колонии на луговом берегу Волги. Екатерина написала: «Вовсе сии люди, кои сие пишут, карту не знают: яицкие козаки покрывают калмык, а калмыки поселения – и так по-пустому людей тревожат. Зри карту. Все сие похоже на малороссийские известия, откудова неоднократно рапортовано, что король прусский едет брать непобедимого города Киева».
Самозванство не прекращалось. В 1769 году беглый солдат Мамыкин на дороге в Астрахань разглашал, что Петр III жив, примет опять царство и будет льготить крестьян.
О Петре III толковали и на Астраханской дороге, и около Петербурга. При изложении дела Батурина мы видели, что приговор о нем не был исполнен при Елисавете. При Петре III Сенат хотел сослать его в Нерчинск на работу, но император велел оставить его в Шлюссельбурге и давать лучшее содержание. В 1768 году солдат Сорокин, придя к другому солдату, Ушакову, вынул из кармана две бумажки и говорил: «Я был в Шлюшине (Шлюссельбурге) у одного колодника, который называл себя полковником, у Иоасафа Андреевича Батурина; он отдал мне эти две бумажки и просил, чтоб я одну, маленькую, подал государыне, а другую – Петру Федоровичу, и говорил мне Батурин, что ежели я эти две бумажки подам, то мне будет великое награждение». Ушаков, развернув сперва большую бумажку и увидя, что она писана к бывшему государю, говорил Сорокину: «Пустое, ведь он давно уже умер; ведь ты помнишь, еще мы были в походе, так там это было уже известно, что он подлинно умер». Но Сорокин отвечал: «Нет, брат, Батурин знает планеты; смотря в окошко из казармы на небо, указывал государеву планету и говорил, что он жив и теперь гуляет, а чрез год или два сюда придет». Ушаков взял обе записки и маленькую искал случая подать императрице, случая не находилось, и однажды, подравшись пьяный с хозяином квартиры, выронил обе записки на пол; они были подобраны и представлены куда следовало. Ушаков показал о приведенном разговоре с Сорокиным, а тот прибавил: «Батурин рассказывал караульным, что он хотел Петра Федоровича возвести на престол. Караульные говорили ему: если ты такую услугу Петру Федоровичу оказал, так для чего он тебя, пока жив был, отсюда не освободил? Батурин отвечал: врете вы, государь не умер, а жив, поехал гулять, а меня здесь оставил под видом; я по планетам знаю, что он жив, планету вижу, и увидите, что он года через два в Россию возвратится». Сорокин признался, что взял бумажки от Батурина, чтоб одну подать государыне, а другую Петру Федоровичу, когда тот приедет в Россию. После этих открытий Батурина признали за лучшее удалить в Камчатку; но мы еще должны будем упомянуть о нем впоследствии.
В том же 1768 году лекарь Лебедев донес, что восемнадцатилетний адъютант Опочинин, сын генерал-майора, выдавал себя сыном английского короля и императрицы Елисаветы и составлял заговор свергнуть Екатерину с престола и возвести великого князя Павла Петровича, истребив Орловых, между которыми Екатерина будто бы хочет поделить Россию. Опочинин объявил, что мысль о происхождении внушил ему корнет Батюшков, который говорил: «Сказывала мне покойная бабушка Анна Пребышевская, что когда был здесь английский посол, то в его свите был под именем кавалера посольства сам король английский». Батюшков оговорил конной гвардии берейтора Штейгерса, который будто намеревался с товарищами возвести на престол великого князя, который знает о их намерении чрез Панина: Штейгерс приглашал Батюшкова быть участником заговора и уговаривал приглашать других; Батюшков и пригласил майора Патрикеева и Опочинина. Батюшков, по показанию Опочинина, говорил: «Федор Хитров хотел было свергнуть государыню, да не удалось; сослали его в деревню, да и Захара Григорьича (Чернышева) к этому делу примешали, за что и отставку ему дали, но после, видно, он выправился, и так приняли его в службу по-прежнему; да даром что он выправился, он нашей партии будет, потому что он не Григория Петровича сын, а сын Петра Великого». Батюшков во всем признался. Штейгере все сложил на Батюшкова, который говорил: «Больше мне досадно на графов Орловых, что они не помнят милости отца моего и сестру мою Кропотову выгнали из дворца, а меня против воли моей отставили от службы». Батюшков признался, что первый начал говорить о намерении своем произвести такой же переворот, какой произвели Орловы. Преступление Батюшкова приписано пьянству и умопомешательству, он приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Мангазею с производством ему по 2 копейки в день на содержание, а когда будет в здравом уме, то заставлять работать; Опочинина по молодости лет, также во внимание к раскаянию его и службе отцовской, послать тем же чином в гарнизон на линию.
Глава третья
Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1766, 1767, 1768 годы
Борьба с Польшею за диссидентов. – Разрыв с Турциею. – Сношения с европейскими державами во время этих событий.
В то время как Восточная Россия в лице своих депутатов слушала «Наказ» и рассуждала о средствах улучшать свой быт, народонаселение России Западной с трепетом ожидало окончания борьбы, поднятой в Польше решением той же составительницы «Наказа» не успокаиваться до тех пор, пока русские люди «придут в законное положение по правам и справедливости». Таким образом, и здесь и там задача была одинаковая и разрешалась одновременно, но разными способами.
Мы видели, что диссидентское дело порывало старую связь между русским двором и князьями Чарторыйскими, которые издавна считались главами русской партии в Польше.
2 января 1766 года Репнин писал Панину: «Во время бытности на охоте имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей Чарторыйских и о необходимой нужде, чтоб он наконец старался сам господином быть, а не вечно б в зависимости их остался. О сей материи я столько уже к в. высокоп-ству писал, что стыдно мне почти то же все повторять, видя бесплодность и неосновательность всех чинимых мне королем обещаний; и так не смею я, зная его слабость, и сам веру им подавать, а доношу вам оное не с уверением, что оно исполнится, но более как известие. Его величество в вышепомянутом разговоре меня всячески уверял, что он меры возьмет, дабы из зависимости своих дядьев выйти, и что он уже им самим прямо объявил намерение свое иметь директную переписку во всех воеводствах с главными там живущими знатными людьми, дабы чрез них иметь картину состояния и дел каждой провинции и чтоб к нему прямо адресовались те, которые в провинциальные чины производиться желают, и генерально все, кои от него какую-либо милость получить хотят, а не чрез них бы князей Чарторыйских тех милостей просили, как то по сю пору делается. Сей поступок, конечно бы, вскоре подрыв силе Чарторыйских сделал и партизанов их к королю привлек в надежде получения от него разных милостей, но твердость его в сих случаях так мала, что я не смею надеяться, чтоб он подлинно сей поступок в действие произвел, ибо, по несчастию, он себе в голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит; они ж, имея интерес, его в когтях держат, чтоб самовластными быть, конечно, от сего добровольно не отступят, которое я не оставил его величеству прямо и неоднократно уже доносить. Слабость его столь удивительна, что не узнают его пред тем, как он партикулярным был человеком, и заподлинно мне стороною известно, что сам Ржевуский в крайней конфиденции с удивлением отзывался, что он его пред прежним узнать совсем не может, и если бы думал, что он так слаб будет, то бы присоветовать ему сие высочайшее достоинство на себя не принимать; Ржевуский же стал усерден к нашему высочайшему двору, чтоб не мог более того быть, хотя б действительно и подданный наш был, и в том же самом виде всячески старается и к прусскому королю в доброе поведение здешний двор привесть, дабы здесь всегда потолику с ним в дружбе были, поколику он с нами в дружеских обязательствах находиться будет. И об сем я с королем в разговоре говорил, который утверждал, что король прусский николи благосостояния и некоторого активитета Польше не пожелает; а я ему, напротив, изъяснял, что король прусский на то согласится, если Польша захочет ему доказать, что благосостояние ее ему полезно быть может чрез союз с нею, в котором она по многим вещам ему помощью быть может, все сие, разумеется, поколь и сколько прусский король с нами дружески пребудет. Наконец, и в сем разговоре его в-ство мне обещал все то учинить, что за полезно и нужно России покажется, уверяя, что он, конечно, от нашей системы никогда нимало не отступит. Не знаю, твердо ль останется его в-ство в вышеписаных намерениях. В совершенной его к нам преданности и в его прямодушии я нимало не сомневаюсь и почти за оные отвечать осмеливаюсь, но слабость его против дядьев несказанро велика, а они всегда дела замешивают и замешивать будут, дабы тем навсегда нужными королю быть».
Охлаждением между русским двором и Чарторыйскими хотела пользоваться враждебная фамилии партия и стала заискивать расположения державы, могуществом которой была сокрушена. Великий казначей коронный граф Вессель уверял Репнина, что воевода киевский, епископ краковский, гетман польный, воевода краковский, маршал надворный, коронный и многие другие желают только одного – быть в русской партии независимо от короля, что они не войдут ни в какое обязательство с другими иностранными дворами, если русский двор возьмет их в свое покровительство; но Россия за то должна защищать их твердо и сильно против Чарторыйских, и прежде всего на будущем сейме должна разрушиться генеральная конфедерация, на которую главным образом опирается партия Чарторыйских. Вессель просил Репнина как можно скорее дать ему ответ, чтоб им заранее принять меры к будущим сеймикам, если будут обнадежены русским покровительством. Репнин отвечал ласково, но в общих выражениях, что русский двор никогда не отказывает людям, которые с истинным усердием прибегают к его покровительству, и что правосудие и соблюдение польских прав всегда руководили политикою России; касательно же решительного ответа Репнин просил подождать и дать ему время подумать и снестись с своим двором. Извещая об этом разговоре с Весселем, Репнин писал Панину: «Если паче всякого чаяния найдемся мы в той самой крайности, чтоб особо партию свою собирать независимо от короля, то оное без большой трудности учинить можно будет по великому числу недовольных здешних магнатов и в том случае надобно будет и письменно их обязать, дабы не так легко они, как прежние наши здешние друзья, на все стороны вертелись. Признаюсь же, что с наичувствительнейшим оскорблением о сем cпocoбе говорю, ибо оный нанесет несказанное неудовольствие королю, который, конечно, предан нам, но на сию преданность, по несчастию, считать неможно по чрезмерной его слабости, коей мы столько уже доказательств имели».
Репнин напрасно употребил выражение «паче всякого чаяния ». Необходимость противодействовать Чарторыйским, опираясь на людей, им враждебных, была очевидна для успеха диссидентского дела. Конисский все жил в Варшаве, добиваясь управы; Репнин подал в его пользу два мемориала польскому министерству, что сделал, заметив, что министерство не хочет оказать ему удовлетворения, а виновником этого нежелания оказывался Чарторыйский, канцлер литовский: он настаивал, что в этом деле не нужно издавать королевского универсала, а надобно только разослать министерские письма по униатским епископам, чтоб они не притесняли более греческого исповедания. Но известно было, что подобные письма не имели никакого действия; тот же Чарторыйский сопротивлялся конфирмации привилегий православным. Король, который прежде хотел дать Конисскому полное удовлетворение, стал колебаться.
Ввиду этих колебаний короля, которые в Петербурге приписывались Чарторыйским, Панин писал Репнину, что предложение Потоцких вступить в непосредственную связь с Россиею заслуживает полного внимания; из поступков фамилии нельзя не заключить, что она мало думает об удовлетворении русских требований, особенно по диссидентскому и пограничному делам, что фамилия думает об одном, как бы руководить королем, обращать все в свою пользу и располагать делами по своим мыслям и интересам. Теперь приходит время, когда король может доказать на деле, как далеко он намерен способствовать видам и намерениям императрицы: диссидентское дело, будучи нераздельно соединено с благосостоянием наших единоверных и потому интересуя в высшей степени достоинство ее величества, будет служить нам в этом случае прямым опытом искренности его польского величества или слабости, в которой он останется пред своими дядьями. Если предположить первое, то необходимо предположить разрыв между королем и князьями Чарторыйскими, следовательно, надобно заранее стараться, во-первых, доставить ему другую опору и, во-вторых, показать Чарторыйским, как много они могут потерять, лишась русского покровительства. Если же король останется в руках фамилии, в зависимости от нее, то нам нужно иметь другие орудия, посредством которых можно было бы достигнуть желаемого. «Поэтому, – оканчивал Панин, – рекомендую вам привязать к нашим интересам фамилию Потоцких».
Репнин постоянно толковал о преданности и слабости короля; это могло возбудить подозрение, не оказывает ли сам посол некоторой слабости вследствие своей преданности Станиславу-Августу, и решили на помощь Репнину послать человека, который по своему характеру, казалось, способен был с достаточною силою высказать требования своего двора, и если не заставить короля и Чарторыйских исполнить эти требования, то по крайней мере привести в ясность отношения: то был известный уже нам Сальдерн. Мы познакомились с голштинцем Сальдерном в царствование Петра III, когда он, нося звание конференц-советника, назначен был уполномоченным на Берлинский конгресс по датским делам. В это время он выставлял себя человеком, вполне преданным Пруссии, а после 28 июня 1762 года мы видим его заведывающим голштинскими делами и человеком, очень близким к Панину, который называл его своим другом. Сальдерн умел подделываться к сильным людям, принимая горячо к сердцу их интересы, усваивая и развивая их любимые мысли. Так, он заявил себя пред Паниным горячим поклонником любимых мыслей его о северном аккорде и об уступке Голштинии в пользу короля датского. Но Сальдерн не пренебрегал и другими средствами для приобретения благосклонности сильных людей: так, в письмах к Панину он называл его своим отцом и покровителем, говорил о своей невыразимой радости при виде подписи Панина, о небесном чувстве, какое он испытывал, находясь в присутствии Панина. Но этот человек, как обыкновенно бывает, спешил вознаградить себя, когда был не в присутствии сильного, а сам был сильным; тут он давал всю волю своей раздражительной природе; и люди, обязанные иметь с ним дело, не испытывали в его присутствии небесного чувства.
Сальдерн отправился в Варшаву и от 17 апреля писал Панину, сколько труда принял он, стараясь направить на настоящий путь короля и членов различных партий. Сальдерн выражал надежду, что король по серьезному тону, с каким он, Сальдерн, представил ему страшную будущность, сделается осторожным в своем поведении, постоянным в своих принципах, раз признанных верными, и твердым в их проведении. Король дал ему обещание не даваться в руки своим дядьям, но в то же время признал необходимым обуздывать и своих родных братьев и друзей, которые действуют против Чарторыйских. Сальдерн передавал и ответ Чарторыйских на его представления и требования, делая которые он употреблял то ласку, то угрозы. «Мы до сих пор думали, – говорили Чарторыйские, – что король, будучи молод, нерешителен и недоверчив к своим собственным средствам, нуждается, по крайней мере для внутренних дел, в нас, своих старых друзьях и родственниках, как руководителях, и мы думаем, что такой взгляд наш и справедлив, и умерен, когда мы видим, что король, окружив себя новыми друзьями и молодыми людьми, слепо предался их идеям и советам. Мы часто имели случай противиться людям, которых принципы нам подозрительны и которых советы вредят истинным интересам короля и отечества. Наши лета, наше положение и благоразумие не позволяют нам добиваться презренного титула королевских фаворитов. Пусть он имеет сердечных друзей и фаворитов сколько ему угодно, пусть раздает им места, осыпает богатствами и благодеяниями всякого рода, лишь бы только это было не противно законам; пусть он с ними забавляется: смешно было бы для нас этим оскорбляться. Но когда мы видим, что эти молодые люди ослеплены фавором и поддерживаются средствами, которые они употребляют для возбуждения чувственности и безрассудства короля, то мы считаем своею обязанностью противиться им, хотя нам никогда не приходит в голову образовывать особую партию или отделить свой интерес от истинных интересов короля и нации. Но как скоро мы увидим, что наши представления будут бесполезны и зло так сильно, что будет иметь влияние на настоящее и будущее, то мы готовы покинуть государственную деятельность и оставаться спокойными зрителями. Мы убеждены, что такое решение и такое поведение не может понравиться русскому двору, ибо рано или поздно, и особенно на будущем сейме, вся вина может пасть на нас: интриги и хитрости наших завистников и врагов никогда не перестанут портить дела с целью увеличить обвинения против нас».
Передавая эти речи Чарторыйских, Сальдерн писал: «Если князья захотят искренне удалиться от дел, то найдется средство успеть во всем и без них, хотя это и несколько замедлит дело, но если они захотят удалиться не одни, а увлекут за собою и всех своих сторонников и сделают это вовсе не вовремя и с горечью, то зло будет неминуемо и поведение их испортит все на будущем сейме, как на прошлом сейме испорчено было диссидентское дело, которому они не хотели добросовестно помогать. Мне кажется, надобно теперь их щадить и держать при делах до тех пор, пока не обнаружится их поведение на будущем сейме; если их поведение окажется дурным, то можно будет принять свои меры и предосторожности».
Репнин писал Панину, что пребывание Сальдерна в Варшаве было для него благодеянием, и расхваливал изо всех сил деятельность Сальдерна; но из его слов выходило, что Сальдерн, несмотря на все свое усердие, не мог ничего сделать; поэтому Репнин был вполне оправдан и действительно должен был восхищаться присылкою Сальдерна и его неутомимою деятельностью. «Осмелюсь сказать, – писал Репнин, – что если пребывание Сальдерна не исправит поведения здешнего двора, то уже ничто на свете его не исправит. Не было дня, в который бы он не говорил королю самых резких вещей насчет непоследовательности и слабости его поведения; точно так же поступал он и с князьями Чарторыйскими, чтоб положить предел их безмерному честолюбию и дать им понять, какие печальные следствия будет иметь их неисправимость. Он, подобно мне, льстил себя надеждою, что можно их помирить с королем и его братьями; но это оказалось совершенно невозможным. Г. Сальдерн со всех сторон получил много обещаний и прекрасных слов; время покажет, что из этого выйдет, ибо, зная чрезвычайную слабость короля, я не могу надеяться, чтоб он когда-нибудь сделался тверд, точно так как не могу поручиться, чтоб дядья снова им не овладели».
А между тем король решился прямо действовать в Петербурге мимо Репнина, для чего придумал отправить туда графа Ржевуского, человека, считавшегося совершенно преданным России. Репнин узнал, что Ржевускому предписано домогаться вывода русских войск из польских владений, особенно по настоянию князя Михаила Чарторыйского. Репнин в разговоре с Ржевуским упомянул об этом, не делая вида, что наверное знает об инструкции. Ржевуский признался, что действительно имеет такое повеление. Тогда Репнин с удивленным видом сказал ему, что ведь это противоречит тем мнениям, с которыми и он, Ржевуский, был согласен, именно, что войска нужны для обуздания нации и для побуждения ее к исполнению требований по диссидентскому делу. Ржевуский отвечал, что все это так, но что король делает только вид, не будучи в силах противиться представлениям своего министерства, которое основывается на просьбах, присланных из всех уголков Польши. Репнин писал по этому случаю Панину: «Желая полного успеха на будущем сейме, совершенною надеждою, однако ж, льститься не смею; в случае же неудачи думаю, что нужно будет ввести наши войска в деревни противников нашим намерениям, чтоб уменьшить их гордость, упрямство и кредит в земле, ибо когда партизаны увидят, что шефы их не могли себя оградить от сего поступка, то натурально от них отставать станут, не имея надежды, чтоб они их более себя спасти могли. Я чрез сие разумею двух стариков Чарторыйских, которые одни в нынешних обстоятельствах наши дела сделать и испортить могут, тогда ж уже по обстоятельствам увидим, если дела против желаний наших решатся, каким образом оное исправить, чрезвычайным ли сеймом, новою ли конфедерациею или другим каким образом». Екатерина написала Панину на этом донесении: «Я думаю, что и сих стариков склонить можно действовать по нашим желаниям на будущем сейме; поговорите о сем со мной».
Панин отвечал, что императрица одобряет все сделанное Репниным вместе с Сальдерном, и предписывал Репнину: присматривая с крайнею осторожностью за поступками Чарторыйских и восстановляя по возможности согласие между ними и королевскими креатурами для приближающегося сейма и успеха диссидентского дела, в то же самое время тайно привлекать к себе Потоцких и других противников фамилии ввиду того же диссидентского дела, внушать им по секрету, что так как это дело касается близко славы императрицы и пользы их отечества, то содействием ему они приобретут благоволение императрицы, а следовательно, и могущественное влияние в делах Польши. Потом Панин предписывал не допускать никакого французского министра к сеймовым делам.
Если все усилия с русской стороны клонились к тому, чтоб на будущем сейме провести с успехом диссидентское дело, то не дремали и враги этого дела. Масальские, до сих пор такие ревностные приверженцы России, теперь объявили себя в Литве злыми врагами диссидентов, и Репнин распорядился отправлением к ним офицера с увещанием удержаться, если не хотят подвергнуться каким-нибудь неприятностям. В собственной Польше врагом диссидентского дела явился краковский епископ Солтык, который в письме своем к королю прямо хвалился, что на будущем сейме употребит все усилия, чтоб диссиденты не получили никаких прав. «Я думаю, – писал Репнин Панину в конце июля, – я думаю, что сие ему даром пройти не долженствует, если мы не хотим поляков к дерзости приучить и повод дать слова наши не почитать, не подкрепляя их делами». Репнин просил позволения ввести до сейма русские войска в деревни Солтыка. «Который образец, – писал он, – конечно, приведет в почтение наши здесь требования, и всякий будет остерегаться им перечить, а между тем сие движение войск приблизит их к Варшаве, что и всем будущим в Варшаве на сейме в некоторое обуздание служить станет. Я рассуждаю, что в Литве нужно несколько войска оставить також для образца над Масальскими, если они тоже свои развратные поступки продолжать будут».
Панин отвечал, что императрица соизволила на это представление. При этом Репнину приказывалось прямо объявлять всем, что диссидентское дело нераздельно соединено с благосостоянием республики или с весьма дурными последствиями для тех, которые будут ему препятствовать. Императрица дружбу и доброжелательство свое к существенным польским интересам поставит в зависимость от того положения, в какое будут поставлены диссиденты на сейме. Какие следствия будет иметь препятствие успеху диссидентского дела, это легко можно видеть из того, чему подвергнутся Масальские и Солтык; а если они и единомышленники их не исправятся после этого первого поучения, то могут быть уверены, что на границах стоит 40000 войска, которое тотчас будет введено в Польшу и Литву, расставлено по деревням противников и содержано на их иждивении, потому что императрица считает диссидентское дело интересующим и собственную ее славу, и прямое благо республики и непременно желает достигнуть его успеха всеми возможными способами, даже самыми сильными, дабы истребить препятствия в самом их источнике, т.е. в имениях и лицах тех людей, которые, возбуждая волнения и беспокойства, становятся этим самыми сущими злодеями своего отечества.
Станислав-Август писал совершенно другое Ржевускому в Петербург. «Чем более я думаю, – писал король, – тем более нахожу дурною мысль провести диссидентское дело с помощью оружия. Во-первых, чтоб сделать меру действительною, надобно выставить большое войско; во-вторых, когда дела поведутся таким образом, то они станут для меня семенем Равальяков, а для диссидентов породят Варфоломеевскую ночь… Диссидентское дело трудно, но не невозможно; ради Бога, чтоб не было русского войска в Польше, чтоб не было фраз, доказывающих иностранное господство». В то же время Чарторыйские отправили к Панину письмо, наполненное жалобами на короля и на Репнина. «Признаемся, – писали Чарторыйские, – что с величайшим прискорбием видим мы исчезновение наших лучших надежд, исчезновение средств, дарованных, казалось, провидением для того, чтоб вывести Польшу из глубины зол, в которые она была погружена. Вместо счастливого будущего мы теперь предвидим одну смуту, если король будет окружен постоянно молодежью, которая без опытности и системы руководствуется одними страстями, портя самые важные дела по самым мелким побуждениям, не разбирая средств для приобретения королевской благосклонности, всякими хитростями злоупотребляет ежедневно умом и сердцем короля, раздражает его, делает раздражительным относительно тех, которые могли бы обратить его к постоянной системе. Люди, окружающие короля, никогда бы не посмели действовать так открыто и смело, если б они не льстили себя поддержкою России вследствие публичного, самого явного покровительства и приема, которые оказывает им ежедневно князь-посол, и вследствие удаления, которое он оказывает нам без всякого прикрытия. Мы принуждены вам сказать, что такое поведение князя Репнина перевернуло мысли большей части нашего народа, заставило думать, что одни дружеские связи и забавы вашего племянника не могли бы внушить ему такого пристрастия, если бы политическая система России была этому противна. Перспектива будущего сейма приводит нас в ужас. Императрица, конечно, хочет добра Польше и хочет дать нам доказательства этого желания своего, настаивая на диссидентское дело; ни один образованный поляк вместе с нами не сомневается в важности этого предмета для пользы страны; но подобные дела во всякое время подвержены народным предубеждениям, должны быть ведены искусными руками; тут надобно употреблять не чуждую силу, всегда унизительную для народа, а кротость, искусство приобретать доверие и уважение каждого значительного лица в государстве. Несмотря на наши усилия и намерения императрицы, дело, без сомнения, не удастся, если самые главные пружины кротости и убеждения не будут употреблены искусно и настойчиво. Ни императрица, ни вы не будете свидетелями наших действий, и легко будет нас обвинять за 200 лье. Если люди, идущие к одной цели, не могут устроить между собою точного соглашения и не помогают взаимно друг другу, то при лучших намерениях успех невозможен. Но какое может быть соглашение, когда нет доверия, а доверия к нам нет в сердце князя Репнина, хотя мы не пренебрегли ничем для его приобретения с самого приезда князя сюда. Мы с удовольствием увидали бы возрождение этого доверия благодаря вашим внушениям».
Панин сообщил Репнину копию этого письма и копию ответа своего на него: в самых мягких и красивых выражениях было поставлено Чарторыйским на вид, что императрица имела полное право заподозрить их поведение во время коронационного сейма: иностранные дворы давали знать, что они, Чарторыйские, меньше всего помогали диссидентскому делу, и, действительно, удаление их с сейма подтверждало эти известия. Если князь Репнин примешал сюда еще какую-нибудь личность, то он будет остановлен, но императрица требует, чтоб они содействовали как следует достижению ее целей, а этих целей три: союз России с Польшею, восстановление прав диссидентов и определение границ. На диссидентское дело императрица смотрит как на пробу, по которой она узнает их расположение. Единственное время, в которое это дело может пройти путем кротости, есть время будущего сейма: тут-то они должны показать свою преданность к императрице и к отечеству, содействуя успеху дела мудростью своих советов, своим значением в государстве и своею опытностью. Что же касается определения границ между Россиею и Польшею, то императрица поднимает этот вопрос вовсе не с целью увеличения своих владений, но с тем, чтоб пограничные жители вышли наконец из этого первобытного состояния людей, которые не знают ни что твое, ни что мое, и которые сохраняют свою собственность только путем силы и насилия. Когда границы будут установлены, то ничто не помешает тесному союзу между обоими государствами.
Репнину Панин писал, чтоб он, возвращая Чарторыйским свою доверенность и уверяя их в желании русского двора видеть короля предпочитающим их советы советам молодых людей, стремящихся к достижению своих частных целей, в то же время прямо дал им выразуметь, что императрица видит в короле неумеренное стремление к его собственному интересу, т.е. к некоторому распространению его власти, что будет тревожить людей, любящих свободу, и возбуждать недоверие соседей. Если б возник вопрос об умножении войск республики, то Репнин должен рассуждать пред Чарторыйскими, что они, как старики умные и искусные, должны знать, что увеличение военных сил происходит или во время войны с слабыми соседями, или во время упадка последних; но Польша относительно своих соседей не находится ни в том, ни в другом положении и, конечно, не захочет начать войну с целью увеличения своего войска. Поэтому у нее нет другого средства к возвращению себе силы, кроме союза с державами, которых собственная политическая надобность потребовала бы и ее усиления. Репнин должен был обходиться с Чарторыйскими ласковее, ибо, как ни рассуждать, все же фамилия Чарторыйских должна служить лучшим орудием при успешном окончании наших дел с Польшею: ее главы, канцлер литовский и воевода русский, имеют, бесспорно, больше всех других искусства и средств по своему кредиту; кроме них, не из кого выбрать человека, кому бы можно вверить руководство дел и составление новой партии.
«Конечно, – отвечал Репнин от 21 августа, – содействие князей Чарторыйских на будущем сейме необходимо не потому, чтоб можно было полагаться на их прямодушное усердие, но потому, что кредит их очень велик, и хотя сердце у них дурное, но головы здоровее, чем у кого-либо в этой земле. Изъяснения их к в. высокопр-ству не все справедливы, как, например, насчет королевского поведения. Я вполне согласен, что слабости и порывистости в нем чрезвычайно много, но не могу согласиться, чтоб какое-нибудь, хотя маловажное, дело сделано было без их ведома; что же касается до моих отношений, то, конечно, не одни забавы были причиною моего удаления от них, но их двоедушие и неблагодарность к нашему двору. Поведение их по получении вашего письма не переменилось, все по-прежнему ограничивалось холодною учтивостью: видно, они ожидали, чтоб я сделал первый шаг; я его сделал».
Репнин отправился к воеводе русскому с уверением о возвращении ему доверенности и благоволения императрицы в надежде, что его усердие и преданность будут вполне соответствовать этой милости. Чарторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После взаимных комплиментов приступили к делу. Репнин просил воеводу открыть все способы, которые могут вести к успеху в диссидентском деле; воевода отвечал уверениями в своем усердии, но за успех дела не поручился. «Кто же первый станет говорить об этом на сейме? – спросил Чарторыйский. – Я по крайней мере сделать этого не осмелюсь». Репнина сильно оскорбили эти слова; он указал воеводе на важность следствий неудачи дела и прибавил, что если главные будут остерегаться открыто содействовать успеху дела, то меньшие, конечно, не станут о нем говорить. Чарторыйский отвечал, что все свои границы имеет. Потом Репнин начал говорить о возмутительных разглашениях Масальских, епископа краковского и недавно присоединившегося к нему епископа каменецкого Красинского, спросил, не находит ли он полезным расположить по их деревням русские войска. Чарторыйский отвечал, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит всех от русской стороны и может совершенно разрушить сейм. Чарторыйский прибавил, что, по его мнению, полезно вовсе вывести русские войска во время сейма, ибо потом войска всегда могут возвратиться. Репнин заметил, что так как конфедерация еще существует, то существует и причина, приведшая русские войска в Польшу. Репнин окончил свое донесение об этом разговоре так: «Остается теперь видеть праводушие и усердие их поступков на сейме: и если на оном ласкою и приветствием желанного конца не получим, то, кроме силы, доходить до оного способов уже не остается». Екатерина заметила: «Если они дали ему слово, то сдержат его».
21 августа Репнин писал Панину, что в Великой Польше все главные обещали поддерживать диссидентов, но препятствовали друзья одного из Чарторыйских, епископа познанского; и, когда Репнин стал жаловаться на это воеводе русскому, тот отвечал, что ничего не знает, не получал от брата никаких известий. Репнин оканчивал письмо словами: «Истинно исполнение сего дела столь тяжело, столь запутанно и столь трудно, что я часто в отчаяние прихожу». Екатерина, защищая опять старших Чарторыйских, написала о познанском епископе: «Это дурак, которого братья никогда не в состоянии направить на путь истинный: шуты имеют на него больше влияния».
Репнин писал о Солтыке, что он сносится с иностранными государями, требуя их помощи в диссидентском деле, что по его влиянию на краковском сеймике католическая шляхта выгнала всех диссидентов; а Солтык писал к графу Григ. Григ. Орлову, что он нимало диссидентов не притесняет, но Репнин в разговоре с его поверенным грозил ему, епископу, Сибирью и секвестром его имений. Репнин оправдывался, что никогда ничего подобного не говорил, относительно же диссидентов слался на их депутата Гольца, который отправлялся в Петербург и мог там заявить, что нет несправедливости, какой бы не позволил себе против них епископ краковский, и что ни в одной епархии так свирепо с ними не поступают.
Относительно Чарторыйских Репнина лучше всего оправдала депеша Станислава-Августа к Ржевускому в Петербург. «Вы знаете, – писал король, – что я давно уже и постоянно требовал у дядей своих, чтоб они объяснили мне свои распоряжения относительно сеймиков, из боязни, чтоб их поверенные и мои по незнанию не противодействовали друг другу. Вы были свидетелем, как они всегда отклоняли это объяснение, и вот именно случилось то, чего я боялся: на многих сеймиках выборы произошли двойные. Для меня важно, чтоб г. Панин знал об этом заранее, иначе дядья мои скажут русскому правительству, что дело не удалось вследствие моего нежелания войти с ними в соглашение и дать им достаточно влияния. Для меня и для дел важно, чтоб они узнали от других, а не от меня (т.е. чтоб императрица велела им написать), что Россия будет стараться об ослаблении их влияния как в стране, так и у меня, если они не станут мне помогать и доставлять мне во всем удовольствие, вместо того чтоб мне противодействовать, как теперь. Я вам поручаю это как дело чрезвычайной важности. Попросите г. Панина моим именем, чтоб он это сделал, и как можно скорее; мне бы не хотелось начинать сейма без этого внушения моим дядьям. Князь Репнин обходится теперь с ними как нельзя лучше».
Внушение было сделано. 10 сентября Панин написал Чарторыйским, чтоб они не щадили никакой заботы, никакого труда для успеха диссидентского дела, ибо здесь представляется решительный случай показать им свои намерения. «Не скрою от вас, – писал Панин, – что одно ваше равнодушие в этом деле и в других, относительно которых императрица знает и одобряет расположение короля, уничтожит в принципе все добро, которое ожидалось от революции, и событие, на которое смотрели как на источник счастья для вашего отечества, произведет только ряд неприятностей для него, для короля и лично для вас».
Сделано было внушение Чарторыйским, но должно было также сделать и сильное внушение королю. От 1 сентября Репнин донес, что король прислал к нему проект постановления о диссидентах для будущего сейма, и в этом проекте он, Репнин, нашел много вредных и неприличных вещей, ибо, что в нем говорится в пользу диссидентов, то говорится глухо, в общих выражениях, а противное подробно и ясно выражено; не упомянуто вовсе о диссидентских церквах, о сохранении их навсегда с принадлежащими к ним имениями, с позволением поправлять их и перестраивать; не изъяснены религиозные права, обеспеченные договорами, тогда как здесь надобен ясный закон ввиду ябед со стороны польского католического духовенства и значительной части народа; наконец, в проект внесено, чтоб диссиденты никогда не были допускаемы к правительственным должностям и гражданским чинам. По настоянию Репнина Чарторыйский, канцлер литовский, взялся переделать проект, который, однако, без переделки уже был отправлен в Петербург к Ржевускому для показания Панину. Репнин писал последнему: «Думаю, прожект в некоторое удивление ваше высокопр-ство привел». Следствием этого удивления было письмо Панина к Репнину от 18 сентября. «Поручаю вам, – писал Панин, – дать почувствовать королю, что при тесной дружбе и искренней доверенности государи так между собою не обходятся, как его польское в-ство поступил, что заставляет подозревать желания беспредельные, недостаток искреннего доверия и стремление выигрывать время, проводить нас пестрыми словами и двоякими обнадеживаниями, а между тем достигать только собственных своих односторонних видов. Такое поведение, обнаруживаясь все более и более, может наконец принудить здешний двор разрушить генеральную конфедерацию и соединиться с теми, которые хотят поставить сейм в обыкновенный законный порядок, дабы, уничтоживши на нем большинство голосов, заградить королю все пути усиливать себя далее к нашему предосуждению. Тогда нам удобнее будет составить конфедерацию из диссидентов и чрез нее действовать вооруженною рукою. Новомодные польского двора друзья и приятели именно тут помогут: пока они будут льстить королю и собираться защищать его, мы успеем кончить все и решить навеки жребий наших ложных друзей, которые будут раскаиваться в своей неблагодарности, да поздно. Прусский король крепко у нас домогается прекращения генеральной конфедерации, и потому польский король должен поставить себе за необходимое правило, что, не приведя наших дел к желаемому императрицею концу, нельзя ему и помышлять ни о какой для себя новой пользе, не только стремиться к ней самым делом. Государыня императрица проникает уже все тонкости польского двора; и теперь она чувствительно тронута и оскорблена новою его хитростью, сшитою белыми нитками, ибо в то самое время, когда манили нас надеждою достижения всего желаемого, когда прислан был проект определения на сейме свободного отправления диссидентских религий, не дождавшись ответа императрицы, который один должен был положить меру, захотели озадачить нас другим проектом сеймовой конституции, которая наглым образом, торжественно и навеки отвергает то, о чем ея в-ство больше всего старается. Из такого оскорбительного двоедушия императрица может заключить одно: что хотели предупредить формальное с нашей стороны требование гражданских прав для диссидентов. Надобно вам непременно держаться правила, чтоб до приведения диссидентского дела в полное течение король ничего важного в пользу своих видов получить не мог и, таким образом, до окончания дела оставался у нас в уезде, тем более что теперь и его собственное и дядей его отвращение к восстановлению диссидентов в гражданских правах начинает открываться уже явным образом; но императрица никогда не отступит от этого требования. Старайтесь всеми мерами собрать к себе как можно больше диссидентов, в том числе и из наших единоверных, если между ними есть способные люди; обходясь с лучшими из тех и других откровенно, приготовляйте и ободряйте их надеждою сильного покровительства императрицы, пусть они подадут промеморию королю и сейму, в которой бы как вольные граждане требовали восстановления своих прав».
В Петербурге непременно хотели введения диссидентов в гражданские права; в Варшаве никто не имел никакой надежды достигнуть этого обыкновенным, мирным образом. Король писал Ржевускому: «Приказания, данные Репнину, ввести диссидентов и в законодательную деятельность республики, суть громовые удары для страны и для меня лично. Если есть какая-нибудь человеческая возможность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня одеждою Несса: я сгорю в ней, и конец мой будет ужасен. Ясно предвижу предстоящий мне страшный выбор, если императрица будет настаивать на своих приказаниях: или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если Россия непременно захочет ввести диссидентов в законодательство, то пусть их будет немного, 10 или 12, все же это будет 10 или 12 вождей законно существующей партии, смотрящей на государство и правительство польское как на врага, против которого она должна необходимо и постоянно искать помощи извне. Я знаю, что это дело может мне стоить короны и жизни, я это знаю, но повторяю, что не могу изменить отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать приказания Репнину, что если сейм уступит диссидентам в других их требованиях, но исключит их из законодательства, то чтоб он не двигал войск, находящихся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владения республики. Сила может все – я это знаю; но разве употребляют силу против тех, которых любят, чтоб принудить их к тому, на что они смотрят как на величайшее несчастье. Я не мог решиться написать это прямо императрице; я побоялся, чтоб мое надорванное сердце и чрезвычайное волнение моего духа не внесли в мое письмо таких слов, которые вместо смягчения могли бы раздражить ее. Но вы делайте, что можете. Погибнуть – ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой – ужасно».
Репнин также ужасался. «Повеления, данные по диссидентскому делу, ужасны, – писал он Панину, – истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы, исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно до гражданских диссидентских преимуществ». Но Екатерина не ужаснулась и велела отвечать Станиславу-Августу, что решительно не понимает, каким это образом диссиденты, допущенные к законодательной деятельности, будут вследствие этого более враждебно относиться к государству и правительству польскому, чем относятся теперь; не может понять, каким образом король считает себя изменником отечеству за то, чего требует справедливость, что составит его славу и твердое благо государства. «Если король так смотрит на это дело, – заключила Екатерина, – то мне остается вечное и чувствительное сожаление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств».