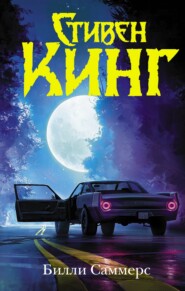По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночная смена (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ведь, читая ужастики, вы же всерьез не верите в написанное. Вы же не верите ни в вампиров, ни в оборотней, ни в грузовики, которые вдруг заводятся сами по себе. Настоящие ужасы, в которые мы верим, – из разряда того, о чем писали Достоевский, Олби и Макдональд. Это ненависть, отчуждение, старение без любви, вступление в непонятный и враждебный мир неуверенной походкой юноши. И мы в своей повседневной реальности часто напоминаем трагедийно-комедийную маску – усмехающуюся снаружи и скорбно опустившую уголки губ внутри. Где-то, безусловно, существует некий центральный пункт переключения, некий трансформатор с проводками, позволяющий соединить эти две маски. И находится он в том самом месте, в том уголке души, куда так хорошо ложатся истории ужасов.
Сочинитель этих историй не слишком отличается от какого-нибудь уэльского «пожирателя» грехов, который, съедая оленя, полагал, что берет тем самым на себя часть грехов животного. Повествование о чудовищах и страхах напоминает корзинку, наполненную разного рода фобиями. И когда вы читаете историю ужасов, то вынимаете один из воображаемых страхов из этой корзинки и заменяете его своим, настоящим – по крайней мере на время.
В начале 50-х киноэкраны Америки захлестнула целая волна фильмов о гигантских насекомых: «Они» («Them!»), «Начало конца» («The Beginning of the End»), «Смертельный богомол» («The Deadly Mantis») и так далее. И почти одновременно с этим вдруг выяснилось: гигантские и безобразные мутанты появились в результате ядерных испытаний в Нью-Мексико или на атолловых островах в Тихом океане (примером может также служить относительно свежий фильм «Ужас на пляже для пирушек» («Horror of Party Beach») по мотивам «Армагеддон под покровом пляжа» («Armageddon Beach Blanket»), где описаны невообразимые ужасы, возникшие после преступного загрязнения местности отходами из ядерных реакторов). И если обобщить все эти фильмы о чудовищных насекомых, возникает довольно целостная картина, некая модель проецирования на экран подспудных страхов, развившихся в американском обществе с момента принятия Манхэттенского проекта[14 - «Манхэттенский проект» – название правительственной научно-промышленной программы создания атомной бомбы, принятой администрацией Рузвельта в 1942 г.]. К концу 50-х на экраны вышел цикл фильмов, повествующих о страхах тинейджеров, начиная с таких эпических лент, как «Тинейджеры из космоса» («Teen-Agers from Outer Space») и «Капля» («The Blob»), в котором безбородый Стив Макквин[15 - Макквин, Стивен (1930–1980) – популярный американский актер кино и театра.] сражается с неким желеобразным мутантом, в чем ему помогают юные друзья. В век, когда почти в каждом еженедельнике публикуется статья о возрастании уровня преступности среди несовершеннолетних, эти фильмы отражают беспокойство и тревогу общества, его страх перед зреющим в среде молодежи бунтом. И когда вы видите, как Майкл Лэндон[16 - Лэндон, Майкл (1931–1991) – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.] вдруг превращается в волка в фирменном кожаном пиджачке высшей школы, то тут же возникает связь между фантазией на экране и подспудным страхом, который испытываете вы при виде какого-нибудь придурка в автомобиле с усиленным двигателем, с которым встречается ваша дочь. Что же касается самих подростков – я тоже был одним из них и знаю по опыту: монстры, порожденные на американских киностудиях, дают им шанс узреть кого-то еще страшней и безобразней, чем их собственное представление о самих себе. Что такое несколько выскочивших, как всегда не на месте и не ко времени, прыщиков в сравнении с неуклюжим созданием, в которое превращается паренек из фильма «Я был молодым Франкенштейном» («I was a Teen-Age Frankenstein»). Те же фильмы отражают и подспудные ощущения подростков, что их все время пытаются вытеснить на задворки жизни, что взрослые к ним несправедливы, что родители их не понимают. Эти ленты символичны – как, впрочем, и вся фантастика, живописующая ужасы, литературная или снятая на пленку – и наиболее наглядно формулируют паранойю целого поколения. Паранойю, вызванную, вне всякого сомнения, всеми этими статьями, что читают родители. В фильмах городу Элмвилль угрожает некое жуткое, покрытое бородавками чудовище. Детишки знают это, потому что видели летающую тарелку, приземлившуюся на лужайке. В первой серии бородавчатый монстр убивает старика, проезжавшего в грузовике (роль старика блистательно исполняет Элиша Кук-младший). В следующих трех сериях дети пытаются убедить взрослых, что чудовище обретается где-то поблизости. «А ну, валите все вон отсюда, пока я не арестовал вас за нарушение комендантского часа!» – рычит на них шериф Элмвилля как раз перед тем, как монстр появится на Главной улице. В конце смышленым ребятишкам все же удается одолеть чудовище, и вот они отправляются отметить это радостное событие в местную кондитерскую, где сосут леденцы, хрустят шоколадками и танцуют джиттербаг[17 - Джиттербаг – быстрый танец с элементами акробатики под музыку свинг или буги-вуги, появился в 20-е гг. ХХ века, был особенно популярен в 40-е гг.] под звуки незабываемой мелодии на титрах.
Подобного рода цикл фильмов предоставляет сразу три возможности для очищения – не столь уж плохо для дешевых, сделанных на живую нитку картин, съемки которых занимают дней десять, не больше. И не случается этого лишь по одной причине – когда писатели, продюсеры и режиссеры хотят, чтобы это случилось. А когда случается, то опять же по одной причине, а именно: при понимании того, что страх, как правило, гнездится в очень тесном пространстве, в той точке, где происходит смычка сознательного и подсознательного, в том месте, где аллегория и образ счастливо и естественно сливаются в единое целое, производя при этом наиболее сильный эффект. Между такими фильмами, как «Я был тинейджером-оборотнем» («I was a Teen-Age Werewolf»), «Механическим апельсином» Стэнли Кубрика, «Монстром-подростком» («Teen-Age Monster») и картиной Брайана Де Пальмы «Кэрри», явно прослеживается прямая эволюционная связь по восходящей.
Великие произведения на тему ужасов всегда аллегоричны; иногда аллегория создается преднамеренно, как, к примеру, в «Звероферме» и «1984»[18 - Романы-антиутопии Джорджа Оруэлла (1903–1950), английского писателя, публициста. «Звероферма» известна отечественному читателю также под названием «Скотный Двор».], иногда возникает случайно – так, к примеру, Джон Рональд Толкин клянется и божится, что, создавая образ Темного Властелина Мордора, вовсе не имел в виду Гитлера в фантастическом обличье, однако, по дружному мнению критиков, добился именно этого эффекта. Подобных примеров можно привести великое множество… возможно, потому, что, по словам Боба Дилана[19 - Дилан, Роберт (р. 1941) – автор и исполнитель фолк-музыки, борец за гражданские права.], когда у вас много ножей и вилок, ими надо что-нибудь резать.
Работы Эдварда Олби, Стейнбека, Камю, Фолкнера – в них тоже идет речь о страхе и смерти. Иногда об этом повествуется с ужасом, но, как правило, писатели «основного потока» описывают все в более традиционной, реалистической манере. Ведь их произведения вставлены в рамки рационального мира – это истории о том, что «могло случиться в действительности». И пролегают они по той линии движения, что проходит через внешний мир. Есть и другие писатели, такие как Джеймс Джойс, тот же Фолкнер, такие поэты, как Сильвия Плат, Т. С. Элиот и Энн Секстон[20 - Элиот, Томас Стерн (1888–1965) – американский поэт, литературный критик, культуролог, лауреат Нобелевской премии по литературе (1948). Секстон, Энн (1828–1974) – американская поэтесса, символистка.], чьи работы принадлежат миру символизма, среде подсознательного. Их генеральное направление пролегает по линии, ведущей «внутрь», живописующей «внутренние» пейзажи. Сочинитель же ужасов почти всегда находится на некоей промежуточной станции между этими двумя направлениями – по крайней мере в том случае, если он последователен. А если он последователен да к тому же еще и талантлив, то мы, читая его книги, вдруг перестаем понимать, грезим ли или видим эти картины наяву; у нас возникает ощущение, что время то растягивается, то стремительно катится куда-то под откос. Мы начинаем слышать чьи-то голоса, но не можем разобрать слов; сны начинают походить на реальность, а реальность протекает словно во сне.
Это очень странное место, удивительная станция. Там находится страшный и загадочный Дом на Холме, и поезда бегают то в одном, то в другом направлении, и двери вагонов плотно закрыты; там в комнате с желтыми обоями ползает по полу женщина и прижимается щекой к еле заметному жирному отпечатку на половице; там обитают человеко-пауки, угрожавшие Фродо и Сэму, и модель Пикмена, и вендиго, и Норман Бейтс со своей ужасной мамашей. На этой остановке нет места яви и снам, есть только голос писателя, приглушенный и ровный, повествующий о том, что порой добротная с виду ткань вещей вдруг начинает расползаться прямо на глазах – с удручающей быстротой и внезапностью. Он внушает вам, что вы хотите видеть автомобильную аварию, и да, он прав – вам хотелось бы. Замогильный голос в телефонной трубке… какое-то шуршание за стенами старого дома… о нет, вряд ли это крысы, какое-то более крупное существо… чьи-то шаги внизу, в подвале, у лестницы… Он хочет, чтобы вы видели и слышали все это. Более того, он хочет, чтобы вы коснулись рукой тела, прикрытого простыней. И вы тоже хотите этого… Да-да, и не вздумайте отрицать!..
Рассказы ужасов должны, как мне кажется, содержать вполне определенный набор элементов, но этого мало. Я твердо убежден в том, что в них должна быть еще одна штука, пожалуй, самая главная. В них должна быть рассказана история, способная заворожить читателя, слушателя или зрителя. Заворожить, заставить забыть обо всем, увести в мир, которого нет и быть не может. Всю свою жизнь я как писатель был убежден в том, что самое главное в прозе – это история. Что именно она доминирует над всеми аспектами литературного мастерства, что тема, настроение, образы – все это не работает, если история скучна. Но если она захватила вас, все остальное начинает работать. И для меня всегда служили в этом смысле образцом произведения Эдгара Райса Берроуза[21 - Берроуз, Эдгар Райс (1875–1950) – американский писатель, автор фантастических и приключенческих романов.]. Хотя его и нельзя, пожалуй, назвать великим писателем, цену хорошо придуманной истории он прекрасно знал. На первой же странице романа «Забытая временем земля» («The Land That Time Forgot») герой, от лица которого ведется повествование, находит в бутылке рукопись. И все остальное содержание сводится к пересказу этой рукописи. И вот какими словами предваряет автор ее чтение: «Прочтите одну страницу, и вы забудете обо мне».
Берроуз честно выполняет свое обещание – многие даже более одаренные писатели на это не способны.
Даже в самом интеллигентном и терпеливом читателе сидит порок, заставляющий всех, в том числе и замечательных писателей, скрежетать зубами: за исключением трех небольших групп людей никто не читает авторского предисловия. Вот исключения: во-первых, близкие родственники писателя (обычно жена и мать); во-вторых, официальные представители писателя (издательские люди, а также разного рода зануды), для которых главное – это убедиться, не оклеветал ли кого-нибудь писатель во время своих скитаний по бурным волнам литературы. И, наконец, люди, которые тем или иным образом помогали писателю. Эти последние хотят знать, не слишком ли много возомнил о себе писатель и не забыл ли случайно, что не один он приложил руку к данному творению.
Остальные же читатели вполне справедливо полагают, что предисловие автора есть не что иное, как большой обман, многостраничная расцвеченная реклама самого себя, еще более назойливая и оскорбительная, чем вставки с рекламой различных сортов сигарет, на которые натыкаешься в середине книжонок в бумажных обложках. Ведь по большей своей части читатели явились посмотреть представление, а не любоваться режиссером, раскланивающимся в свете рампы. И они снова правы.
Итак, позвольте мне откланяться. Скоро начнется представление. И мы войдем в комнату и прикоснемся рукой к укутанному в простыню телу. Но перед тем как распрощаться, я хотел бы отнять у вас еще две-три минуты. И поблагодарить людей из трех вышеупомянутых групп, а также из еще одной, четвертой. Так что уж потерпите немного, пока я говорю эти свои «спасибо».
Спасибо моей жене Табите, лучшему и самому суровому моему критику. Когда ей нравится моя работа, она прямо так и говорит; когда чувствует, что меня, что называется, занесло, тактично и нежно опускает на землю. Спасибо моим детям, Наоми, Джо и Оуэну, которые с необыкновенным для их возраста пониманием и снисхождением относятся к странным занятиям своего папаши в кабинете внизу. Огромное спасибо моей матери, умершей в 1973 году, которой посвящается эта книга. Она всегда оказывала мне поддержку, всегда находила 40–50 центов, чтобы купить конверт, куда затем вкладывала второй, оплаченный и с ее адресом, чтобы избавить сына от излишних хлопот, когда он соберется ответить ей на письмо. И никто на свете, в том числе даже я сам, не радовался больше мамы, когда я, что называется, наконец прорвался.
Из представителей второй группы мне хотелось бы выразить особую благодарность моему издателю Уильяму Дж. Томпсону из «Даблдей энд компани», который был столь терпелив ко мне, который с таким добродушием и неизменной приветливостью отвечал на мои ежедневные настырные звонки. И который проявил такое внимание и доброту несколько лет тому назад к тогда еще неизвестному молодому писателю и не изменил своего отношения до сих пор.
В третью группу входят люди, впервые опубликовавшие мои работы. Это мистер Роберт Э. У. Лоундес, первым купивший у меня два рассказа; это мистер Дуглас Аллен и мистер Най Уиллден из «Дьюджент паблишинг корпорейшн», купившие целую кучу других рассказов, последовавших за публикациями в «Кавалер» и «Джент», – еще в те добрые старые и неторопливые времена, когда чеки приходили вовремя и помогали избежать неприятности, которую энергонадзор стыдливо называет «временным прекращением обслуживания». Хочу также выразить благодарность Илейн Джейджер, Герберту Шнэллу, Кэролайн Стромберг из «Нью америкен лайбрери»; Джерарду Ван дер Льюну из «Пентхауса» и Гаррису Дейнстфри из «Космополитена». Спасибо вам всем.
И, наконец, последняя группа людей, которых бы мне хотелось поблагодарить. Всех вместе и каждого своего читателя в отдельности, не побоявшихся облегчить свой кошелек и купить хотя бы одну из моих книг. Если подумать как следует, то я прежде всего обязан этим людям. Ведь и этой книги без вас не было бы. Огромное спасибо.
Итак, на улице по-прежнему темно и моросит дождь. Но нас ждет увлекательная ночь. Потому как я собираюсь показать вам кое-что. А вы сможете потрогать. Это находится совсем неподалеку, в соседней комнате… Вернее, даже ближе, прямо на следующей странице.
Так в путь?..
Бриджтон, штат Мэн
27 февраля 1977
Иерусалемов Удел
[22 - Jerusalem's Lot. © 2014. С. Лихачева. Перевод с английского.]
2 октября 1850 г.
Дорогой мой Доходяга!
До чего же славно было вступить под промозглые, насквозь продуваемые своды Чейпелуэйта – когда после тряски в треклятой карете ноет каждая косточка, а раздувшийся мочевой пузырь требует немедленного облегчения, – и обнаружить у двери на фривольном столике вишневого дерева письмо, надписанное твоими неподражаемыми каракулями! Даже не сомневайся, что я принялся их разбирать, едва позаботился о нуждах тела (в вычурно изукрашенной холодной уборной на первом этаже, где дыхание мое облачком повисало в воздухе).
Счастлив слышать, что легкие твои очистились от застарелых миазмов, и уверяю, что сочувствую твоей моральной дилемме – как следствию излечения. Недужный аболиционист, исцеленный под солнцем Флориды, этого оплота рабства! Тем не менее, Доходяга, прошу тебя как друг, тоже побывавший в долине теней, – позаботься о себе хорошенько и не смей возвращаться в Массачусетс, пока организм тебе не позволит. Что нам толку в твоем тонком уме и ядовитом пере, коли тело твое обратится во прах; и если южные области для тебя благотворны – есть в этом некая высшая справедливость.
Да, особняк и впрямь роскошен – в точности таков, как убеждали меня душеприказчики моего кузена, – хотя и гораздо более зловещ. Стоит он на громадном мысе милях в трех к северу от Фалмута и в девяти милях к северу от Портленда. Позади него – около четырех акров земли, где царит живописнейшее запустение: тут тебе и можжевельники, и дикий виноград, и кустарники, и всевозможные вьюны захлестывают каменные изгороди, отделяющие усадьбу от городских владений. Кошмарные копии греческих статуй слепо пялятся сквозь обломки и мусор с вершины каждого холмика – того и гляди набросятся на одинокого путника, судя по их виду. Вкусы моего кузена Стивена, похоже, варьировались в самом широком диапазоне – от неприемлемого до откровенно кошмарного. Есть тут одна странноватая беседка, почти утонувшая в зарослях алого сумаха, и гротескные солнечные часы посреди того, что в прошлом, верно, было садом. Этакий завершающий сумасшедший штрих.
Но вид из гостиной с лихвой искупает все: глазам моим открывается головокружительное зрелище – скалы у подножия мыса Чейпелуэйт и самой Атлантики! На всю эту красоту выходит гигантское пузатое окно с выступом, а под ним притулился огромный, похожий на жабу секретер. А ведь отличное начало для романа, о котором я так долго (и наверняка занудно) рассказывал.
Сегодня день выдался пасмурным; случается, что и дождик брызнет. Гляжу в окно – мир словно карандашный эскиз: и скалы, древние и истертые, как само Время, и небо, и, конечно же, море, что обрушивается на гранитные клыки внизу со звуком, который не столько шум, сколько вибрация – даже сейчас, водя пером по бумаге, я ощущаю под ногами колыхание волн. И чувство это не то чтобы неприятно.
Знаю, дорогой Доходяга, ты моего пристрастия к уединению не одобряешь, но уверяю тебя – я доволен и счастлив. Со мной Кэлвин, такой же практичный, молчаливый и надежный, как и всегда; уверен, что уже к середине недели мы с ним на пару приведем в порядок наши дела, договоримся о доставке всего необходимого из города – и залучим к себе отряд уборщиц для борьбы с пылью!
На сем заканчиваю – еще столько всего предстоит посмотреть, столько комнат исследовать – и не сомневаюсь, что для моих слабых глаз судьба заготовила с тысячу образчиков самой отвратительной мебели. Еще раз благодарю за письмо, от которого тотчас же повеяло чем-то родным и близким, – и за твои неизменные внимание и заботу.
Передавай привет жене; нежно люблю вас обоих,
Чарльз.
6 октября 1850 г.
Дорогой мой Доходяга!
Ну здесь и местечко!
Не перестаю на него удивляться – равно как и на реакцию обитателей ближайшей деревеньки по поводу моего приезда. Это своеобразное селение носит впечатляющее название Угол Проповедников. Именно здесь Кэлвин договорился о еженедельной доставке съестных припасов. Позаботился он и о второй нашей насущной потребности, а именно: о подвозе достаточного запаса дров на зиму. Однако ж вернулся Кэл с видом весьма удрученным, а когда я полюбопытствовал, что его гнетет, мрачно ответил:
– Они считают вас сумасшедшим, мистер Бун!
Я рассмеялся и предположил, что здешние жители, должно быть, прослышали, как я переболел воспалением мозга после смерти моей Сары – вне всякого сомнения, в ту пору я вел себя как безумный, чему ты безусловный свидетель.
Но Кэл уверял, что никто обо мне ничего не знает, кроме как через моего кузена Стивена, который договаривался о тех же самых услугах, насчет которых теперь распорядился я.
– Эти люди говорят, сэр, что всяк и каждый, кто поселится в Чейпелуэйте, либо сошел с ума, либо на верном пути к тому.
Можешь себе представить мое глубочайшее недоумение. Я осведомился, от кого именно исходит это потрясающее сообщение. Кэл ответил, что его направили к угрюмому и вечно пьяному лесорубу по имени Томпсон: он владеет четырьмястами акрами соснового, березового и елового леса и с помощью своих пяти сыновей заготавливает и продает древесину на фабрики в Портленд и домовладельцам округи.
Когда же Кэл, ведать не ведая о его странных предрассудках, дал Томпсону адрес, по которому следует доставить дрова, означенный Томпсон вытаращился на него, открыв рот, и наконец сказал, что пошлет с грузом сыновей, белым днем и по прибрежной дороге.
Кэлвин, по всей видимости, неправильно истолковал мою озадаченность и, решив, что я огорчен, поспешил добавить, что от лесоруба за версту несло дешевым виски и что он принялся молоть какую-то чушь про заброшенную деревню и родню кузена Стивена – и про червей! Кэлвин закончил деловые переговоры с одним из сыновей Томпсона – как я понял, этот угрюмый мужлан был тоже не слишком трезв и благоухал отнюдь не розами и лилиями. Я так понимаю, с похожей реакцией Кэл столкнулся и в Углу Проповедников, в сельском магазине, побеседовав с хозяином, хотя этот был скорее из породы сплетников.
Меня все это не слишком-то обеспокоило. Все мы знаем: поселян хлебом не корми, дай разнообразить жизнь ароматами скандала да мифа, а бедолага Стивен и его ветвь семейства, надо думать, к тому весьма располагали. Как я объяснял Кэлу, человек, который разбился насмерть, свалившись едва ли не с собственного крыльца, неизбежно вызовет пересуды.
Сам дом не перестает меня изумлять. Двадцать три комнаты, Доходяга! От панелей на верхних этажах и от портретной галереи веет затхлостью, но разрушение их не коснулось. Войдя в спальню моего покойного кузена на верхнем этаже, я слышал, как за стеной возятся крысы – здоровущие, судя по звукам; прямо подумаешь, что это люди ходят. Не хотелось бы мне столкнуться с одной из таких тварей в темноте – да и при свете дня не хотелось бы, чего уж там. Однако ж я не заметил ни нор, ни помета. Странно.
В верхней галерее рядами висят скверные портреты в рамах, что, должно быть, целое состояние стоят. В некоторых прослеживается сходство со Стивеном – таким, как я его запомнил. Надеюсь, я правильно опознал дядю Генри Буна и его жену Джудит; прочие мне незнакомы. Надо думать, один из них – мой печально известный дед Роберт. Но семейная ветвь Стивена мне совсем неизвестна, о чем я искренне жалею. В этих портретах, пусть и не самого лучшего качества, сияет та же добродушная ирония, которой искрились письма Стивена к нам с Сарой, тот же светлый ум. До чего же глупы эти семейные ссоры! Обшаренный ящик письменного стола, несколько резких слов между братьями, которые вот уже три поколения как в могиле, – и ни в чем не повинные потомки безо всякой нужды разлучены друг с другом. Не могу не задуматься о том, как же мне повезло, что вы с Джоном Питти сумели связаться со Стивеном, когда уже казалось, что я отправлюсь вслед за Сарой под своды Врат, и как же досадно, что несчастный случай лишил нас возможности встретиться лицом к лицу. Многое бы отдал, чтобы послушать, как он станет защищать наследное достояние – эти жуткие скульптуры и мебель!
Но полно мне чернить усадьбу. Вкусы Стивена моим не созвучны, что правда, то правда, но под внешним лоском всех этих нововведений и дополнений встречаются подлинные шедевры (изрядное их количество зачехлено в верхних покоях). Это и столы, и кровати, и тяжелые темные витые орнаменты из тикового и красного дерева; многие спальни и парадные комнаты, верхний кабинет и малая гостиная заключают в себе своеобразное мрачное очарование. Богатый сосновый паркет словно лучится внутренним тайным светом. Ощущается во всем этом спокойное достоинство; достоинство – и бремя лет. Пока еще не могу сказать, что внутреннее убранство мне нравится – но почтение вызывает. Любопытно посмотреть, как все станет преображаться вместе со сменой времен года в этом северном климате.
Надо же, как я разошелся-то! Жду ответа, Доходяга, – и поскорее! Пиши, как ты поправляешься, что нового у Питти и остальных. И, умоляю, не совершай ошибки и не пытайся навязывать свои взгляды новым южным знакомым чересчур настойчиво – я так понимаю, кое-кто из них может одними словами не ограничиться, не то что наш велеречивый друг мистер Колхаун.
Твой любящий друг
Чарльз.
Сочинитель этих историй не слишком отличается от какого-нибудь уэльского «пожирателя» грехов, который, съедая оленя, полагал, что берет тем самым на себя часть грехов животного. Повествование о чудовищах и страхах напоминает корзинку, наполненную разного рода фобиями. И когда вы читаете историю ужасов, то вынимаете один из воображаемых страхов из этой корзинки и заменяете его своим, настоящим – по крайней мере на время.
В начале 50-х киноэкраны Америки захлестнула целая волна фильмов о гигантских насекомых: «Они» («Them!»), «Начало конца» («The Beginning of the End»), «Смертельный богомол» («The Deadly Mantis») и так далее. И почти одновременно с этим вдруг выяснилось: гигантские и безобразные мутанты появились в результате ядерных испытаний в Нью-Мексико или на атолловых островах в Тихом океане (примером может также служить относительно свежий фильм «Ужас на пляже для пирушек» («Horror of Party Beach») по мотивам «Армагеддон под покровом пляжа» («Armageddon Beach Blanket»), где описаны невообразимые ужасы, возникшие после преступного загрязнения местности отходами из ядерных реакторов). И если обобщить все эти фильмы о чудовищных насекомых, возникает довольно целостная картина, некая модель проецирования на экран подспудных страхов, развившихся в американском обществе с момента принятия Манхэттенского проекта[14 - «Манхэттенский проект» – название правительственной научно-промышленной программы создания атомной бомбы, принятой администрацией Рузвельта в 1942 г.]. К концу 50-х на экраны вышел цикл фильмов, повествующих о страхах тинейджеров, начиная с таких эпических лент, как «Тинейджеры из космоса» («Teen-Agers from Outer Space») и «Капля» («The Blob»), в котором безбородый Стив Макквин[15 - Макквин, Стивен (1930–1980) – популярный американский актер кино и театра.] сражается с неким желеобразным мутантом, в чем ему помогают юные друзья. В век, когда почти в каждом еженедельнике публикуется статья о возрастании уровня преступности среди несовершеннолетних, эти фильмы отражают беспокойство и тревогу общества, его страх перед зреющим в среде молодежи бунтом. И когда вы видите, как Майкл Лэндон[16 - Лэндон, Майкл (1931–1991) – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.] вдруг превращается в волка в фирменном кожаном пиджачке высшей школы, то тут же возникает связь между фантазией на экране и подспудным страхом, который испытываете вы при виде какого-нибудь придурка в автомобиле с усиленным двигателем, с которым встречается ваша дочь. Что же касается самих подростков – я тоже был одним из них и знаю по опыту: монстры, порожденные на американских киностудиях, дают им шанс узреть кого-то еще страшней и безобразней, чем их собственное представление о самих себе. Что такое несколько выскочивших, как всегда не на месте и не ко времени, прыщиков в сравнении с неуклюжим созданием, в которое превращается паренек из фильма «Я был молодым Франкенштейном» («I was a Teen-Age Frankenstein»). Те же фильмы отражают и подспудные ощущения подростков, что их все время пытаются вытеснить на задворки жизни, что взрослые к ним несправедливы, что родители их не понимают. Эти ленты символичны – как, впрочем, и вся фантастика, живописующая ужасы, литературная или снятая на пленку – и наиболее наглядно формулируют паранойю целого поколения. Паранойю, вызванную, вне всякого сомнения, всеми этими статьями, что читают родители. В фильмах городу Элмвилль угрожает некое жуткое, покрытое бородавками чудовище. Детишки знают это, потому что видели летающую тарелку, приземлившуюся на лужайке. В первой серии бородавчатый монстр убивает старика, проезжавшего в грузовике (роль старика блистательно исполняет Элиша Кук-младший). В следующих трех сериях дети пытаются убедить взрослых, что чудовище обретается где-то поблизости. «А ну, валите все вон отсюда, пока я не арестовал вас за нарушение комендантского часа!» – рычит на них шериф Элмвилля как раз перед тем, как монстр появится на Главной улице. В конце смышленым ребятишкам все же удается одолеть чудовище, и вот они отправляются отметить это радостное событие в местную кондитерскую, где сосут леденцы, хрустят шоколадками и танцуют джиттербаг[17 - Джиттербаг – быстрый танец с элементами акробатики под музыку свинг или буги-вуги, появился в 20-е гг. ХХ века, был особенно популярен в 40-е гг.] под звуки незабываемой мелодии на титрах.
Подобного рода цикл фильмов предоставляет сразу три возможности для очищения – не столь уж плохо для дешевых, сделанных на живую нитку картин, съемки которых занимают дней десять, не больше. И не случается этого лишь по одной причине – когда писатели, продюсеры и режиссеры хотят, чтобы это случилось. А когда случается, то опять же по одной причине, а именно: при понимании того, что страх, как правило, гнездится в очень тесном пространстве, в той точке, где происходит смычка сознательного и подсознательного, в том месте, где аллегория и образ счастливо и естественно сливаются в единое целое, производя при этом наиболее сильный эффект. Между такими фильмами, как «Я был тинейджером-оборотнем» («I was a Teen-Age Werewolf»), «Механическим апельсином» Стэнли Кубрика, «Монстром-подростком» («Teen-Age Monster») и картиной Брайана Де Пальмы «Кэрри», явно прослеживается прямая эволюционная связь по восходящей.
Великие произведения на тему ужасов всегда аллегоричны; иногда аллегория создается преднамеренно, как, к примеру, в «Звероферме» и «1984»[18 - Романы-антиутопии Джорджа Оруэлла (1903–1950), английского писателя, публициста. «Звероферма» известна отечественному читателю также под названием «Скотный Двор».], иногда возникает случайно – так, к примеру, Джон Рональд Толкин клянется и божится, что, создавая образ Темного Властелина Мордора, вовсе не имел в виду Гитлера в фантастическом обличье, однако, по дружному мнению критиков, добился именно этого эффекта. Подобных примеров можно привести великое множество… возможно, потому, что, по словам Боба Дилана[19 - Дилан, Роберт (р. 1941) – автор и исполнитель фолк-музыки, борец за гражданские права.], когда у вас много ножей и вилок, ими надо что-нибудь резать.
Работы Эдварда Олби, Стейнбека, Камю, Фолкнера – в них тоже идет речь о страхе и смерти. Иногда об этом повествуется с ужасом, но, как правило, писатели «основного потока» описывают все в более традиционной, реалистической манере. Ведь их произведения вставлены в рамки рационального мира – это истории о том, что «могло случиться в действительности». И пролегают они по той линии движения, что проходит через внешний мир. Есть и другие писатели, такие как Джеймс Джойс, тот же Фолкнер, такие поэты, как Сильвия Плат, Т. С. Элиот и Энн Секстон[20 - Элиот, Томас Стерн (1888–1965) – американский поэт, литературный критик, культуролог, лауреат Нобелевской премии по литературе (1948). Секстон, Энн (1828–1974) – американская поэтесса, символистка.], чьи работы принадлежат миру символизма, среде подсознательного. Их генеральное направление пролегает по линии, ведущей «внутрь», живописующей «внутренние» пейзажи. Сочинитель же ужасов почти всегда находится на некоей промежуточной станции между этими двумя направлениями – по крайней мере в том случае, если он последователен. А если он последователен да к тому же еще и талантлив, то мы, читая его книги, вдруг перестаем понимать, грезим ли или видим эти картины наяву; у нас возникает ощущение, что время то растягивается, то стремительно катится куда-то под откос. Мы начинаем слышать чьи-то голоса, но не можем разобрать слов; сны начинают походить на реальность, а реальность протекает словно во сне.
Это очень странное место, удивительная станция. Там находится страшный и загадочный Дом на Холме, и поезда бегают то в одном, то в другом направлении, и двери вагонов плотно закрыты; там в комнате с желтыми обоями ползает по полу женщина и прижимается щекой к еле заметному жирному отпечатку на половице; там обитают человеко-пауки, угрожавшие Фродо и Сэму, и модель Пикмена, и вендиго, и Норман Бейтс со своей ужасной мамашей. На этой остановке нет места яви и снам, есть только голос писателя, приглушенный и ровный, повествующий о том, что порой добротная с виду ткань вещей вдруг начинает расползаться прямо на глазах – с удручающей быстротой и внезапностью. Он внушает вам, что вы хотите видеть автомобильную аварию, и да, он прав – вам хотелось бы. Замогильный голос в телефонной трубке… какое-то шуршание за стенами старого дома… о нет, вряд ли это крысы, какое-то более крупное существо… чьи-то шаги внизу, в подвале, у лестницы… Он хочет, чтобы вы видели и слышали все это. Более того, он хочет, чтобы вы коснулись рукой тела, прикрытого простыней. И вы тоже хотите этого… Да-да, и не вздумайте отрицать!..
Рассказы ужасов должны, как мне кажется, содержать вполне определенный набор элементов, но этого мало. Я твердо убежден в том, что в них должна быть еще одна штука, пожалуй, самая главная. В них должна быть рассказана история, способная заворожить читателя, слушателя или зрителя. Заворожить, заставить забыть обо всем, увести в мир, которого нет и быть не может. Всю свою жизнь я как писатель был убежден в том, что самое главное в прозе – это история. Что именно она доминирует над всеми аспектами литературного мастерства, что тема, настроение, образы – все это не работает, если история скучна. Но если она захватила вас, все остальное начинает работать. И для меня всегда служили в этом смысле образцом произведения Эдгара Райса Берроуза[21 - Берроуз, Эдгар Райс (1875–1950) – американский писатель, автор фантастических и приключенческих романов.]. Хотя его и нельзя, пожалуй, назвать великим писателем, цену хорошо придуманной истории он прекрасно знал. На первой же странице романа «Забытая временем земля» («The Land That Time Forgot») герой, от лица которого ведется повествование, находит в бутылке рукопись. И все остальное содержание сводится к пересказу этой рукописи. И вот какими словами предваряет автор ее чтение: «Прочтите одну страницу, и вы забудете обо мне».
Берроуз честно выполняет свое обещание – многие даже более одаренные писатели на это не способны.
Даже в самом интеллигентном и терпеливом читателе сидит порок, заставляющий всех, в том числе и замечательных писателей, скрежетать зубами: за исключением трех небольших групп людей никто не читает авторского предисловия. Вот исключения: во-первых, близкие родственники писателя (обычно жена и мать); во-вторых, официальные представители писателя (издательские люди, а также разного рода зануды), для которых главное – это убедиться, не оклеветал ли кого-нибудь писатель во время своих скитаний по бурным волнам литературы. И, наконец, люди, которые тем или иным образом помогали писателю. Эти последние хотят знать, не слишком ли много возомнил о себе писатель и не забыл ли случайно, что не один он приложил руку к данному творению.
Остальные же читатели вполне справедливо полагают, что предисловие автора есть не что иное, как большой обман, многостраничная расцвеченная реклама самого себя, еще более назойливая и оскорбительная, чем вставки с рекламой различных сортов сигарет, на которые натыкаешься в середине книжонок в бумажных обложках. Ведь по большей своей части читатели явились посмотреть представление, а не любоваться режиссером, раскланивающимся в свете рампы. И они снова правы.
Итак, позвольте мне откланяться. Скоро начнется представление. И мы войдем в комнату и прикоснемся рукой к укутанному в простыню телу. Но перед тем как распрощаться, я хотел бы отнять у вас еще две-три минуты. И поблагодарить людей из трех вышеупомянутых групп, а также из еще одной, четвертой. Так что уж потерпите немного, пока я говорю эти свои «спасибо».
Спасибо моей жене Табите, лучшему и самому суровому моему критику. Когда ей нравится моя работа, она прямо так и говорит; когда чувствует, что меня, что называется, занесло, тактично и нежно опускает на землю. Спасибо моим детям, Наоми, Джо и Оуэну, которые с необыкновенным для их возраста пониманием и снисхождением относятся к странным занятиям своего папаши в кабинете внизу. Огромное спасибо моей матери, умершей в 1973 году, которой посвящается эта книга. Она всегда оказывала мне поддержку, всегда находила 40–50 центов, чтобы купить конверт, куда затем вкладывала второй, оплаченный и с ее адресом, чтобы избавить сына от излишних хлопот, когда он соберется ответить ей на письмо. И никто на свете, в том числе даже я сам, не радовался больше мамы, когда я, что называется, наконец прорвался.
Из представителей второй группы мне хотелось бы выразить особую благодарность моему издателю Уильяму Дж. Томпсону из «Даблдей энд компани», который был столь терпелив ко мне, который с таким добродушием и неизменной приветливостью отвечал на мои ежедневные настырные звонки. И который проявил такое внимание и доброту несколько лет тому назад к тогда еще неизвестному молодому писателю и не изменил своего отношения до сих пор.
В третью группу входят люди, впервые опубликовавшие мои работы. Это мистер Роберт Э. У. Лоундес, первым купивший у меня два рассказа; это мистер Дуглас Аллен и мистер Най Уиллден из «Дьюджент паблишинг корпорейшн», купившие целую кучу других рассказов, последовавших за публикациями в «Кавалер» и «Джент», – еще в те добрые старые и неторопливые времена, когда чеки приходили вовремя и помогали избежать неприятности, которую энергонадзор стыдливо называет «временным прекращением обслуживания». Хочу также выразить благодарность Илейн Джейджер, Герберту Шнэллу, Кэролайн Стромберг из «Нью америкен лайбрери»; Джерарду Ван дер Льюну из «Пентхауса» и Гаррису Дейнстфри из «Космополитена». Спасибо вам всем.
И, наконец, последняя группа людей, которых бы мне хотелось поблагодарить. Всех вместе и каждого своего читателя в отдельности, не побоявшихся облегчить свой кошелек и купить хотя бы одну из моих книг. Если подумать как следует, то я прежде всего обязан этим людям. Ведь и этой книги без вас не было бы. Огромное спасибо.
Итак, на улице по-прежнему темно и моросит дождь. Но нас ждет увлекательная ночь. Потому как я собираюсь показать вам кое-что. А вы сможете потрогать. Это находится совсем неподалеку, в соседней комнате… Вернее, даже ближе, прямо на следующей странице.
Так в путь?..
Бриджтон, штат Мэн
27 февраля 1977
Иерусалемов Удел
[22 - Jerusalem's Lot. © 2014. С. Лихачева. Перевод с английского.]
2 октября 1850 г.
Дорогой мой Доходяга!
До чего же славно было вступить под промозглые, насквозь продуваемые своды Чейпелуэйта – когда после тряски в треклятой карете ноет каждая косточка, а раздувшийся мочевой пузырь требует немедленного облегчения, – и обнаружить у двери на фривольном столике вишневого дерева письмо, надписанное твоими неподражаемыми каракулями! Даже не сомневайся, что я принялся их разбирать, едва позаботился о нуждах тела (в вычурно изукрашенной холодной уборной на первом этаже, где дыхание мое облачком повисало в воздухе).
Счастлив слышать, что легкие твои очистились от застарелых миазмов, и уверяю, что сочувствую твоей моральной дилемме – как следствию излечения. Недужный аболиционист, исцеленный под солнцем Флориды, этого оплота рабства! Тем не менее, Доходяга, прошу тебя как друг, тоже побывавший в долине теней, – позаботься о себе хорошенько и не смей возвращаться в Массачусетс, пока организм тебе не позволит. Что нам толку в твоем тонком уме и ядовитом пере, коли тело твое обратится во прах; и если южные области для тебя благотворны – есть в этом некая высшая справедливость.
Да, особняк и впрямь роскошен – в точности таков, как убеждали меня душеприказчики моего кузена, – хотя и гораздо более зловещ. Стоит он на громадном мысе милях в трех к северу от Фалмута и в девяти милях к северу от Портленда. Позади него – около четырех акров земли, где царит живописнейшее запустение: тут тебе и можжевельники, и дикий виноград, и кустарники, и всевозможные вьюны захлестывают каменные изгороди, отделяющие усадьбу от городских владений. Кошмарные копии греческих статуй слепо пялятся сквозь обломки и мусор с вершины каждого холмика – того и гляди набросятся на одинокого путника, судя по их виду. Вкусы моего кузена Стивена, похоже, варьировались в самом широком диапазоне – от неприемлемого до откровенно кошмарного. Есть тут одна странноватая беседка, почти утонувшая в зарослях алого сумаха, и гротескные солнечные часы посреди того, что в прошлом, верно, было садом. Этакий завершающий сумасшедший штрих.
Но вид из гостиной с лихвой искупает все: глазам моим открывается головокружительное зрелище – скалы у подножия мыса Чейпелуэйт и самой Атлантики! На всю эту красоту выходит гигантское пузатое окно с выступом, а под ним притулился огромный, похожий на жабу секретер. А ведь отличное начало для романа, о котором я так долго (и наверняка занудно) рассказывал.
Сегодня день выдался пасмурным; случается, что и дождик брызнет. Гляжу в окно – мир словно карандашный эскиз: и скалы, древние и истертые, как само Время, и небо, и, конечно же, море, что обрушивается на гранитные клыки внизу со звуком, который не столько шум, сколько вибрация – даже сейчас, водя пером по бумаге, я ощущаю под ногами колыхание волн. И чувство это не то чтобы неприятно.
Знаю, дорогой Доходяга, ты моего пристрастия к уединению не одобряешь, но уверяю тебя – я доволен и счастлив. Со мной Кэлвин, такой же практичный, молчаливый и надежный, как и всегда; уверен, что уже к середине недели мы с ним на пару приведем в порядок наши дела, договоримся о доставке всего необходимого из города – и залучим к себе отряд уборщиц для борьбы с пылью!
На сем заканчиваю – еще столько всего предстоит посмотреть, столько комнат исследовать – и не сомневаюсь, что для моих слабых глаз судьба заготовила с тысячу образчиков самой отвратительной мебели. Еще раз благодарю за письмо, от которого тотчас же повеяло чем-то родным и близким, – и за твои неизменные внимание и заботу.
Передавай привет жене; нежно люблю вас обоих,
Чарльз.
6 октября 1850 г.
Дорогой мой Доходяга!
Ну здесь и местечко!
Не перестаю на него удивляться – равно как и на реакцию обитателей ближайшей деревеньки по поводу моего приезда. Это своеобразное селение носит впечатляющее название Угол Проповедников. Именно здесь Кэлвин договорился о еженедельной доставке съестных припасов. Позаботился он и о второй нашей насущной потребности, а именно: о подвозе достаточного запаса дров на зиму. Однако ж вернулся Кэл с видом весьма удрученным, а когда я полюбопытствовал, что его гнетет, мрачно ответил:
– Они считают вас сумасшедшим, мистер Бун!
Я рассмеялся и предположил, что здешние жители, должно быть, прослышали, как я переболел воспалением мозга после смерти моей Сары – вне всякого сомнения, в ту пору я вел себя как безумный, чему ты безусловный свидетель.
Но Кэл уверял, что никто обо мне ничего не знает, кроме как через моего кузена Стивена, который договаривался о тех же самых услугах, насчет которых теперь распорядился я.
– Эти люди говорят, сэр, что всяк и каждый, кто поселится в Чейпелуэйте, либо сошел с ума, либо на верном пути к тому.
Можешь себе представить мое глубочайшее недоумение. Я осведомился, от кого именно исходит это потрясающее сообщение. Кэл ответил, что его направили к угрюмому и вечно пьяному лесорубу по имени Томпсон: он владеет четырьмястами акрами соснового, березового и елового леса и с помощью своих пяти сыновей заготавливает и продает древесину на фабрики в Портленд и домовладельцам округи.
Когда же Кэл, ведать не ведая о его странных предрассудках, дал Томпсону адрес, по которому следует доставить дрова, означенный Томпсон вытаращился на него, открыв рот, и наконец сказал, что пошлет с грузом сыновей, белым днем и по прибрежной дороге.
Кэлвин, по всей видимости, неправильно истолковал мою озадаченность и, решив, что я огорчен, поспешил добавить, что от лесоруба за версту несло дешевым виски и что он принялся молоть какую-то чушь про заброшенную деревню и родню кузена Стивена – и про червей! Кэлвин закончил деловые переговоры с одним из сыновей Томпсона – как я понял, этот угрюмый мужлан был тоже не слишком трезв и благоухал отнюдь не розами и лилиями. Я так понимаю, с похожей реакцией Кэл столкнулся и в Углу Проповедников, в сельском магазине, побеседовав с хозяином, хотя этот был скорее из породы сплетников.
Меня все это не слишком-то обеспокоило. Все мы знаем: поселян хлебом не корми, дай разнообразить жизнь ароматами скандала да мифа, а бедолага Стивен и его ветвь семейства, надо думать, к тому весьма располагали. Как я объяснял Кэлу, человек, который разбился насмерть, свалившись едва ли не с собственного крыльца, неизбежно вызовет пересуды.
Сам дом не перестает меня изумлять. Двадцать три комнаты, Доходяга! От панелей на верхних этажах и от портретной галереи веет затхлостью, но разрушение их не коснулось. Войдя в спальню моего покойного кузена на верхнем этаже, я слышал, как за стеной возятся крысы – здоровущие, судя по звукам; прямо подумаешь, что это люди ходят. Не хотелось бы мне столкнуться с одной из таких тварей в темноте – да и при свете дня не хотелось бы, чего уж там. Однако ж я не заметил ни нор, ни помета. Странно.
В верхней галерее рядами висят скверные портреты в рамах, что, должно быть, целое состояние стоят. В некоторых прослеживается сходство со Стивеном – таким, как я его запомнил. Надеюсь, я правильно опознал дядю Генри Буна и его жену Джудит; прочие мне незнакомы. Надо думать, один из них – мой печально известный дед Роберт. Но семейная ветвь Стивена мне совсем неизвестна, о чем я искренне жалею. В этих портретах, пусть и не самого лучшего качества, сияет та же добродушная ирония, которой искрились письма Стивена к нам с Сарой, тот же светлый ум. До чего же глупы эти семейные ссоры! Обшаренный ящик письменного стола, несколько резких слов между братьями, которые вот уже три поколения как в могиле, – и ни в чем не повинные потомки безо всякой нужды разлучены друг с другом. Не могу не задуматься о том, как же мне повезло, что вы с Джоном Питти сумели связаться со Стивеном, когда уже казалось, что я отправлюсь вслед за Сарой под своды Врат, и как же досадно, что несчастный случай лишил нас возможности встретиться лицом к лицу. Многое бы отдал, чтобы послушать, как он станет защищать наследное достояние – эти жуткие скульптуры и мебель!
Но полно мне чернить усадьбу. Вкусы Стивена моим не созвучны, что правда, то правда, но под внешним лоском всех этих нововведений и дополнений встречаются подлинные шедевры (изрядное их количество зачехлено в верхних покоях). Это и столы, и кровати, и тяжелые темные витые орнаменты из тикового и красного дерева; многие спальни и парадные комнаты, верхний кабинет и малая гостиная заключают в себе своеобразное мрачное очарование. Богатый сосновый паркет словно лучится внутренним тайным светом. Ощущается во всем этом спокойное достоинство; достоинство – и бремя лет. Пока еще не могу сказать, что внутреннее убранство мне нравится – но почтение вызывает. Любопытно посмотреть, как все станет преображаться вместе со сменой времен года в этом северном климате.
Надо же, как я разошелся-то! Жду ответа, Доходяга, – и поскорее! Пиши, как ты поправляешься, что нового у Питти и остальных. И, умоляю, не совершай ошибки и не пытайся навязывать свои взгляды новым южным знакомым чересчур настойчиво – я так понимаю, кое-кто из них может одними словами не ограничиться, не то что наш велеречивый друг мистер Колхаун.
Твой любящий друг
Чарльз.