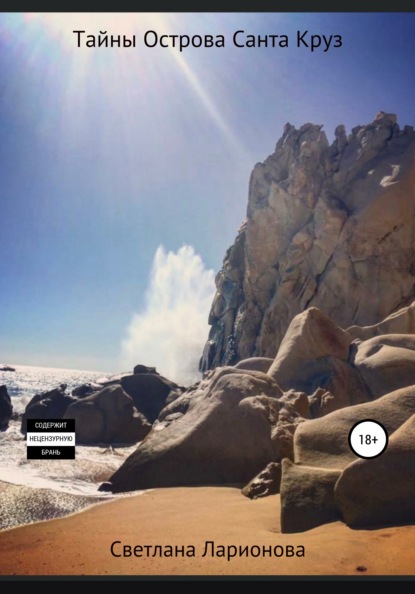По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны Острова Санта Круз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После инструктажа мы все расселись по двухместным байдаркам и прямо около берега стали осваивать навыки правильной гребли. Минут через пятнадцать все уже довольно уверено работали двухлопастным байдарочным веслом, и экскурсия началась. Нам предстояло пройти около двух километров через пролив, отделяющий Ричмонд от острова. Не смотря на то, что холодные волны и ветер придавали проливу суровый вид, грести было легко. Длинная байдарка легко разрезала волну, а течение несло нас со скоростью в три узла в нужном направлении.
–Главное – правильно выбрать время! – кричал мне в спину Дэн, ловко подстраиваясь под мои неумелые гребки. – Течение меняется каждые шесть часов, и назад мы будем двигаться с такой же скоростью, если не быстрее!
Он оказался прав. После экскурсии по заповедному острову, которую устроили специально для нашей группы, мы, перекусив, двинули назад. На этот раз мы шли не только с течением, но и по ветру. Я все более уверенно работала веслом, Дэн сильными синхронными гребками придавал ускорение, и вскоре мы оказались безусловным лидером байдарочной флотилии. Нам с Сережкой так понравилась байдарочная гребля, что, оказавшись в Сакраменто, мы первым делом отправились по поиски магазина с туристическим снаряжением. В тот же вечер во дворе нашего дома красовалась большая двухместная байдарка, и я уже предвкушала настоящие водные турпоходы. Как оказалось, у Сережки были другие планы на эту байдарку. Русская девушка Марина в тот же вечер получила от Сережки эсэмэску с фотографией нашей покупки и приглашением прокатиться на горные озера Сьерра Невады. Судя по счастливому лицу моего сына, Марина приняла приглашение благосклонно.
К концу нашего первого лета я купила еще одну байдарку, на этот раз надувную. Она удобно паковалась в небольшой рюкзак и весила меньше двух килограммов. Байдарка, по моему дизайнерскому замыслу, должен был служить тендером для строящегося «Флибустьера» и переправлять меня с грузом на берег. С этой байдаркой я обычно и приезжала в Ричмонд. В хорошую погоду, когда океанская лазурь залива перемешивалась с высоким безоблачным небом, а теплый песок пляжа под окнами Дэна начинал привлекать любителей позагорать, мы брали байдарки и уходили вдоль берега, -изучать его многочисленные бухточки. Мы устраивали обед где-нибудь на вершине холма, откуда хорошо просматривался весь город. Наш вечер обычно заканчивался в популярном пабе Старого Города. Мы медленно тянули из высоких стаканов темное пиво и делились нашими заветными мечтами. Дэн был первым из друзей, который узнал о моих планах покорения океана. «Флибустьера», тогда еще перевернутого килем вверх, я Дэну показывать не решилась. Подумала, начнутся расспросы, подсказки, пожелания… Сказала ему, что это – мое деревянное сокровище, как Буратино у папы Карло, и пообещала покатать. Он с удовольствием смотрел на фотографии, слушая мой очередной «краткий отчет о проделанной работе» , как-то странно посматривая на меня. Строился «Флибустьер» долго, целых два года, после моих дневных и вечерних смен в больнице. Во время строительства вносились поправки в его дизайн: иногда мне казалось, что «Флибустьер» живой и по ходу дела проектирует себя сам. «Никогда больше не буду лодки строить», – часто жаловалась я Дэну, показывая темные несмывающиеся пятна эпоксидки на своих руках. Он только смеялся.
Со временем мы стали вместе проводить все выходные. Дэн оказался потрясающим другом: ему всегда можно было позвонить, даже пореветь в трубку, когда кого-нибудь из моих пациентов уносила смерть. Иногда, правда, на него накатывали какие-то особые тихие моменты, словно он предавался воспоминаниям. Я тогда думала, что он скучает по своей барышне, и не лезла с расспросами. Когда мы рассекали набережную Ричмонда на велосипедах, я не раз замечала, как при виде молоденьких девчушек в его глазах загорались огоньки обожания. Такое его искренние проявления чувств, этот интерес ко всему прекрасному и молодому вызывал у меня уважение и окончательно развеял мои опасения по поводу потенциального романа.
Здесь я поспешу объясниться. Я совсем даже не против романов. Совсем даже напротив! Замуж я, правда, не хочу, да и затянутые романы начинают меня как-то напрягать. Просто со временем я стала понимать, что даже самые лучшие из лучших мужчин после фразы «давай останемся просто друзьями» способны сгоряча вылить целый ушат нечистот. Увы, после этого на душе неизменно остается отпечаток гадливости… Разочаровываться в Дэне мне не хотелось. И потом, он все еще «отходил» от своей барышни, а я, после продолжительного романа со смертельно нудным и контролирующим каждый мой шаг кавалером, просто радовалась вновь обретенной свободе. Иногда мне кажется, что я всё еще в поиске романтичных героев, а мне просто нужен добропорядочный и увлечённый своим делом человек, который сможет понять и мою увлеченность и даже сможет меня дожидаться во время моих похождений по морям. Моя подружка Лена посмеивается над такими теориями по поводу неудачных романов, но тут же выдаёт свои. Она говорит, что это только мы, пенелопы, как дуры, ждём своих одиссеев, а мужики никого никогда ждать не будут. Еще она говорит, что я «просто не нашла свою половинку». Просто и со вкусом. Возможно, она права. Тогда мне казалось, что Дэн идеально подходил под мою «половинку», но он, конечно, об этом совсем не догадывался.
Вот о Дэне я и подумала, решая, кому на время отдать Мишку. Сережка обещал приехать за ним только через два дня. Я была уверена, что Дэн с радостью отнесется к просьбе взять Мишку к себе и Снору на пару ночей. Огромный общительный пес Дэна был всегда рад компании, а Мишка мог бы её составить. К тому же Ричмонд от Сан-Рафаэля, где стоял мой «Флибустьер», был совсем недалеко, пару остановок на рейсовом автобусе, и я могла навестить моего приёмыша. Машины у меня не было: свою я отдала сыну, а себе что-то поддержанное покупать не хотелось: заботы, платные парковки, бензин… Зачем мне все это, если я отправляюсь в Большое Плаванье? Отсутствие машины, среди прочего, и стало причиной того, что я решилась на работу в тюрьме. Ведь Сан-Квентин находился совсем рядом с мариной, где стоял мой «Флибустьер», – каких-нибудь тридцать минут на велосипеде.
Глава четвертая. Сан-Квентин.
Мужская тюрьма строгого режима Сан-Квентин располагается на полуострове, выдающимся в воды залива Сан -Франциско, и с воды смотрится как старинный бастион. Она была построена в 1852 году, и является самой старой тюрьмой Калифорнии. Про Сан- Квентин снимали фильмы; здесь в свое время побывали многие знаменитые убийцы и насильники. Воришек и хулиганов здесь нет: контингент тюрьмы составляют самые отпетые преступники, приговоренные к смертной казни или пожизненному заключению. Из Сан-Квентина выхода практически нет. Для многих отсюда один выход – на тот свет.
Было пять утра. Я выехала пораньше, чтобы, не дай бог, из-за какой-нибудь глупости типа спущенного колеса не опоздать на первую смену. Я крутила педали своего старенького велосипеда и пыталась представить себе первый день работы. В голову почему-то приходили какие-то совсем удручающие мысли о больницах, и я очень боялась, что не выдержу в Сан-Квентине и одного дня. Единственный опыт работы медсестрой в заведение подобного рода был у меня в Сакраменто, в камерах предварительного заключения, где за смену надо было раздать таблетки и сделать уколы сотни пациентов. Там сидели и совсем молоденькие, несмышленые ребята, спьяну попавшие в драку. Они, как правило, были избитые и притихшие. Сидели и накаченные мужики, недавно вернувшиеся с Афганистана, многие с ПТСР, одуревшие от наркоты.
В камерах «афганцы» были обычно буйными. Они оказывались от прописанных им антидепрессантов и вообще любых таблеток, и мне не раз приходилось вызывать медиков с пожарными на помощь. Пожарные с медиками быстро, группой, заходили в камеру, делали «афганцу» укол и увозили его в госпиталь для военнослужащих. Я этот госпиталь тоже знала неплохо: когда-то и я подрабатывала сиделкой в специальной комнате, где держали обколотых успокоительными бывших военных. Тогда моя задача была предельна проста: не спускать с пациента глаз, не разговаривать и ждать врача. Потом, после медосмотра, пациентов увозили на лифте на самый верхний этаж больницы. Передвигаться самостоятельно им не разрешалось: в сопровождении двух здоровых охранников я должна была везти здоровых мужиков в инвалидной коляске до лифта. В лифт коляску ввозили так, что пациент сидел лицом к стене. На верхнем этаже охранник звонил в затянутую решеткой металлическую дверь. Там пациента передавали с рук на руки, тяжелая дверь за ними закрывалась, и мы спускались на лифте назад , на первый этаж. Очевидно, на верхнем этаже была какая-то специализированная «психушка», про которую никто не хотел распространяться.
Однажды такой «афганец» из обычного положения лицом к стене развернулся в мою сторону, и сказал: «Привет». У него было очень приятное широкое лицо и голубые глаза; он напомнил мне русских ребят. «Привет, как ты?», – ответила я, и немного зашторила застекленную стену: может, пронесет, и никто не увидит, что мы разговариваем. Говорил он не спеша, с большими паузами, явно все еще под действием успокоительных. Я просто слушала; иногда, когда он замолкал, задавала вопрос, подталкивая его к разговору. Постепенно стала вырисовываться его история. После Афгана он, как и многие , прошёл курс реабилитации и сидел на антидепрессантах. Женился. Жена его поддерживала, как могла, и взяла часть кредита на своё имя, чтобы он занялся бизнесом. Обаятельный и общительный по натуре, «афганец» открыл риелторскую контору. Дело продвигалось неплохо, и они вскоре приобрели дорогой дом в хорошем районе, – тоже, разумеется, в кредит, с крупными месячными выплатами. Но наступил экономический кризис. С кризисом как строительный, так и риелторский бизнес пришли в упадок. Банкротство, развод, жена уехала к родителям. Он остался без дома, без машины и без работы. Помаялся, походил по инстанциям, но недолго, – выдержки на такие удары судьбы у него не было. Сел на лавочку и выпил все свои антидепрессивные «колёса». Так как на бомжа он еще не походил и одевался вполне прилично, то кому-то пришло в голову вызвать скорою для спящего на лавочке человека…
Он знал, что его, скорее всего, запрут на некоторое время в психушку, но по дороге к лифту храбрился и даже шутил с охранниками. Он оказался гигантского роста: сидя в кресле-каталке, он был лишь немного ниже меня, в полный рост стоящей рядом с ним. Несмотря на рост, этот человек был слаб, сломлен душевно и физически. Со мной и молодыми веселыми охранниками он чувствовал себя в безопасности и смеялся от души. Было очевидно, что, как только за ним закроется металлическая дверь, он расплачется, как ребенок, и ему опять дадут успокоительное.
Позже, работая медсестрой и имея дело с разного рода психическими отклонениями, я поняла, что правило «не разговаривай с пациентами» имеет под собой вполне объяснимое основание. Подчас, несмотря на спокойное и вежливое обращение, пациенты каждое слово воспринимали как оскорбление, срывались и буквально бросались на медперсонал. Не разговаривать было наилучшим выходом для первичного «пригляда» за пациентом, до обследования специалиста. Если бы моя санитарка позволила себе нарушить это правило, я бы ей непременно поставила на вид. Многие санитарочки – это будущие медсестры и врачи, которые подрабатывают в больнице во время учебы, и за их спинами уже есть курсы психологии и социологии. Тем не менее, этого недостаточно, и в руках буйных обычный карандаш становится оружием.
За работу сиделки мне платили четырнадцать долларов в час. Сейчас, в чине медсестры, я получала в два раза больше, а по контракту вообще платили в три раза больше, хоть и ответственности было хоть отбавляй. После получения лицензии медсестры я обнаружила, что врачебные обходы во многих медучреждениях совершаются не чаще, чем раз-два в месяц. Все остальное время медсестра за главного: осматривает пациентов, делает перевязки, решает, просит ли у врача антибиотик, брать тот или иной анализ, и так далее. Если медсестра вовремя вытрясла у врача антибиотик, и благодаря этому какой-нибудь диабетик не лишился ступни, – это в заслугу не ставиться, ибо сестра просто делает свое дело. А вот если сестренка, не дай бог, проморгала чего-то, провозилась с кем-то другим , – а пациентов бывает по тридцати и больше на душу, – то все, пиши пропало: в лучшем случае наорут и уволят, в худшем, – лицензии медсестры лишат. И, – проверки, проверки, бесконечные проверки. То придут проверять, правильно ли таблетки раздаешь, то посмотрят, как ты там свежие ампутации перевязываешь, и пишут себе что-то, и пишут…
Как-то разговорившись в больнице с русской сиделкой, я узнала, что в Украине она тоже работала медсестрой. Выслушав мои сетования на тяжелую жизнь, она махнула рукой: «О чём ты говоришь?! У нас в Украине даже перчаток не хватает. Того и гляди, СПИД или гепатит подцепишь за мизерную зарплату, – и ту задерживают! Я своим перчатки по почте отправляю, хоть как-то помогаю». На этом мои сетования закончились. Медсестрой, надо сказать, она была очень опытной, и иногда я у неё спрашивала совета. В свою очередь, она просила меня помочь ей с переводом особенно трудных фраз из учебников. Из-за слабого английского она никак не могла решиться сдать экзамен и получить лицензию медсестры в США, поэтому так и работала сиделкой.
… Я поставила замок на велосипед и не спеша подошла к входу. Сан-Квентин встретил меня многочисленными постами. Я показала документы, и охранник вызвонил по рации какую-то Джейн . Джейн оказалась старшей медсестрой. Она пожурила охранника за того, что он не позвонил в администрацию, однако вид у неё был довольный. Похоже было на то, что она радовалась возможности выбраться из недр массивного здания и перекинуться парой слов с охранником. Улыбаясь, она протянула мне руку для пожатия. Джейн мне решительно нравилась. Я давно научилась не доверять коллегам по работе: самые милые и улыбчивые зачастую оказывались организаторами склок и разбирательств «на ковре» у администратора. Но рукопожатие Джейн было по-хорошему крепким. К тому же она тут же сообщила мне, что этот охранник ей нравится до неприличия, и смешно покрутила головой, словно удивляясь самой себе. Я решила, что сторониться мне Джейн, наверное, не стоит, расслабилась и начала улыбаться.
Джейн провела меня по коридорам тюрьмы. Охрана ее знала, и она то и дело перебрасывалась шутками с парнями в форме. Меня откровенно осматривали с ног до головы, спрашивали: «Новенькая? Обещай остаться!» Я немного нервничала и старалась расслабить плечи и не сутулиться. Джейн объяснила мне, что хотя большая часть здания и отремонтирована, но перевязочная старая и протекает: в потолке дыры, и туда затекает вода из душевых, находящихся этажом выше. Я поёжилась:
– А как же инфекция?
Джейн пожала плечами:
– Да вроде закрыли чем-то дыры, но это так, временно. Там девчонки ведра ставят, и ты ставь…
В коридоре за конторкой дежурила крепко сбитая дородная медсестра лет пятидесяти. Она посмотрела на нас и тут же отвернулась, продолжая что-то листать . Её стол был завален медицинскими карточками: шёл ремонт, и стеллажи были отодвинуты от стен. Компьютером тут и не пахло.
– Привет, Кэрол! – сказала Джейн, – Это Дина, наша новенькая в перевязочной.
Кэрол внимательно посмотрела на меня. На ее лице не было и тени косметики. Жидкие рыжеватые волосы были стянуты в тонкую косичку; она сразу напомнила мне хитроватую деревенскую бабу. Я попыталась отогнать от себя негатив и старательно улыбалась.
– Дина? – переспросила она, сощурившись.
– Дайэна, – пояснила я, – Откликаюсь на любой вариант.
Кэрэл смерила меня взглядом с ног до головы и ничего не сказала. Джейн весело фыркнула, оценив мою неудачную попытку растопить лед, пожелала мне удачи и удалилась.
Тюрьма располагалась в старинном здании с высокими потолками и обшарпанными стенами. Впрочем, отремонтированные комнаты смотрелись очень стильно, на европейский манер. В длинных коридорах ярко горели желтые лампочки, освещая входы в огромные блоки, где стояли двухъярусные кровати. В актовом зале работал телевизор; там же заключенные писали статьи в стенгазету и выкладывали заметки для вебсайта «Будни Сан-Квентина». Окна выходили прямо на залив Сан-Франциско. С нашего этажа просматривался широкий двор с тренажерами, но залива видно не было из-за высоких стен с вышками и натянутыми по периметру проводами. В штормовую погоду было слышно, как волны с шумом разбиваются внизу о скалы.
Кэрэл сообщила мне, что работать я буду в основном в перевязочной, а также буду ставить катетеры, брать кровь и ставить капельницы. Таблетки разносить мне не придется, только если надо будет кого-то подменить. Было очевидно, что здесь сестры не любят травмы и поэтому отдают их новеньким. Она и понятно, учитывая эти дыры в потолке. Перевязочные вообще многие медсестры на дух не переносят: ведь часто приходиться сгибаться в две погибели или подолгу сидеть на корточках, обрабатывать да перебинтовывать, когда на тебя с улыбочкой глазеет сверху вниз какой-нибудь детоубийца. А катетеры в мочевой пузырь мужикам ставить – это вообще удовольствие выше крыши…
Поблагодарив Кэрол, я покатила тележку с бинтами и прочим материалом в перевязочную и вдруг с тоской вспомнила солнечный пляж, тревожные глаза Дэна, Мишку, уезжающего в Ричмонд и лающего на меня через стекло машины… Они существовали где-то в совсем другом, параллельном, мире. Мне вдруг показалось, что и я стала узником Сан-Квентина, и на секунду мне стало по-настоящему страшно. Впрочем, к концу рабочего дня я настолько устала, что глупые мысли в голову ко мне больше не приходили. В конце концов, работа эта была временной и оплачивалась хорошо, так что можно было и потерпеть.
Глава пятая. Тюремные тайны
Когда я сообщила Дэну, что собираюсь на работу в Сан-Квентин , он с недоверием уставился на меня, а потом сказал: « Я считаю, что ты совершаешь большую ошибку». Так и сказал, сухо и официально. На все мне объяснения по поводу трех месяцев и хороших денег он не реагировал. Кажется, это был вообще первый раз, когда он меня в чем-то не поддержал. И сейчас мне не хотелось ему ничего рассказывать о своем первом рабочем дне. Да, собственно, и рассказывать –то было нечего. С потолка капало, и ведро с грязной водой я опустошила в туалете в самом конце смены. Тогда же я избавилась от перевязочного мусора. Заключенных приводили небольшими группами, всегда под охраной. С ними наедине я никогда не оставалась. Похоже, медперсонал здесь менялся довольно часто, и заключенные привыкли видеть новые лица. Я с ужасом ожидала скабрезных шуток и свиста, с которым в фильмах встречают «зэки» любое лицо женского пола. Никто не свистел. Правда, я еще не заходила в их огромные переполненные блоки, где стояли десятки двухъярусных кроватей. В основном я оставалась в перевязочной. Одетые в красные комбинезоны пациенты равнодушно заходили в кабинет, разворачивались лицом к стене и садились на кушетку. Раны были разные: от падения, иногда избиений, операционные швы, ампутации. Ко мне же приходили и на процедуры. Отдельного кабинета для процедур не было: шёл ремонт, поэтому за ширмой в углу перевязочной стояли аппараты для ингаляций, УВЧ, а также портативные ЭКГ, УЗИ и куча колбочек и иголок для анализов. В специализированную больницу увозили лишь самых критических пациентов.
Прошел месяц. Я получила зарплату и высчитала, сколько я могу потратить на еду и прочее. Все остальное пошло на банковский накопительный счет, в расчете на то, что скоро я смогу купить вожделенный опреснитель для воды. Работа вошла в свою колею. Пациенты были в основном одни и те же, и, как только я смогла создать себе некое подобие системы, все пошло как по масло. Даже иногда оставалась время поболтать с Джейн. С Кэрол у меня отношения как-то не заладились.
– Она просто тебе завидует, – говорила Джейн.
Я пожимала плечами:
– Чему там завидовать?
– Ну как же? Молодая, красивая, дети большие и вся жизнь впереди…
Насколько я знала, у Кэрол тоже был взрослый сын, но с ним были какие –то проблемы. Похоже, он был не в ладах с законом. Не знаю, какая такая причина могла вызвать её, мягко говоря, безосновательное недружелюбие. Но пока все обходилось без особых эксцессов. Я сохраняла нейтралитет и старалась не вмешиваться в мышиную возню смертельно уставшего медперсонала тюрьмы. Работа и вправду не из легких. Иногда казалось, что постоянное общение с заключенными накладывало неизгладимый отпечаток на медсестер. Казалось , что крепкая стена, возведенная сознанием и отделяющая заключенных от персонала, со временем становиться все прозрачнее. Особенно это было заметно при общении тех служителей тюрьмы, что проработали здесь ни одно десятилетие.
В Сан-Квентине заключенный контингент был постоянный, ибо сроки-то были пожизненные. Вот и получалось, что ежедневно видишь одни и те же лица, замечаешь у пациентов любые перемены в здоровье или в настроение, словно они становятся частью твоей жизни. «Прямо как вторая семья», – шутили медсестры, сами проводящие здесь большую часть своей жизни. А что касается заключенных… Будь ты свободный гражданин или «зэк», но когда дело доходит до уколов, медсестры начинаю делиться на любимых и не очень. Заключенные, как правило, хорошо знают график дежурств и свободно ориентируются во внутренней политике тюрьмы. К концу первого месяца меня совсем не удивляли прощальные фразы типа: «Спасибо, хорошо уколола. Завтра работаешь? Хотя нет, ты завтра выходная». Сестры, как правило, были знакомы с семьями заключенных. Члены семьи обсуждали с медсестрами хронические заболевания пациентов: как правило, следствие наркотиков, алкоголя или травм. Сестры подчас делились своими обширными профессиональными наблюдениями, советовали, входили в положение. Теоретически, такое панибратство было запрещено: при приеме на работу весь персонал подписывал каждую из многих страниц «Кодекса профессионального этикета». На практике же было немного иначе. Если, скажем, мать заключенного, которую ты видишь каждый день в течение многих лет, спрашивает тебя, почему у тебя такое зареванное лицо, тебе «чисто по-человечески» в этот момент совершенно наплевать на любые предписания, и ты выкладываешь ей все, как задушевному другу. Именно на работе, под действием самой атмосферы тюрьмы и стресса, многие так «ломались». Дома было проще: семья, вино, телик и кровать с мягкой подушечкой: лучшее средство от любого стресса. Как выспишься, так все заботы кажутся пустяковыми. А вот на работе, там вот и проверяются нервы на крепость.
В одно утро на внеплановую перевязку ко мне привели высокого худого мужчину. Травма была пустяковая: порезался чем-то острым в спортзале. Мне предстояло стянуть разрезанную на пальце кожу стерильными пластырными полосками и проверять рану каждый день, пока не заживет. Следовало также выяснить, как и чем о порезался, во избежание новых травм. Я вынимала раствор для промывания раны из шкафчика и с облегчением думала, что отсчет администрации о принятых мерах предосторожности в спортзале не должен занять много времени, когда увидела на истории болезни имя потерпевшего: Олег Терехов. «Вот тебе раз, русский» – подумала я, и встретилась с холодным изучающим взглядом пациента.
– Привет, красавица, – растягивая слова, мягко сказал он по-русски . – Давно хотел с тобой побеседовать. Вишь, даже увечье себе нанес, – он пошевелил пальцем, из которого тут же пошла кровь.
Я словно очнулась от столбняка. Остановив кровь, я промыла рану и наложила пластыри.
– Так хотелось увидеть? – спросила я, убирая марлю в шкаф.
– Ну да, – ухмыльнулся он. Усмешка странным образом показалась мне знакомой. Зубы у него были плохие, почти коричневые от чефира. Передний верхний зуб был наполовину сломан. Мне вдруг пришло на ум слово «щербатый», и неприятно кольнуло в сердце. Я откровенно уставилась на Терехова.
– А как же, – продолжал он, – Так ведь не всегда встретишь земляка в этих краях.
– Да ну? – возразила я, – В Калифорнии как раз много русских.
Он осклабился:
– Может быть. Да только с Ёбурга ты одна, красотуля.
Внутри меня похолодело. Ёбург или Екат, – так обычно называли Екатеринбург, когда-то Свердловск, областной центр на Урале. В Екатеринбурге я провела пять лет своей жизни, которых были наполнены бесшабашным студенческим весельем, ночными пирушками и дискотеками. Неустанно крутились на кассетниках песни местных групп, к этому времени временно или насовсем перебравшихся в Питер: Наутилус Помпилиус, Чайф, Агата Кристи… В те времена волосы мои были коротко острижены и выкрашены в красный цвет, а лицо с утра буквально рисовалось: тональный крем, пудра трех оттенков, румяна на скулы и, словно маску – тени на веки и до бровей.
Пожелтевший от папирос палец Терехова снова зашевелился, проверяя, не туго ли я наложила бинт.