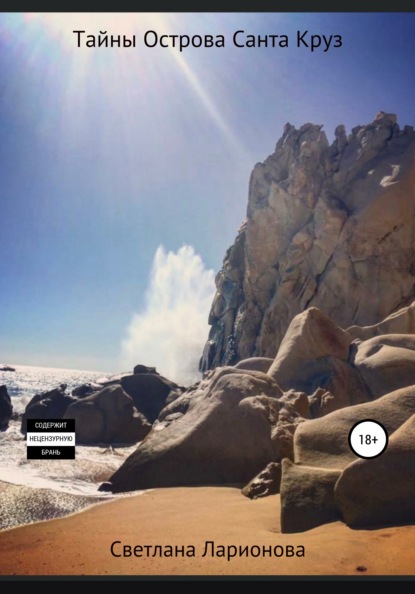По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны Острова Санта Круз
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дина… Ты такая красивая!
Я посмотрела в его глаза: в них светилась нежность. Я поняла, что для него сейчас никого нет, кроме меня. Я легко сжала его ладонь, не отрывая от него своих глаз. Дэн медленно говорил, глядя мне прямо в глаза:
– Ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь. Ты, твои сыновья, «Флибустьер» твой… Ты его при мне построила! Я больше никого не знаю, кто бы построил лодку своими руками, это просто невероятно. Ты – самая необыкновенная, самая интересная женщина на свете! Если бы не ты, я бы давно уехал назад, в Канаду.
Моё сердце ухнуло вниз. На секунду внутри меня взвился голосок: «А как же твоя барышня?!», как вдруг я поняла, раз и навсегда, что барышни больше нет. Она осталась в прошлом, а настоящее – вот оно, держит мои ладони в своих и ласково смотрит на меня. С моей груди разом упали держащие меня крепким обручем поставленные самой себе запреты, и я осознала, что безумно и очень давно люблю эти карие глаза, этот непослушный хохолок на темечке, этот упрямый подбородок… Люблю так, что сейчас моё сердце от радости выпрыгнет из груди, и Дэн это увидит, но я совсем не стесняюсь ему в этом признаться. Я поняла, что во все глаза смотрю на него, упиваясь очертаниями его рта, и молчу. Я выдохнула его имя: «Дэн…» Мы так давно были друзьями, и было так просто строить планы на будущее.
– Покажешь мне когда-нибудь Канаду? – просила я, сжимая его ладони.
– Обязательно покажу, дорогая моя, – улыбался он, и рассказывал: – Мы непременно съездим в Британскую Колумбию, это совсем недалеко от Сиэтла. Тебе понравиться, обещаю! Там серые гранитные скалы над океанским бухточкам в окружении огромных деревьев, и все перевито папоротником и лианами, как в джунглях. Там сыро, и пахнет хвоёй и зверьём. Там бухты глубоко врезаются в берег, они похожи на скандинавские фьорды. А какие там крабы! А потом махнем в Монреаль. Там говорят по-французски, и все напоминает Европу: и реки, и городки, и даже деревни над реками…
Я слушала и представляла себе старинный Монреаль, его площади и церкви. Мне было очень жаль Дэна: он покинул свою красивую родину ради любимой, и у него совсем ничего с ней не вышло…
– Ты знаешь, – призналась я ему, – я очень скучаю по Ялте. Я все время все сравниваю с Крымом, и никак не могу найти что-то подобное по красоте и гармонии. Нет такого побережья здесь… Поэтому я, наверное, никак не могу усидеть на одном месте: мне непременно надо отыскать свою тихую гавань.
– А ты не думала вернуться? – спросил Дэн.
– Ты знаешь, я возвращалась, но я не чувствовала себя как дома. Я, конечно, всегда буду приезжать к родителям в Ялту. Но Ялта поменялась, а я её помню такой, какой она была десять лет назад. Да и я тоже другая, и привычные когда-то мелочи воспринимаются совсем по-другому. И еще я очень скучаю по тому, что остается здесь: по сыновьям, по друзьям. По яркому безоблачному небу, по горам Сьерра Невады, по синим озерам и золотым соснам. Вот и получается, что я подвешена между двумя полушариями…
– Я понимаю, – кивнул Дэн задумчиво, – я тоже иногда думаю, что быть иммигрантом намного тяжелее психологически, чем социально… Ну что ж, придется нам совершать набеги на наши исторические родины, дабы не зачахнуть от ностальгии!
Мы засмеялись, и, весело закончив философствование словами «Бедные мы, бедные!», прикончили бутылку красного. От выпитого вина я расслабилась, и жизнь казалась мне удивительно прекрасной; у меня вообще редко получается так расслабляться. Кажется, это был Бунин, который заявил, что тосковать по родине лучше всего на берегу моря где-нибудь в Италии, под устрицы и вино. Мне всегда казалось, что это подловатое утверждение. Хотя, возможно, его слова просто вытащили из контекста. Весь абсолютно все можно переврать. Да и причем тут вообще Бунин, если во мне самой где-то глубоко засела неизлечимая тоска по родине? Дэн пригласил меня на танец.
Мы легко скользили между столиков, и, сопровождаемые удивленными взглядами , вальсировали во внутренний «итальянский» дворик ресторана. Мерно журчала вода, выбиваемая вверх мраморным фонтаном. На небе появились первые звезды. Ночной бриз приносил теплый воздух с нагретых за день холмов; дурманяще сильно пахло эвкалиптом и можжевельником. Я заворожено уставилась на звезды, как вдруг Дэн наклонился и поцеловал меня в губы. У меня сладко сжалось сердце.
– Останешься сегодня у меня? – спросил он. Его глаза отражали целый небосвод; я не выдержала и счастливо заулыбалась, – до ушей.
Глава девятая. Ночная смена
Девять часов утра. Я лежала на широкой кровати Дэна и смотрела на небольшую фотографию хозяина дома рядом с какой-то красивой девушкой. Они были неуловимо похожи, и я решила, что это, наверное, его сестра. Дэн ласково обнимал девушку за плечи. Рядом с портретом висели мастерски выполненные виды Большого Каньона и водопадов Йосемити. Фотографии висели на стене напротив окна, и на них сейчас падал струящийся из окна свет – видимо, поэтому я их вчера не заметила.
Дэн переехал в новый дом. Без вида на океан, но зато с большой кухней, ванной и двумя спальнями. В «лишнюю» спальню он поместил все своё туристическое снаряжение, и остальные две комнаты смотрелись просто превосходно: ничего лишнего, все подобрано по стилю и цветовой гамме. Накануне вечером Дэн устроил мне небольшую экскурсию по своей новой «холостяцкой берлоге»: плоский экран телевизора, стереосистема, кожаная мебель и огромный торшер с уютным креслом в застекленной нише. В ванне была даже небольшая сауна с влажным паром! Потолки в доме были необычайно высокие; в зале гигантская люстра свисала с балки двускатной крыши, отражаясь миллионом огней в огромных окнах на всю стену. Вчера мы кружились под музыку в этом просторном доме, до изнеможения наслаждаясь волшебством подаренного нам вечера…
Я сладко потянулась и выскользнула с кровати. Около кофеварки на столе лежала записка: «Моя дорогая Дина! Я на работе, у нас аврал, приду в 9 вечера. Яблочный пирог под фольгой. Все было просто чудесно! Целую, твой Дэни». Твой Дэни! Я ласково погладила записку, нашла пирог и поставила вариться кофе.
День прошел быстро. Я пробежалась по тропинкам небольшой гряды холмов над Келлеровским пляжем , окунулась в ледяную океанскую воду и прогрелась в сауне Дэна. Сбегала в магазин, накупила еды и приготовила мясо по-французски. Оповестив Дэна в очередной раз о своей бурной деятельности эсэмэской , я сообщила, что ужин ждет его в духовке, и в самом прекрасном настроении добралась на автобусе до работы.
В ночную смену работали незнакомые мне охранники. Хмуро проверив моё удостоверение, они пропустили меня в здание тюрьмы. Было непривычно тихо. Доносились знакомые звуки телешоу в актовом зале, – через час комендант закроет двери в этот зал, предварительно пройдя с охранником по его периметру. Я посмотрела на записку-шпаргалку, оставленную для меня Барбарой. Она дала мне список людей, которым надо было дать таблетки в определенное время: в полночь, в два часа ночи, в четыре и в шесть утра. Я знала, что в четыре часа утра, собственно, и начинается беготня: кроме многочисленных пациентов с «приёмом только на голодный желудок» лекарств, есть еще много «инсулиновых» диабетиков, а также тех, у кого надо взять кровь на анализ.
Я села за стол, перелистывая толстенную книгу с именами заключенных и названиями предписанных им препаратов. Рассортировав пациентов по времени приема лекарств, я сделала отдельный список диабетиков и «лабораторных». Сейчас у меня было хоть какое-то подобие системы, и все было более или менее понятно, за исключением одного человека – некоего Голдвина. Напротив его имени стояли три буквы: ПБК, и время: 0300. Я понятия не имела, что это значило. Я пролистала «Список принятых в Сан-Квентине сокращений» , и все без результата. «ПБК» нигде не было. Пришлось звонить старшой дежурной медсестре. Я её, скорее всего, разбудила: после шестой трели она наконец-то буркнула в трубку:
– Кэт слушает.
– Прошу прощения, – я вежливо извинилась, – Это Дина, медсестра на первом и втором блоке. Я первый раз здесь на ночной смене, и я не знаю, что это за процедура: пэбэка.
– Пентобарбитал, бромид и калий, – скороговоркой сказала она. – Внутривенно. Все готовишь в кабинете 101, и везешь туда заключенного к трем часам. С охранником, он знает. Ставишь ему капельницу с физраствором . Врач подойдет в и введет лекарства, не вздумай сама вводить. Все поняла?
Да вроде бы все понятно: мне надо сбегать в 101-й кабинет и подготовить лекарства для врача.
– Да. Спасибо, Кэт, – с энтузиазмом сказала я и положила трубку.
Век живи, век учись. Вот теперь узнаю, что такое ПБК. Чем больше опыт, тем ценнее работник. Кэт, конечно, ворчливая, и называет пациентов заключенными, но зато все объяснила как надо.
Раздав лекарства и заранее подготовив шприцы с инсулином, чтобы потом на это не терять время, я отправилась искать 101 кабинет. Очевидно, он находился внизу, потому что «сто» в нумерации кабинетов всегда означало первый этаж. Кабинет отыскался в самом конце коридора. Один из ключей на связке подошёл, и я спешно распахнула дверь. Комната оказалась маленькой и чистой,– её, наверное, только что отремонтировали. Стену напротив кушетки прорезали четыре окна; рядом с кушеткой стоял процедурный столик. Я осмотрелась, и обнаружила в углу стояк для капельницы. В шкафчике лежали только перчатки и рулоны одноразовых клеенок. Лекарства нигде не было.
Закрыв за собой дверь, я бросилась назад на свой этаж. Без двадцати три, а я понятия не имею, где мне взять этот ПБК. Точнее, у меня на посту в шкафчике был только жидкий кальций в коричневой пластмассовой бутылке. На бутылке был знак: « опасность!» в виде черепа и скрещенных костей, и надпись : «Проверь концентрацию раствора!» Ни в холодильнике, ни в ящичках с лекарствами, ни в отдельном ящике с наркотическими препаратами не было ни пентобармитала, ни бромида! И тут меня осенило. Открыв второй, никогда не используемый, ящик для наркотиков, я обнаружила полиэтиленовый пакет с двумя пузырьками для внутривенных инъекций, которые я искала. «Пронесло!» – подумала я . Сверившись с дозой, я выставила пузырьки на передвижной столик, добавив туда иголку с катетером , жгут, капельницу и «бомбу» физраствора. Выхватив из ящичка жидкий калий, я стала втягивать шприцом темную жидкость, и остановилась. Мой лоб покрылся испариной. Во-первых, прописанная концентрация раствора была намного больше обычной. Во-вторых, калий вводят внутривенно только в крайних случаях. Это очень болезненная процедура, и препарат сильно меняет электрическую активность сердца… если только не хотят убить пациента! Неужели?.. В конце концов, это же та самая тюрьма.
У меня засосало под ложечкой. Я все еще надеялась, что я ошибаюсь. Я даже проверила в медицинской карточке годы жизни пациента: не стоит ли там случаем сегодняшнее число в качестве даты смерти. Даты смерти не было. Накрыв столик белоснежным колпаком, я покатила его в комнату 101. «Этого просто не может быть, – думала я, – буднично ввести смертельные препараты? Смертная казнь через капельницу? Это просто нелепо». Полистав медицинскую карточку Голдвина, я нашла запись медсестры: «Получено указание ввести ПБК. Указание внесено в расписание раздачи медикаментов для ночной смены». Все верно, ошибки нет. Вернувшись на этаж с сонным охранником, я вошла в блок и отыскала нужную мне кровать. Она оказалась в третьем ряду слева, на верхней полке. Мне не хватало роста разглядеть лицо лежащего там человека, поэтому я тронула его плечо. Мужчина вздрогнул и послушно свесил вниз руку с браслетом, на котором был нанесен штрих-кодом личный номер.
– Как Ваше имя, сэр? – спросила я лежащего человека. Я никогда не позволяла себе панибратства, даже в тюрьме.
– Голдвин. Артур Голдвин, – голос у него был сиплый; наверное, он много курил.
Проверив сканером имя пациента и сверив его личность с фотографией в медицинской карте, я кивнула охраннику, и тот вывел пациента из блока. Всё по протоколу, трёхразовая идентификация пациента. Повернувшись спиной к сотне лежащих на двухъярусных кроватях людей, я физически почувствовала направленные в нашу сторону взгляды. Ни естественного для трех часов утра покашливания, ни сопения или храпа, – тишина звенела у меня в ушах, набатом отдавалась в ухающем сердце. Тишина прерывалась только шарканьем этого невысокого заключенного в красном комбинезоне, да нашими с охранником шагами. Мы мучительно долго шли по коридору. Это становилось невыносимым. Я решила бежать отсюда, бежать во что бы то ни стало. Сказав охраннику: «Отойду на секунду?», я бросилась в туалет.
Вода струилась по моим голым предплечьям, горошинами скатывалась по пальцам вниз и разбивалась о раковину. Как я вообще оказалась здесь, в этой тюрьме, готовя смертельные препараты между раздачей таблеток и уколами инсулина… Заплаканные глаза с недоверием рассматривали моё отражение в зеркале. Даже если я сейчас уйду, – вдруг поняла я, – это ничего не изменит. Будет накалывать вену другая сестра, врач вот так же введет в капельницу барбитал , и этот мистер Голдвин тут же заснет. Потом ему введут обездвиживающий все тело бромид, и его дыхательная мышца – диафрагма – будет навсегда парализована. К тому времени, когда ему введут калий для остановки сердца, он будет уже мертв – его дыхательная система перестанет функционировать. Он никогда не почувствует невыносимого жжения от того, что концентрированный калий струится по венам к сердцу, превращая его в окаменевший кусок мышцы. Калий – это как последний, контрольный, выстрел. В пять утра официально зафиксируют смерть и оповестят родственников умершего, если таковые имеются. Артура Голдвина не станет.
В туалете висели фотографии знаменитых преступников, отбывших свой пожизненный срок в Сан Квентине: Барбара Грэм[5 - Героиня фильма “I want to live” с Сьюзан Хэйворд в главной роли], Стэнли Туки Уильямс, братья Винсент… Глядя на их черно-белые улыбающиеся лица, я высушила руки и прошла к кабинету 101. Охранник молча посмотрел на моё заплаканное лицо и деликатно отвернулся. Артур Голдвин был закреплен на кушетке при помощи специальных мягких скоб для рук и для ног. Я стянула его бицепс резиновым жгутом. Вена хорошо прорисовалась на изгибе руки. Я дезинфицировала кожу в течение двадцати секунд. по протоколу. . Наколов её с первого раза и закрепив катетер, я пустила капать физраствор. Голдвин неподвижно лежал на кушетке и смотрел на мои руки, выводящие фломастером дату и время на висящем над его головой «бомбе» физраствора, когда в кабинет вошла пожилая женщина в белом халате поверх униформы. Я вздрогнула от неожиданности, прочертив косую линию на качнувшемся баллоне.
– Все нормально, справилась? – буднично спросила она меня, и окинула взглядом столик с препаратами. Очевидно, это была старшая медсестра Кэт. Она кивнула на лежащего на кушетке мужчину и сказала:
– Можешь идти на этаж, я с ним тут побуду.
Я слышала, как быстро стучит моё сердце. Мне до сих пор удавалось не встречаться с Голдвином взглядом. Я развернулась на месте и вышла из кабинета, так и не посмотрев в его глаза.
Глава десятая. Рыбный день
Я встала в пять утра, чтобы с отливом выйти в океан. Мишка бессовестным образом дрыхнул на моем спальнике, пока я варила себе кофе. Оставив кофе остывать на подвесной горелке, я завела мотор и снялась с якоря. Ветра в бухточке «Акватик парка» не было, но отлив скоростью в четыре узла поможет моему моторчику быстро пересечь гладь Залива. Парус был привязан к гику и рейку, готовый в любой момент к ветру.
Сан-Франциско спал. Серые пеналы многоэтажек и заостренные башенки гостиниц оставались слева по борту. «Флибустьер» резво резал волну по направлению к Золотым Воротам. Возвышающаяся справа громада Алькатраса напомнила мне о моих недавних злоключениях: неподвижно лежащий на кушетке Артур Голдвин снился мне всю ночь, и я чувствовала себя совершенно разбитой. К тому же всю ночь я вздрагивала от любого шороха, несмотря на то, что рядом со мной был Мишка. По моей просьбе его из Сакраменто привез Сережка, и мы втроем провели чудесный день, строя планы увидеться в Монтерее. Звонков с угрозами больше не было, и я надеялась, что со временем все как-то прояснится. В конце концов, у меня была целая неделя внеплановых выходных! Стараясь отвлечься, я мысленно прокручивала свой первый отрезок пути до Гавани Полумесяца, что в двадцати милях к югу от Золотых Ворот, и слушала по радио сведения с метеостанции о волнах и ожидаемой на сегодня силе ветра.
Маяк бывшей крепости-тюрьмы на острове Алькатрас каждые пять секунд вспыхивал желтым огнем. В ранний час судов было немного: лишь рейсовый теплоход да рыбацкие баркасы. Баркасы шли за рыбой в прибрежные воды океана, и «Флибустьер» двигался за ними. Наконец-то подул теплый зюйд-ост[6 - Юго-восточный ветер; на побережье Калифорнии обычно ассоциируется с надвигающимся штормом.], принося с собой капельки влаги. Я подняла парус; лодка тут же накренилась на левый борт, радостно выбрасывая кипящую волну из-под форштевня. Заглянула вниз: Мишка соскользнул со спальника вниз, но даже не проснулся.
Устроившись с чашкой кофе в кокпите, я зачаровано смотрела на надвигающуюся громаду Золотых Ворот. Вся энергия рек и Залива неслась сейчас под этим мостом, выходя через узкую горловину и вливаясь в Тихий океан. Позади оставался Ричмонд и Сан-Рафаель. Оставался Дэн, набережная и крутые тропинки холмов, поросших эвкалиптом. Оставался позади и еще по-утреннему прохладный Сакраменто, где в это время должен был ехать на работу Сережка. Я знала: проезжая по мосту над рекой и вглядываясь в белеющие внизу точки лодок, он непременно вспомнит обо мне и пожелает нам с Мишкой счастливого пути.
Я думала о Дэне. После той волшебной ночи мы виделись всего один раз. У нас уволилась медсестра, и я временно, пока не найдут замену, работала по семьдесят часов в неделю. Он тоже много работал, и в итоге мы лишь переписывались эсэмэсками: «У нас по-прежнему аврал, конец месяца», «Думаю о тебе, моё солнышко. Целую, твой Дэни», «Так хочу быть с тобой». Моё сердце нежно сжималось, вспоминая о нём. Я едва сдерживала себя, чтобы не позвонить ему в это раннее утро. Мне хотелось услышать его сонный голос, хотелось сказать: я ухожу в океан на своем маленьком кораблике, помни обо мне, пожалуйста, помни обо мне! Я так тебя люблю, я так нуждаюсь в тебе сейчас! Веришь ли ты в меня, веришь, что сможет «Флибустьер» пройти этот путь, выстоять этот переход?
Под приятным бризом узлов в десять-двенадцать мы шли вдоль берега. Я планировала бросить якорь в рыбацкой деревушке с красивым названием Гавань Полумесяца и провести там ночь. Как только мы отошли от выступающих в океан мысов Бонита и Лобос, образующих пролив Золотые Ворота, ветер стал дуть с северо-запада, наполняя люгер «Флибустьера» и подталкивая нас в нужном направлении. «Флибустьер» накренился и, раскачиваясь на океанских волнах, понесся вдоль побережья. Мишка проснулся и часто задышал, приоткрыв розовый рот. Потом его и вовсе стало тошнить. Весь путь он просидел в кокпите, прижавшись ко мне своим невеликим тельцем, и отказывался от еды и питья. Иногда он поднимал на меня свои желто-зеленые глаза и жалобно поскуливал, жалуясь на тяжелую жизнь. «Терпи, Мишка» – пыталась я его ободрить, – «Станешь настоящим матросом!» От моих утешений Мишка начинал еще больше скулить. Очевидно, перспектива стать матросом в его собачьи планы не входила.
В два часа дня впереди нас на холме показались белые тарелки огромных спутниковых антенн. Это был мыс Столбы – северная оконечность Залива Полумесяца. Знаки «опасность» на карте и навигаторе заставили меня пройти дальше на юг и войти в маркированный буйками канал под углом в девяносто градусов, чтобы избежать мелководья и подводных камней. Было хорошо видно, как волны начинают круто подниматься и разбиваться в мелкие брызги на мелководье довольно далеко от берега. Попасть в такой прибой означало катастрофу. Слышался мерный звон гонга: вход в гавань был похож на лабиринт, и для навигации использовались не только огни, но и колокольный звон.
Мы обогнули гигантский волнорез с маяком на конце, и все сразу стихло. Внутри гавани было очень спокойно. Сильно пахло рыбой. На волнорез и искусственную косу, выдающуюся в залив с другой стороны гавани, был набросан ломаный камень. На белых от птичьих испражнений камнях сидели чайки. Точнее, чайки были везде: на пляже, на зданиях пирса, на буйках. Они кружили вокруг рыбацких судов, оглашая гавань пронзительным криком. Баркасы стояли на приколе, выходили в море, подходили с уловом к причалу. Было много небольших филиппинских лодок, загруженных выше ватерлинии: рыбный бизнес был семейным. Невысокие крепкие мужчины быстро сновали от лодок к разделочным столам на берегу, подавая женщинам мешки с уловом. Те, ловко орудуя длинными филейными ножами, разделывали красного осетра и треску, бросая ненужные куски чайкам. Вся разделка рыбьих тушек происходила прямо у лодок, и отходы филейного производства тут же съедались птицами. Филе рыб промывалось в проточной воде – краны были прикреплены прямо к разделочным столам. Готовая рыба погружалось в пластмассовые ящики и увозилось на продажу. В пригородах Сан-Франциско красная жирная мякоть местного осетра продавалась в цену пятьдесят долларов за килограмм и выше.
Внутри Гавани было жарко. Покрываясь капельками пота, я сбросила куртку-штормовку, свитер и прорезиненные брюки. Ветра совсем не было, и волны мирно накатывали на песчаный пляж. В воде у пляжа играли в прятки морские котики. Местные мальчишки бросали им надувной мяч, и котики тут же в панике прятались под воду. Впрочем, они немедленно выскакивали на поверхность и озорно смотрели на мальчишек своими блестящими черными глазами, словно приглашая продолжить игру…
Бросив якорь недалеко от белого песчаного пляжа, я накачала байдарку. Мишка, не дожидаясь приглашения, тут же в неё запрыгнул. Оказавшись на берегу, Мишка ожил, развеселился, и стал носиться за чайками. Вскоре он нашёл выброшенный на берег кусок кельпа – бурую водоросль с длинными листьями. Листья трепыхались на ветру, как ладошки, и кельп казался ему живым созданием. Мишка атаковал водоросль слева и справа, а потом, закусив стебель, как удила, бросился с ним вдоль прибоя, изображая из себя скаковую лошадь. На берегу моему щенку было намного лучше, чем на борту движущегося «Флибустьера».
Мы прогулялись до деловитой толкучки рыбаков на берегу. Я подошла поближе и попросила филиппинскую женщину продать нам немного рыбы на ужин. Она посмотрела на мужа и что-то быстро ему сказала. В итоге переговоров мы получили большой кусок красной рыбы. Вечером я испекла тонкие лепешки и завернула в них сочные кусочки осетра, предварительно поджаренные с луком, помидорами и зеленью. Мы наелись так, что наши животы стали округло выпирать. Пришлось Мишку снова вести на берег – пройтись по кустикам после такого обильного ужина. В течение дня я ни разу и не вспомнила ни о Сан-Квентине, ни о странных телефонных звонках. Мы улеглись спать в девять вечера и заснули крепким морским сном.