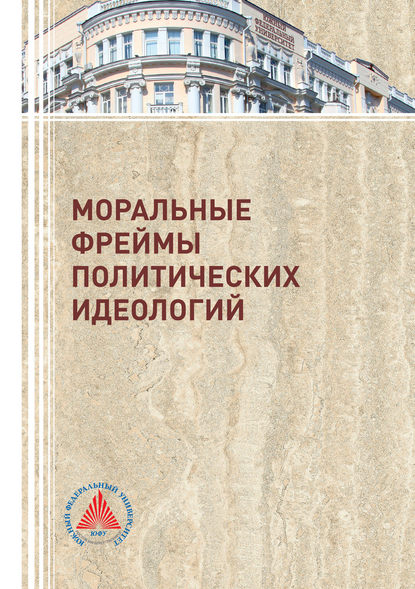По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моральные фреймы политических идеологий
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Автор соответствующей главы («Критика либеральной концепции моральной нейтральности в коммунитаризме»), М. С. Константинов, рассматривает обе стороны дискуссии коммунитаристов и либералов в контексте идеологических отношений «мы» – «они». В этом контексте «либералы» представлены в качестве носителей ключевых концептов свободы, права и справедливости, которым «коммунитаристы» противопоставили концепты сообщества, блага и добродетели. «Либеральный индивид» характеризуется фреймами неисторичности, абстрактной и инструментальной рациональности, асоциальности и субъективизмом в моральных суждениях. «Коммунитарная личность», напротив, исторически конкретна, ее ценности, цели и идентичность социально обусловлены, поэтому ей приписываются фреймы гражданственности, ответственности за дела сообщества, взаимного уважения, привязанности, дружбы, доброжелательности и т. д. По мнению автора, особенно ярко мотивирующая функция моральных фреймов проявилась в политической версии коммунитаризма, а именно в проекте «хорошего общества» (the good society) А. Этциони. Этот концепт амбивалентен: для реализации такого общества необходимо моральное воспитание его представителей и, наоборот, «хорошее общество» воспитывает в индивидах нужные добродетели посредством публичного обсуждения моральных стандартов, вовлечения в гражданскую жизнь, в процессы принятия общественно значимых решений, участия в делах сообщества и т. д. Тем самым «хорошее общество» это не только политический проект, который нужно воплотить в жизнь, но и условие воспитания «хорошего гражданина».
* * *
Почему создатель советской водородной бомбы становится главным советским пацифистом-диссидентом, всевластный глава авторитарной империи – инициатором ее разрушения и политическим парией в собственной стране, а хорошо оплачиваемый топ-агент самой могущественной на земле спецслужбы – ее громким разоблачителем с перспективой смертной казни у себя на родине? Во всех этих случаях соображения выгоды или имиджа вряд ли являются главным мотивом. Скорее, таковым выступают этические соображения конкретных лиц, приверженных определенной идеологии. Моральные решения личностей – это самое опасное «оружие» на земле. Ведь если эти решения принимаются в моральной ситуации людьми с соответствующими ресурсами или принимаются массой обычных людей (как в случае массового героизма), тогда они могут иметь самые серьезные социальные последствия, которые никто и никогда не сможет ни точно предсказать, ни тем более предотвратить.
Раздел 1
Основные подходы к проблеме отношения морали и политики
Глава 1. Нормативистский подход: идеально значимые ценности политической морали
(перевод главы 2. ?ber das Verh?ltnis von Moral und Politik из книги: H?sle V. Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik f?r das 21. Jahrhundert. M?nchen: Beck, 1997)[1 - Перевод выполнен доктором политических наук, профессором С. П. Поцелуевым.]
1. О понятиях политического и о понятиях морали[2 - Заметим, чтобы предотвратить ложные ожидания: в этом разделе речь идет только о прояснении понятий, а не о легитимации политического или обосновании морального как самостоятельных сфер. Последнее возможно только в том случае, когда уже стало ясно, как применяются понятия.]
1.1. Политическое и кратическое
В демократиях партий можно иногда услышать от профессиональных политиков, что они не понимают законодательной инициативы своего партийного товарища (и по совместительству – внутрипартийного соперника) – «ни по существу [sachlich], ни политически». Бросается в глаза это сочетание «по существу» и «политически», как если бы это были разные понятия. Но законодательные инициативы по сути своей относятся к тому, что хорошо для государства: и поскольку государство по-гречески означает «полис», следовало бы предположить, что «по существу» означает в данном случае то же самое, что и «политически». Однако здесь это явно не так. Что же понимается тогда под «политическим»? Одну подсказку дает нам тот факт, что сегодня говорят о «политике» не только государств, но также частных предприятий, даже о «политике» преступной организации, разлагающей государство. «Политика мафии» – это и без пояснений всем понятное выражение. Напротив, понятие «политический процесс» предполагает, что не любая деятельность государства может быть названа «политической», ибо все рассматриваемые в суде процессы являются просто государственными[3 - Даже не все процессы по делу «предателей Родины» могут рассматриваться, по определению, как политические.]. Так что же подразумевается здесь под «политикой»? Очевидно, что слово «политика» относят ко всем мероприятиям какой-либо организации (или, при известных условиях, лица), которые должны служить ее властным интересам[4 - В «Политике как призвании и профессии» Вебер определяет политику как стремление к власти внутри государства или между государствами: «Итак, „политика”, судя по всему, означает стремление к участию во власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [Weber, 1988, S. 506]. (См. также: Вебер, 1990, c. 646. – Пер.). Г. Лассуэлл и А. Каплан отождествляют политическое с властным аспектом в социальных целостностях, особо не выделяя при этом государства [Lasswell, Kaplan, 1969, p. XVII].]. Аналогичным образом, процесс называется «политическим», если решающее значение в нем имеют властные интересы, а не собственно юридические аргументы, или когда результаты этого процесса приводят к важным последствиям для распределения власти (особенно в государстве). В приведенном выше примере дают, стало быть, понять, что определенная законодательная инициатива не является хорошей (т. е. по существу верной) для государства, как не отвечает она и интересам сохранения или расширения власти. Правда, понятие власти требует субъекта, к которому эта власть относится; и упомянутая выше формулировка вольно или невольно оставляет открытым вопрос о том, о чьей власти идет речь: о власти партийного друга (противника), о собственной власти или о власти их общей партии в данном государстве. Вероятно, речь пойдет о последнем случае – если судить, по крайней мере, по выраженной претензии – ведь мер для усиления собственной власти упомянутый критик вряд ли может ожидать от своего противника. А если бы критик думал о власти последнего, он бы тогда в качестве друга обратился с добрым советом к его благоразумию. Но если такая критика высказывается публично, она может означать только одно: данная законодательная инициатива не является хорошей для государства, и электоратом она не будет воспринята позитивно, а от него ведь зависит власть данной партии.
Это указание на словоупотребление (которое хоть и не всегда, но часто служит лакмусовой бумажкой для значительных изменений в истории сознания) может быть потому поучительным, что оно в какой-то мере на деле проверяет рассмотренный выше тезис о развитии отношения морали и политики. Древний грек сразу бы и не понял упомянутый оборот («ни по существу, ни политически»)[5 - Ср., например, Liddel, Scott, 1961, p. 1435. См. выше: ?????????.]; а если бы ему объяснили его смысл, он был бы удручен тем обстоятельством, что понятие политического отделилось от того, что является по сути верным для государства. Это не значит, что грекам были неизвестны бои за власть; но они не относили к ним понятие политического. Чтобы впредь избегать понятийной путаницы, следует в последующем ограничить понятие политического до определенного круга дел, относящихся к государству, а для обозначения феноменов, имеющих дело с борьбой за власть, применять термин «кратический» [kratisch]. Этот термин образован от греческого слова, которое больше всего соответствует «власти» [Macht] (более точного эквивалента, как известно, не существует). Следует, далее, обратить внимание на различие между «кратическим» и «кратологическим», которое соответствует различию между «политическим» и «политологическим»: властные люди («кратики») обладают кратическим талантом, а их аналитиков следует называть «кратологами»[6 - Этому различию я обязан критике со стороны моего друга Давиде Шелцо [Davide Scelzo].]. Очевидно, что не все кратики обладают кратологическими способностями, равно как не все кратологи одарены кратическим талантом – подобно тому, как хороший политолог необязательно должен быть хорошим политиком, и наоборот.
Теперь кратическое и политическое чрезвычайно тесно друг с другом связаны – настолько тесно, что нетрудно объяснить омонимию в слове «политика». Ибо, с одной стороны, конечной властной инстанцией – по меньшей мере, с правовой точки зрения – является государство, во всяком случае, государство Нового времени с его монополией на легитимное применение насилия. Кто стремится к власти, тот почти принудительно будет искать возможности овладеть и государственной властью; в этом отношении кратическое неизбежно ссылается на политическое. И наоборот, политикой невозможно заниматься без кратических способностей – уже потому только невозможно, что мы все еще живем среди множества государств, ведущих друг с другом борьбу за власть. И даже в универсальном государстве приход к власти или защита от конкурентов уже приобретенной власти были бы без властной борьбы невозможны и даже нежелательны (если считать значимым принцип конкуренции).
Но хотя кратическое и политическое пересекаются, все же очевидно, что они не конгруэнтны. С одной стороны, кратическое шире политического: есть такая борьба за власть, которая не ведется ни за власть в государстве, ни за власть между государствами, а потому не может быть обозначена «политической» борьбой (согласно терминологии данной книги). Политическая борьба за власть есть особый случай кратического – правда, как мы уже сказали, исключительно важный особый случай, так как в нем, в конце концов, достигают своего апогея все бои за власть. Различие и взаимосвязь между политическим и кратическим становится ясным, если, помимо прочего, учесть популярность, какой пользуются порой на менеджерских курсах дальневосточные военные трактаты – к примеру, классический труд китайца Сунь-Цзы о войне или произведение японца Мусаси о поединке на мечах, равно как исследование Клаузевица «О войне». Так как по своему исходному смыслу трактат Сунь-Цзы носит военно-политический характер, а сочинение Мусаси обсуждает лишь техники владения мечом и с политикой ничего общего не имеет, успех этих текстов в кругу менеджеров, никогда не бывавших на поле боя, объяснить не так просто. Однако упомянутая популярность доказывает, что некоторые идеи, развитые в военном контексте, обнаруживают общую кратологическую природу; к властной борьбе внутри компании они относятся не меньше, чем к борьбе за власть между государствами, ведущейся с применением физического насилия. Требование Мусаси – «стать противником», что значит «представить себя в положении противника, мыслить с его точки зрения», – значимо для любой борьбы за власть, независимо от того, ведется она мечом или словом[7 - Ср.: Musashi, 1983, S. 108. См. также S. 104. Я сознаю, что цитируемое издание, будучи немецким переводом с английского перевода, не отвечает научным критериям. Но для общего указания оно может сгодиться. (См. также главку «Стать противником» в русском издании: Мусаси, 2006. – Пер.)]. Впечатляющим подтверждением межкультурной общезначимости многих таких советов является тот факт, что их можно порой обнаружить, причем почти в идентичной форме, в текстах совершенно разных культур. Так, мы встречаем понимание того, что не следует слишком злить уже поверженного врага, чтобы не пробуждать в нем сил отчаяния, у Сунь-Цзы[8 - Ср.: Sun Tzu, 1989, S. 35; Sun Tzu, 1988, p. 55 f. Данное сочинение доступно мне лишь в немецком и английском переводах, но поскольку эти переводы иногда сильно отличаются друг от друга, я цитирую их оба. (См. также: Сунь-цзы, 2000, c. 161. – Пер.)], в «Артхашастре» Каутильи [The Kau?iliya-Arthasastra, 1988, 10.3.57][9 - См. также: Артхашастра…, 1993, c. 420. – Пер.], у Геродота [Herodotus, 1927, p. 108][10 - См. также: Геродот, 2004, c. 453. – Пер.], а также у европейского мастера кратологии Макиавелли [Machiavelli, 1984, III, 12.18 f., p. 505 f.][11 - См. также: Макиавелли, 1998, c. 442 и далее. – Пер.]. Существенно, однако, что данный совет только тогда может считаться кратологическим, когда он восходит к постижению природы властной борьбы, а не к моральному размышлению. И в самом деле, одно добавление в тексте Сунь-Цзы подтверждает наше кратологическое толкование. Там говорится, что при определенных условиях врага целесообразно уничтожить, а именно, когда нет оснований опасаться пробуждения в нем сил отчаяния[12 - См.: Sun Tzu, 1988, p. 47 f. Этого места нет в немецком переводе.]. Аморальность есть, стало быть, существенная черта чистой кратологии. И она совместима с двумя вещами, которые на первый взгляд ей противоречат. Во-первых, кратологические советы могут вполне согласовываться с моральными правилами – важно, однако, что это соответствие случайно, и ничего в разнородности кратологических и моральных принципов от этого не меняется. Кратологу важно знать то, что полезно для сохранения и расширения власти; моралисту же – что должно делать независимо от конкретных интересов. Если щадить жизнь противнику отвечает, при определенных условиях, собственным властным интересам, тогда и чистого кратолога может устраивать позиция моралиста, требующего того же самого независимо от всех частных интересов. И некто поступил бы не последовательно кратически, а, прежде всего, аморально, когда бы он, руководствуясь этим соответствием, совершил поступок, который не только попирает мораль, но и противоречит собственным интересам. (То, что такие люди существуют, есть очевидность, указывающая на глубинные связи в человеческом духе, о которых нам предстоит еще подробно поговорить… Здесь же они не существенны, поскольку речь идет лишь о понятии кратического, а не о том, существуют ли люди, поступающие сугубо кратически, и тем более не о том, каким образом чисто кратическая установка образуется генетически.) Во-вторых, следует заметить, что упомянутое соответствие между кратическими и моральными требованиями перестает быть случайным, коль скоро под моралью понимается нечто отличное от того, что я до сих пор понимал, – ибо, как это еще будет показано далее, слово «мораль» является не менее омонимическим, чем слово «политика». Если термин «мораль» обозначает лишь фактические убеждения данной культуры относительно высших норм, которые должны быть значимыми [gelten], тогда в нормальном случае может и даже должен существовать кратологический совет: приспособиться к этой морали или, по крайней мере, выглядеть к ней приспособленным; приспособленным, конечно, не по причине объективной идентификации с этими нормами, а потому, что слишком грубое их нарушение может отрицательно сказаться на собственной репутации и тем самым – на собственной власти [ср.: Machiavelli, 1986, 18.4 f., p. 157 f.][13 - См. также: Макиавелли, 1998, c. 109–110. – Пер.]. Со сказанным совместимо то, что при определенных обстоятельствах с моральной точки зрения может позволяться, даже предлагаться, приобретать кратическое мастерство. Ведь осуществление власти само по себе не является безнравственным; оно может даже становиться обязанностью; и тогда задача состояла бы в том, чтобы содействовать требованиям морали посредством кратологических требований. Однако сама по себе кратология такую задачу не ставит.
Из развиваемого до сих пор понятия кратического следует, что по своему объему данное понятие не только больше, но, с другой стороны, и меньше по сравнению с понятием политики. Ведь это понятие, – во всяком случае, как мы его будем употреблять в дальнейшем, – ни в коем случае не имеет дело исключительно с одной только борьбой за власть. В целом, бои за власть обычно (хотя и не всегда) ведутся ради цели, выходящей за пределы самой властной борьбы; и к идеологии всех политических сражений за власть с необходимостью относится претензия на то, что они ведутся из-за существенных разногласий. Теперь же понятие власти – как мы это еще увидим – подчас применяется таким образом, что любую интерсубъективную структуру обозначают как «властно определенную» [machtbestimmt]; однако из-за этого понятие власти утрачивает свою остроту и дифференцирующую силу. Конечно, можно сказать, что и в политико-экономических решениях речь идет о власти, потому что они обычно по-новому определяют распределение экономической власти. Но, во-первых, речь в этих решениях идет не только об этом (но также об экономически эффективном или справедливом распределении), и, во-вторых, при этом, как правило, не говорится о власти субъекта политико-экономических решений, даже если упомянутое перераспределение власти, возможно, и повлияет на его позицию. О чем здесь идет речь – так это о тривиальном понимании того, что деловые способности, в которых нуждается политика, не редуцируются к способностям кратическим. Правовая политика, экономическая политика, политика в области здравоохранения и защиты окружающей среды, оборонная и внешняя политика – все они требуют определенных экспертных знаний (юридических, экономических, медицинских, экологических, военных). Эти знания возникают из логики соответствующей предметной области и выходят за рамки способности реализовывать свою волю – как бы ни было верным и то, что вытекающий из этих экспертных знаний авторитет сам по себе может быть властным фактором. (Правда, надо признать, что в международной сфере кратология не только учит проводить правильную политику, но даже отчасти значима для определения самой правильной политики – именно потому, что внешнеполитическая сфера имеет дело, помимо прочего, с борьбой за власть между государствами[14 - Г. Моргентау, также понимая внешнюю политику, да и политику в целом, в значительной мере из перспективы властной проблематики, приписывает политический характер далеко не всем видам деятельности, осуществляемой государством в отношении других государств [Morgenthau, 1985, p. 31 f.] Так, согласно Моргентау, только внешняя политика заслуживает имя политики, поскольку она явным образом занимается вопросами распределения власти – в отличие, к примеру, от чисто экономически мотивированной внешней политики, которую, по его мнению, вообще нельзя называть политикой. Я же в дальнейшем буду в таких случаях говорить о «внешней политике», а в первом случае – о «кратически мотивированной внешней политике».]. Это – одна из двух причин, почему великие политики почти всегда обладают особым талантом к внешнеполитическим делам. Вторая причина относится к исключительному значению блага, сохраняемого посредством внешней политики, а именно к миру.) Важным в этой связи предстает то, что здесь еще не предполагается никакой теории о том, чем являются морально легитимные государственные цели; подразумевается лишь, что то, что фактически признается гражданами в качестве государственной цели, обычно не сводится к триумфу в борьбе за власть. Пока что у нас нет нужды задаваться вопросом, является ли экономический рост легитимной целью государственной политики. Существенно лишь то, что облегчить или затруднить экономический рост невозможно без экономических знаний. Подобно тому, как успешному в карьере работнику фирмы можно приписать кратические способности, не будучи уверенным относительно его экономической компетентности, так и занятие более высоких государственных должностей ни в коем случае еще не доказывает наличия компетентности, направленной на государственные цели, однако часто – присутствие кратического ума. (По меньшей мере, до тех пор, пока существует много конкурентов за обладание этими должностями, а владелец должности не является марионеткой влиятельных лиц в тени, которые в этом случае сами тогда обладают кратическими способностями.) Правда, нелегко ответить на вопрос, в чем, собственно, состоит политическая компетентность в высшей своей форме – ибо она с очевидностью не является одной только экономической, юридической или военной компетентностью. Сверх того, осмелимся здесь заметить, что речь при этом идет о правильном посредничестве между различными государственными целями. Тот, кто не обладает такой способностью, может стать хорошим начальником отдела, однако никогда – выдающимся главой правительства. Здесь следует также упомянуть, что на основе типично современной склонности к рефлексивным структурам часто (но только не в этой книге) под «политикой par excellance» понимается то, что в отличие от экономической, научной, внешней и т. д. политики можно обозначить при помощи не самого благозвучного, но объективно необходимого слова «политическая политика» [Politikpolitik] (или «метаполитика»)[15 - Достойная восхищения Ханна Арендт обнаруживает, при всем ее прославлении античного полиса, свою принадлежность к модерну именно тем, что под политикой она понимает, прежде всего, политическую политику, тогда как политически релевантные деловые вопросы вроде экономической, научной и прочей политики полностью оставляет без внимания. – Термин «политическая политика» [Politikpolitik] применяет, к примеру, Р. Уберхорст (См.: Ueberhorst, 1986, S. 202–227).]. Под этим термином подразумевается политика, которая занимается самими государственными органами и государственным регламентированием рамочных условий политики – к примеру, разбирается с требованиями принять закон о партиях или провести избирательную реформу, в целом – с требованиями изменить не гражданское или уголовное право, а право конституционное. Очевидно, что такого рода политическая политика скорее обнаруживает свою кратическую значимость, чем, например, экономическая политика; однако и она не может быть сведена к кратическому элементу, поскольку и в ней находят проявление принципы компетентности.
Ясно, однако, что даже высочайшая компетентность не может действовать без кратических способностей и что только великие политики могут со временем обладать и тем, и другим[16 - В современном словоупотреблении «государственными деятелями» называют лиц, имеющих деловые и кратические способности, тогда как термин «политик» применяют для людей, наделенных исключительно кратическими талантами. Я не разделяю такого словоупотребления и называю карьериста, который умеет добиться успеха в госаппарате, не утруждая себя предметными вопросами, «политическим карьеристом». Аналогичное относится и к другим сферам. Главврач, например, помимо медицинской компетентности, нуждается в качествах руководителя, т. е. в кратических способностях. Среди всех художников в особенной мере это относится к режиссеру. Это объективно необходимо, а потому не подлежит осуждению. Печально лишь то, когда ключевые позиции в клинике, в художественном или научном предприятии попадают в руки медицинских, эстетических или научных кратиков.]. Впрочем, нет никаких оснований утверждать, что существуют кратические таланты как таковые, которые могут реализовываться во всех социальных системах. Есть, конечно, определенные умения, которые везде образуют необходимые условия для восхождения к властным позициям. Однако это не значит, что существует некое сочетание способностей, которого бы для этого хватало. Очень даже может быть, что некто, желая утвердиться при монаршем дворе, нуждается в определенных качествах, которые в условиях демократии неизбежно привели бы его к краху, и наоборот. В любом случае, для удовлетворительной теории политики является одинаково незаменимым исследование как кратических способностей, так и политической компетентности. И если ошибкой Платона было стремление затемнить кратическое измерение политики, то еще более роковой односторонностью большинства политических мыслителей XX столетия было игнорирование ее делового измерения. К примеру, Карл Шмит схватывает в своем «Понятии политического» исключительно аспекты понятия кратического, для которого противоположность друга и врага действительно играет ключевую роль.
Под «политикой» я понимаю, стало быть, действия, которые направлены на определение и/или осуществление государственных целей[17 - Проблема этой дефиниции состоит в том, что не все культуры имеют государство, хотя все они политически активны. <…> Определение политики как «процессов человеческого действия, посредством которых продолжается или разрешается конфликт между общим благом и групповыми интересами, с постоянным включением власти или борьбы за власть» [Political Anthropology…, 1966, p. 189] уходит от данного возражения. Решающим, правда, является то, что заключительное выражение данного определения относится к коллективному применению власти, воспринимаемому в качестве легитимного.]. О каких целях при этом идет речь – мы пока не обсуждаем; защита от внутреннего и внешнего насилия наверняка является такой целью, но целью не единственной. Так как определение является задачей теоретической, наша дефиниция подразумевает, что публичное занятие политической философией следует тоже рассматривать как политику. К такому мнению, по-видимому, склонялся и Платон [ср.: Plato, 1900–1907, Vol. 5, 521 d][18 - См. также: Платон, 1968, c. 358. – Пер.], утверждая, что Сократ был самым выдающимся афинским политиком, по крайней мере, своего поколения. Это мнение уже, по крайней мере, из формальных оснований не следует считать неудачным; да и по содержанию не является ошибочным утверждение, что для политической судьбы Афин и даже всех европейских государств Платон был существенно более важной фигурой, чем осуждавшие его политики. Точно также можно разделять убеждение, что решение ступить на стезю церкви, которое на закате Римской империи принимали некоторые отпрыски римской аристократии, было отчасти политическим решением. Бывают ситуации, когда для будущего государства можно сделать больше, учреждая орден, чем поддерживая империю[19 - Ср. впечатляющую заключительную часть книги Макинтайра: MacIntyre, 1981, p. 244 f. (См. также: Макинтайр, 2000, c. 355. – Пер.)], и очень может быть, что в современном положении западных демократий установка главных ориентиров для политики грядущих десятилетий совершается не в министерствах, а в обществе. Если делегитимация существующего порядка есть неотложная политическая задача, тогда в первую очередь она должна решаться вне государственных органов. Во всяком случае, было бы заблуждением – с тяжелыми последствиями – полагать, будто политика возможна только как действие государственных органов. И нет большего ущерба для продолжительной перестройки государства, чем жадное стремление занять общественные позиции прежде, чем начались необходимые изменения в самом обществе. Это – один из тех многих уроков, которые можно извлечь из провала большевистского эксперимента, а также горбачевской перестройки.
Но что точно делает цель общественной целью? Необходимым, но недостаточным условием является здесь то, что данная цель касается многих, а иногда даже всех жителей определенной области. Однако не все цели такого рода носят, по определению, публичный характер, о чем свидетельствует факт научных открытий. Эти открытия могут иметь далеко идущие последствия, но из-за этого им еще не приписывается качество публичности: Эдвард Дженнер был выдающимся врачом, однако только поэтому еще не великим политиком. Следующий важный момент публичных целей состоит в том, что, будучи значимыми для многих, они многими так же и воспринимаются, причем большинство людей организуются и кооперируются для их реализации. Однако нечто подобное уже имеется в обществе, а не только возникает в государстве – вспомним, к примеру, о частных клубах, занимающихся улучшением здоровья населения. О государственной цели в узком смысле, напротив, речь идет в том случае, когда в качестве последнего средства грозит правовое принуждение – будь то против граждан или против членов администрации, которые не применяют определенных законов. Благодаря введению обязательной вакцинации, даже простому появлению возможности добровольной и бесплатной вакцинации, финансируемой из средств налогоплательщиков, открытие Дженнера стало государственной целью; и уже требования такого рода мероприятий следует, согласно выше приведенной дефиниции, называть «политическими». Если же отсутствует пусть даже отдаленное отношение к правовому принуждению, тогда я бы говорил хоть и об «общественных», но еще не о «политических» целях. Спортивное общество, объединяющее миллионы людей, само по себе не является политической ассоциацией, во всяком случае, если оно не оказывает влияния на государственные решения или не является корпорацией публичного права (например, при наличии принудительного членства). Это различие между «политическим» и «общественным» не подразумевает, конечно, будто неполитические общественные цели менее важны для блага народа, чем цели политические; просто они другой природы, потому что для их реализации, в принципе, нет в распоряжении никаких мер принуждения.
Но обычно еще в большей мере, чем обнаружение легитимных государственных целей, сущностью политики считается борьба за их реальное осуществление. Как уже было замечено выше, нет необходимости в том, чтобы субъектами таких политических действий были одни лишь государственные органы. Тем не менее обычно[20 - В связи с этим возникает трудный терминологический вопрос: а можно ли анархистам приписать политические цели, поскольку они ведь стремятся к разрушению государства? Я бы ответил на этот вопрос утвердительно, ибо их цель, пусть и в негативном смысле, направлена на государство.] опосредованной границей этой негосударственной деятельности становится то, что в определенный момент органы государства (возможно, после политического переворота) могут преследовать собственные цели[21 - В своем точном языке Макс Вебер дифференцирует это следующим образом: «словоупотребление называет, правда, "политическими союзами" не только носителей считающегося легитимным насилия, но также, к примеру, партии и клубы, которые… стремятся оказать влияние на политические действия союза. Мы намерены этот вид социальных действий отличать в качестве "политически ориентированных" от собственно "политических" действий (от коллективных действий [Verbandshandeln] самогу политического союза…)» [Weber, 1980, S. 30].]. Внепарламентская оппозиция и революционное движение тоже могут быть политически активными, а политические партии следует обозначать как «политические» организации и в том случае, когда осуществляемый ими подрыв государства считается наибольшей угрозой для демократий. И наоборот – не каждая государственная деятельность является политической в смысле, положенном здесь в основу. Противоположность между политикой и управлением [Verwaltung] состоит не в том, что управление не выполняет государственных задач; однако управление, согласно идеальному типу, следует приказам и реализует только те государственные цели, которые определяются политикой. Конечно, значение управления для функционирования хорошего государства является не меньшим, чем значение политики; любая комплексная политика будет поэтому содержать в себе политику управления. Но управление является при этом объектом, а не субъектом политики. В самом грубом приближении можно сказать, что управление ведет себя по отношению к политике так же, как теоремы по отношению к аксиомам неполной системы. Соответственно, политика, как и аксиомы, – это основополагающее, тогда как управление, подобно теоремам, есть нечто производное – какой бы большой ни была степень свободы административных решений по сравнению с дедукцией теорем из аксиом. Так как речь в этой связи не идет о государственно-правовом различии между политикой и управлением, мое употребление этих терминов ни в коем случае не исключает того, что собственно политика проводится в государстве там, где в государственно-правовом смысле говорится об «управлении». Когда продвижение по службе в министерских коридорах все больше требует кратических и все меньше – экспертных компетенций; когда некто в качестве министра все быстрее меняет одно министерство на другое, низводя себя до государственного артиста, тогда политика в современном государстве почти неизбежно делается высшими административными чиновниками, политической администрацией. Это ни в коем случае не должно говорить против качества политики, даже если это состояние и не предусматривается конституцией соответствующего государства.
Динамический момент в понятии борьбы за власть указывает на то, что есть люди, которые заинтересованы в изменении статус-кво, тогда как другие его защищают. В эпоху, когда политическое грозит упроститься до кратического, не является случайным, что важнейшие политические противоречия вспыхивают теперь не из-за противоположных предложений по решению фактических проблем, а по формальному поводу: быть «за» или против», быть консервативным или прогрессивным. Что наиболее важно в этой связи, когда мы продолжаем заниматься лишь прояснением понятия политического, – так это то, что консервативная политика есть политика более легкая (что, однако, не предрешает ее истинности или ложности). Ведь статус-кво имеет определенность, которая не свойственна многим альтернативным состояниям. Вот почему политика, успешно меняющая статус-кво, предполагает большие формальные навыки, чем политика, этот статус-кво сохраняющая. В альтернативной политике можно признать высшую форму политики, которую возможно было бы тогда определить как совокупность всех действий, добивающихся в контексте властной борьбы изменения в определении государственных целей, а также реализации этих целей. Бросается в глаза, что это понятие политики еще полностью нейтрально в ценностном отношении. Согласно данной дефиниции Ленин, Сталин и Гитлер – в высшей степени успешные политики, а отнюдь не только политические кратики. Ведь они не только несколько лет (а в случае Сталина – даже несколько десятилетий) оставались у власти, но придавали государству новые задачи и вопреки сильному сопротивлению могли какое-то время добиваться их выполнения.
1.2. Мораль, этика, нравственность, моральность
Здесь, правда, неминуемо возникает вопрос о том, какие государственные цели и какие средства для их достижения являются морально легитимными? Это и есть главный вопрос, о котором идет речь в данной книге. Но прежде чем на него отвечать, и даже до того, как исследовать, является ли он вообще осмысленным, следует прояснить дальнейшие понятия. «Мораль» будет в этой книге применяться как нормативное понятие. Моральным является действие, институт, эмоция, – если они таковы, каковыми они должны быть[22 - «Моральный» может также означать «относящийся к морали». Но моральный аргумент – это не тот, который является таковым, каким он должен быть, а аргумент, пытающийся понять, что же должно быть. Соответственно, «моральное чувство» является двусмысленным выражением.]. Мораль конкретного действия, конкретного института, конкретного волевого акта, конкретной эмоции является, стало быть, тем в них, что есть таково, каковым оно должно быть[23 - Это «в них» не включает того смысла, что только часть фактического действия и т. п. может отвечать требованиям морали.]. Если речь идет не о конкретной деятельности, а о способе действия, тогда под его моралью подразумевается совокупность того, чем он должен быть: книга о политической морали рассказывает, в чем должна заключаться политика и в каких формах она должна совершаться[24 - Я долго раздумывал, не дать ли этой книге название «Мораль политики». Однако, с одной стороны, относительно подробное рассмотрение общей этики, а с другой, связанное с таким названием возможное недоразумение, будто существует только моральная политика, в конце концов, удержали меня от этого.]. Дисциплину, занимающуюся вопросом о том, какими должны быть человеческие волевые акты, чувства, действия, институты, следует называть «практической философией» (иногда также «этикой»). Ее важнейшими частями являются индивидуальная этика и политическая философия. Обоснованные высказывания о морали какого-то действия или института может формулировать только практическая философия.
Основание для разделения практической философии на индивидуальную этику и политическую философию вытекает из следующих размышлений. Очевидно, что моральные нормы описывают поведение, которое быть должно, но необходимым не является. Ну а как относится моральный человек к неморальному поведению? Наиболее жесткая возможная санкция – это физическое принуждение, и следует отличать нормы, для реализации которых в случае необходимости можно прибегнуть к насилию, от норм, для реализации которых это недопустимо. Философия права есть нормативная дисциплина, занимающаяся нормами, нарушение которых должно из моральных оснований влечь за собой меры принуждения. (Фактически существующие правовые системы могут в такой же мере отклоняться от системы норм, выдвигаемой философией права, как и фактическое поведение человека – от того, что предлагает индивидуальная этика.) Политическая философия в той мере основывается на правовой философии, в какой понятие государства предполагает понятие права; однако это не значит, что в политической философии роль играют только философско-правовые нормы. Патриотического настроения, к примеру, нельзя добиться силой; но это не значит, что оно не имеет значения для политической философии. Еще одно важное различие между индивидуальной этикой и политической философией состоит в том, что в первой институты принимаются во внимание только мимоходом, как рамочные условия индивидуального действия, тогда как в политической философии, напротив, в центре стоит нормативное институциональное учение, в особенности, нормативное учение о государстве. Это вытекает, помимо прочего, из идеи принуждения, которое становится только тогда морально допустимым, когда оно является безличным, что значит, совершается как институциональный акт. Но ясно, что эти институты должны реализовываться посредством действий, и нормативная теория – теория не самих институтов, а действий, относящихся к их основанию и поддержанию, – образует ту часть политической философии, которую иногда называют «политической этикой». Если классическая философия государства, по сути, сводится к нормативной теории политических институтов, то «Государь» Макиавелли, напротив, можно считать хорошим примером политической этики. Ввиду большого значения государственных рамочных условий для морального действия, очевидно, что этика, которая не расширяет себя до политической философии, есть этика неполная, причем в радикальном смысле неполная. Удовлетвориться тем, чтобы быть хорошим мужем, когда государство, в котором ты живешь, совершает преступления, – это в моральном смысле является недостаточным; как бы ни было ложным обратное заблуждение, что хорошее государство не нуждается в благополучных семьях. Именно поэтому является ложным убеждение, что политическая этика занимается всего лишь одной из сфер приложения этики среди многих других сфер. Конкретизация морального до социального и политического не является по отношению к моральному чем-то внешним и одновременно с ним происходящим; нет, само моральное требует социального и политического. Понятие прикладной этики неправомерно предполагает, что суть дела заключается в абстрактных нормах, а потребность в их конкретизации вытекает лишь из фактического хода событий. На самом деле речь идет о том, чтобы постичь эти события в их необходимости.
Следует полностью отличать от указанных выше понятий дескриптивные понятия психологии и социологии, относящиеся к фактическим представлениям о том, что должно быть значимым [gelten]. (Под это следует подводить и юридические понятия – правда, иным образом по сравнению с понятиями философии права – в той мере, в какой юридические понятия означают лишь нормирования, фактически признанные внутри данного общества, хотя и не всегда в нем осуществимые.) Это различие осложняется ведущей к недоразумениям омонимией в слове «ценность» [Wert]. Данная омонимия состоит в том, что под «ценностью» можно, с одной стороны, подразумевать то, что согласно рациональной практической философии должно определять индивидуальные или коллективные действия человека (как, например, в этике ценностей Макса Шелера). С другой стороны, под «ценностью» можно понимать индивидуально или социально признанные представления, на которые фактически ориентируются действия отдельного человека или культуры (как в социологии Макса Вебера) – как бы эти представления ни противоречили ценностям, выработанным этикой. В случае этого, а также аналогичных ему понятий, можно обходиться такими спецификациями, как «идеально значимый [geltend]», «индивидуально значимый» или «социально значимый». Индивидуально и социально значимые ценности или предпочтения суть предмет эмпирической психологии и социологии морали; местоположение этих наук – в эмпирическом мире. (Мораль индивидуально или социально значимых ценностей есть то в них, что соответствует идеально значимым ценностям.) Психология морали и социология морали состоят из дескриптивных предложений и в качестве таковых они свободны от ценностей [wertfrei]; к тому же, посредством философского оправдания может оказаться, что не только ценности отдельных культур, но даже повсеместно распространенные моральные чувства и убеждения не имеют претензии на значимость [Geltung]. Более того, возможна дистанция даже по отношению к собственным моральным чувствам; вполне можно быть убежденным в том, что собственное чувство вины есть результат неудачной социализации и не имеет под собой никакого объективного основания. А попытку другого человека – использовать в свою пользу эти моральные механизмы – можно считать не апелляцией к моральным аргументам, а чем-то глубоко аморальным. Только крайний институционализм станет отождествлять дескриптивные высказывания о собственных моральных убеждениях с нормативными высказываниями [Hare, 1952, p. 165 ff.]. Следует считать заслугой французских моралистов, что они первые в европейской интеллектуальной истории концептуально выделили психологию морали как новую дисциплину, отличную от этики. Правда, первые моралисты вполне еще признавали абсолютные моральные нормы, на основе которых они критиковали морально-психологические механизмы. Это меняется только с приходом Ницше, которого следовало бы лучше всего назвать моралистом без морали. Разумеется, из-за различия между генезисом и значимостью даже самые жуткие открытия психопатологии морали ничего не добавляют к решению проблемы значимости. Даже если можно было бы доказать, что определенные моральные убеждения обусловлены известными неврозами, этим бы еще ничего не было сказано об истинности данных убеждений; на это всегда можно было бы заметить, что человеческая природа, к сожалению, настолько дурна, что к истине она может пробиться только посредством неврозов.
Гегелевские понятия «моральности» [Moralit?t] и «нравственности» [Sittlichkeit] будут в этой книге использоваться тоже как дескриптивные понятия. Под «нравственностью культуры» я понимаю ее этос, т. е., с одной стороны, совокупность главных, господствующих в обществе ценностей данной культуры, а с другой стороны, в особенности чувство коллективной идентичности; последнее возникает из общей уверенности в том, что эти ценности всеми признаются. Под «моральностью» я понимаю изоляцию отдельного человека, с одной стороны, от конкретных ценностей его нравственности, а с другой стороны, прежде всего от коллективной идентичности, возникающей из нравственности. Вследствие чисто дескриптивного применения этих терминов вполне можно говорить о нравственности национал-социалистической Германии или о моральности террористов-анархистов. Выражение «мораль моральности и нравственности» обозначает (в общем, что значит, независимо от конкретных социальных ценностей, с которыми они соединились в конкретной исторической ситуации) ту дистанцию (или близость) к коллективной идентичности собственной культуры, которую моральный человек должен иметь согласно рациональной этике.
Очевидно, что предложенная здесь терминология отклоняется от обычного словоупотребления. Слово «мораль» очень часто применяется дескриптивно. К примеру, «мораль буржуазной эпохи» означает то же самое, что здесь можно было бы назвать «нравственностью буржуазной эпохи»; в языке, положенном здесь в основу, «генеалогия морали» является бессмысленным выражением – ибо моральное столь же безвременно, как и предметы математики. Соответственно, достойную чтения книгу известного социолога морали следовало бы назвать «К генеалогии нравственности и морального восприятия». Поскольку нет более опасной омонимии, чем та, что ведет к смешению нормативного и дескриптивного уровней (ибо она, не будь замеченной, может порождать этический нигилизм), постольку здесь особенно оправдано право философа на нормированное словоупотребление. Ведь когда после критического нормирования ставят вопрос о причинах отклонения реальности от норм, – а в данном случае, стало быть, о причинах омонимии слова «мораль», – следуют лишь определенной максиме, которая будет обоснована лишь позже…. Эти причины глубоко обоснованы в метафизике, однако попытка в рамках нашего исследования прояснить эту проблему во всех подробностях (в чем она нуждается), помешала бы нам обратиться к вопросам, о которых здесь в первую очередь идет речь. Поэтому скажу об этом лишь вкратце следующее[25 - Ср. еще к этому мои размышления: H?sle, 1990, S. 215 ff., 234 ff.]. С одной стороны, непосредственно очевидной является следующая импликация: если бы не было никакого этического анализа морали социальных феноменов, тогда был бы лишен смысла вопрос о том, что должно делать из моральных соображений. Практическая философия, если она не желает от себя отречься, должна мочь претендовать на то, чтобы оценивать и нормировать индивидуальные и социальные феномены. С другой стороны, моральные убеждения суть сами психические факты; и к социальному миру не в меньшей мере относятся интерсубъективно признанные или только дискутируемые этические теории. Социология этики, т. е. анализ значимости этики внутри социальных систем, есть поэтому вполне легитимная в науке задача. И ясно, что социолог, хотя он и должен в качестве социолога понимать смысловое содержание этики (чтобы связывать ее с другими социальными системами), все же претензию этики на истину может игнорировать или даже должен игнорировать согласно определенному пониманию социологии. В известном смысле, то, что справедливо для этики, справедливо и для самой социологии; можно анализировать социальные рамочные условия, при которых возникает социология (а конкретнее – социология этики), еще не считая себя при этом обязанным признавать претензию этой науки на истину. Только когда возникает необходимость постоянно предполагать способность собственной деятельности к достижению истины, а эта деятельность совпадает при этом с рассматриваемой наукой, тогда образуются различия в смысле теории обоснования, на которые, впрочем, социолог (в качестве социолога) может и не обратить внимания.
Все это следует признать, и все это, как мы еще увидим, более значимо для этики, чем полагают большинство этиков. Но заключать отсюда, будто этические теории можно заменить социологическими, есть с очевидностью ложный вывод. Он соответствовал бы умозаключению человека, который назвал бы книгой физический предмет определенного веса, на страницах которого распределена типографская краска. Это, бесспорно, тоже является книгой; и, без сомнения, могут быть ситуации, в которых разумный познавательный интерес состоит в том, чтобы воспринимать в книге это и только это. Однако это не значит, что сущность книги раскрывается в данных определениях. И подобно тому, как смысловое измерение превосходит измерение физического бытия, так и нормативное измерение выходит за пределы измерения простого смысла. Затемнить это измерение в одном каком-то контексте можно, но в других – абсурдно. Чтобы стало понятнее, в чем здесь суть дела, можно применить гуссерлевские термины ноэзиса [Noesis] и ноэмы [Noema], взятые, правда, без учета их заднего смыслового плана в философии сознания. Ноэзис есть акт сознания, в котором субъект нечто осмысливает, ноэма же есть предмет этого акта, предмет, который схватывается сознанием субъекта. Сходным образом, этическая теория должна отличаться от того, о чем идет речь в этой теории. Теория сама относится к эмпирическому социальному миру и может быть исследована согласно его категориям. Но ноэма этой теории, напротив, принадлежит миру чистых значений [Geltungen]; ею занимается этическая теория. Только сама теория, а не ее ноэма доступна социологической объективации. Хотя социология может обсуждать этические системы, от этого сама она этикой заниматься не может – так же как историк математики нуждается, прежде всего, в филологическом образовании, тогда как дальше развивать математику сам он не в силах. История математики есть филологическая, а не математическая дисциплина, даже если наличие известных математических знаний идет ей только на пользу; социология этики является разделом социальных наук, а не этики. Сравнение этики с математикой выбрано нами намеренно; ибо хотя этика, в отличие от математики, относится к эмпирическим сущностям, принципы, по которым она оценивает эти сущности, родом из мира чистых значений. Платон совершенно прав, когда он учит, что методы математического мышления, выходящие за пределы эмпирической фактичности [Faktizit?t], по сути своей родственны методам этики. Кто не способен подняться к сфере чистых значений, тот упускает суть этики.
Решение, которое предлагается здесь относительно соотношения этики и социологии, обнаруживает далеко идущие аналогии со спинозовским параллелистическим решением проблемы единства души и тела. Согласно Спинозе, взаимодействия между физическим и психическим не существует, и физическое можно каузально объяснить только из физического, как психическое – только из психического. При этом, однако, рассмотрение мира с позиции только одного атрибута является неполным. Соответственно, неполным является чисто этический или чисто социологический подход, хотя каждый из них в себе завершен. Можно трактовать этический аргумент как социальный факт, в частности, как оружие в борьбе за власть; однако вопрос о том, является ли этот аргумент законным, тем самым еще не решается: ни позитивно, ни негативно. Более того, именно из-за дополнительности обоих подходов всегда происходит так, что с помощью морального аргумента объединяются интересы самого разного рода; и следует считать примитивной ту форму «разоблачения», когда полагают, будто можно опровергнуть моральные позиции посредством демонстрации такого рода интересов. И наоборот, анализ аргументов, проводимый с позиции теории значимости [geltungstheoretische Analyse], ничего не говорит об их способности действовать в социальном мире; ведь чистые значения обосновывают другие значения, но они не причиняют ничего реального. Окажет ли влияние законный или незаконный моральный аргумент[26 - Слово «аргумент» является таким же омонимическим, как и слово «предложение», которое может означать как языковую единицу, так и пропозицию, к которой эта единица относится. Но так как в контексте этой книги всегда ясно, в каком значении употребляется слово, я не утруждаю себя тем, чтобы различать терминологически между аргументом как выражением (только это или, точнее, только посредством этого можно действовать на других людей) и аргументом как значением выражения (только это может быть действительным [g?ltig] или недействительным).] – это зависит от способности восприятия социального окружения, а оно только в редких случаях бывает настроено исключительно на свойства, релевантные для теории значимости. В разреженном воздухе заоблачных чистых значений движутся лишь немногие люди, которые к тому же всю свою энергию должны направлять на познание, а потому редко доходят до действия. Более конкретные психические силы – как, например, моральные чувства или, по меньшей мере, сильное чувство самоуважения – обязательны, когда люди должны еще и действовать по этическим принципам. Если теория познания (включая логику) и этика – дисциплины, относящиеся исключительно к теории значимости, то риторика есть наука, которая – на основе познания человеческого поведения и его исторической трансформации – ставит вопрос о том, какие языковые образования вызывают определенные индивидуальные и социальные предпочтения (и тем самым также действия). Для того, кто хотел бы влиять на чисто разумное существо, риторика была бы, пожалуй, излишней; но поскольку человек не является чисто разумным существом, необходима риторика как связующее звено между этикой и политикой. Позволительно ли в моральном смысле использовать аргументы, которые объективно не являются убедительными, но риторически действуют сильнее, чем фактически веские аргументы, – это, в свою очередь, тоже является этическим вопросом, на который невозможно ответить одним только анализом социального окружения. Античная риторика, представленная Платоном, Аристотелем и Цицероном, добросовестно задавалась этим вопросом, потому что возникла она из моральной задачи; а вот освобождение риторики от этой связи с моралью, начавшееся в софистике и завершившееся в модерне, объясняет, но не оправдывает недостаточный интерес новой философии к этой ключевой дисциплине.
Из сказанного вытекает, что ценностно-нейтральная социология приходит к такому же ошибочному выводу, что и бихевиоризм. Если последний при объяснении физического мира игнорирует психическое, то указанная социология пренебрегает нормативным измерением. Повторим, что обе эти науки нельзя уличить в пробелах в их исследовательском поле: этические основания не могут вызывать каких-либо изменений в эмпирическом мире; в лучшем случае это – реальное психическое постижение этических оснований, которое может нечто причинить. Впрочем, не является безосновательным мнение о том, что процессы в физическом мире (включая движения собственного тела) вызываются даже не посредством такого рода психических постижений, а благодаря сопровождающим это понимание состояниям мозга[27 - <…> Разумеется, проблема соотношения души и тела в этой книге разрешена быть не может.]. Однако ложным в указанных подходах является то, что они выдают за целое лишь части реальности, которые, правда, исследуются ими с большой точностью. Архаический человек одушевлял неодушевленное и оценивал вещи, в ценностном отношении нейтральные: это были ошибки, которые современная наука и этика с полным на то основанием исправили. Но человек архаики, по меньшей мере, знал, что психическое существует и что психическое начало человека сосредоточено в признании ценностей, которые суть нечто большее, чем только психические или социальные факты. Нейрофизиолог, разучившийся воспринимать свою внутреннюю сторону [Innenseite][28 - Выражение ужасное, так как оно остается захваченным в той сфере пространственности, к которой субъективность как раз не относится. Но поскольку слово «субъективность» обозначает очень разные вещи, я использую упомянутое выражение, чтобы назвать то, что у Декарта значит «res cogitans».], или теоретик социальных систем, который все моральные аргументы выверяет на их социальную полезность, а на вопрос о том, какие из них по сути приемлемы, может лишь пожать плечами, – оба они в научном плане превосходят, конечно, архаического человека. Однако в смысле мудрости, интуитивного предчувствия целостности мира они ему уступают. И если утрата мудрости была ценой, которую необходимо было заплатить за прогресс науки, то возникает вопрос – не слишком ли дорогой была эта цена? К счастью, есть философия, которая старается объединить мудрость и науку; и только от философии, просвещенной в делах социальных наук, следует ожидать ответа относительно морали политики.
2. Отклонение некоторых возражений против моральной оценки политики
Наши предыдущие рассуждения предполагали, что наряду с дескриптивным измерением существует и нередуцируемое к нему измерение норм. Сводимыми к дескриптивному измерению являются, как было указано, все фактические представления о ценностях и нормах; но мы видели, что отсюда еще не следует, что под это измерение могут быть подведены и сами идеально значимые нормы и ценности. Правда, тем самым показывается лишь возможность, а не необходимость некоей особой нормативной перспективы. Более подробная демонстрация этого относится к метафизике морали; а неоправданно расточительные рассуждения о сущности обоснований и возможности негипотетического познания не позволяют внести окончательную ясность в этот вопрос. Это не должно нас удивлять; ибо откуда же может взяться окончательная ясность, как не из последнего и безусловного начала, одним словом, из Абсолюта? Однако для развернутого обсуждения проблемы последнего обоснования, которая неизбежно встает перед тем, кто хочет выработать теорию нормативного, у нас здесь нет места[29 - Ср. об этом мои более подробные рассуждения: H?sle, 1990, S. 143 ff., 241 ff. Я особенно в этом месте отчетливо сознаю, как много в этой книге я предполагаю из того, что отклоняется от ходячих популярных мнений, и что я отчасти уже где-то в другом месте, отчасти вообще еще не обосновывал. Однако я не вижу альтернативы такому способу действия, коль скоро данная книга является книгой о политической философии, а не о метафизике.]. Можно лишь, в общем, указать на неотвратимость [Unhintergehbarkeit] нормативного вопроса: тот, кто оспаривает законность этого вопроса, сам выдвигает нормативную претензию на значимость. Ибо он ведь не может не замечать существования нормативных теорий; но он полагает, что такого рода теории нелегитимны, – а это с очевидностью есть нормативное предложение. Истина, претензию на которую должен выдвигать для своей собственной теории каждый критик, сама является нормативной категорией, и любая попытка натурализовать эту категорию является бесперспективной уже потому, что всякая такая теория сама должна претендовать на истинность. Истина трансцендентальна – она есть условие возможности любой теории, а потому она не может внутри этой теории иметь такой же статус, как и эмпирические предметы. Можно, конечно, в рамках генетической или эволюционной теории познания объяснить, как некто приходит к тому, чтобы считать истинными определенные положения дел. Однако вопрос о том, являются ли эти положения действительно истинными, тем самым еще не может быть решен; более того, каждая такая генетическая теория, если она желает восприниматься всерьез, предполагает решение проблемы истины. Измерение значимости, доступное трансцендентальной рефлексии, невозможно подвести под измерение фактичности; более того, первое измерение предшествует последнему. Правда, на это можно было бы возразить, что истина является хотя и бесспорно нормативной, но лишь теоретико-нормативной категорией. Однако практико-нормативные, т. е. этические, требования связаны с теоретико-нормативными категориями гораздо более тесным образом, чем обычно полагают. Так, из неотвратимости истины непосредственно вытекает требование истины добиваться. Да, в первом размышлении о значимости [Geltungsreяexion], образующем начало философии, теоретико-нормативное и практико-нормативное измерения совпадают. То, что надо думать определенным образом – это логика и этика обосновывают в равной мере. Необходимая сообщаемость теорий открывает, кроме того, интерсубъективное измерение: тот, кто формулирует теорию, уже признает тем самым минимальную этику интерсубъективного поведения. Наглядно это обнаруживается в случае долга быть честным: очевидно, что тот, кто без особой на то причины оставляет за собой право на ложь, вряд ли станет с самого начала сообщать, что он считает ложь позволительной; ведь наиболее эффективной ложь оказывается в том случае, когда другой считает лжеца честным человеком[30 - Ср. паскалевское 16-е письмо к провинциалу: Pascal, 1966, а также Фихте: Fichte, 1971, S. 287.]. Соответственно, теория, в которой ложь оправдывается без особого на то основания, не может быть сообщена – логика любой теории, к которой относится сообщаемость, принуждает к противоположному этическому предположению, т. е. к точке зрения, что ложь (за исключением особых случаев) непозволительна. В самом общем плане, в размышлениях такого рода заключена возможность обоснования универсализма.
Для кого эти, – признаемся, весьма абстрактные – аргументы в пользу неотвратимости нормативного не кажутся убедительными, тот мог бы поразмыслить о том, что оспаривание различия между нормативным и дескриптивным приводит к следующему выводу. Если бы какой-то реальной нравственности удалось утвердиться в глобальном масштабе, тогда бы не имело смысла в отношении к ней ссылаться на выходящую за ее пределы сферу морального; было бы совершенно бессмысленно характеризовать ее как «неморальную». Появись в свое время в распоряжении Гитлера атомное оружие, он бы, не раздумывая, его использовал и тем самым, пожалуй, выиграл бы войну. Национал-социалистическая нравственность, по всей вероятности, на долгое время определила бы собой ход мировой истории – с этим должен согласиться любой трезвый социально-научный анализ, и этике нечего возразить на это предположение. Но что представляется несносным в социологизме – так это то, что он вынужден идти на значительно большую уступку, утверждая, что Гитлер был бы тогда и в моральном смысле прав – а это высказывание значит существенно больше, чем упомянутое предположение. Тот, кто не желает капитулировать перед нормативной силой фактического, не может не признать трансцендентность морали по отношению к социальному. Кратологу совершенно ясно, почему все тоталитарные системы живо заинтересованы в отрицании любой трансцендентности морали[31 - Нигде этот интерес не изображается так ярко, как в «1984» Оруэлла; в осознании этого главного момента намного больше, чем в других высказываниях, заключена гениальность предложенной Оруэллом теории тоталитаризма.]. С философской же точки зрения понятно, что восстановление автономии морального по отношению к фактическому социальному миру является первостепенной задачей, с которой современная европейская культура даже после преодоления национал-социализма и коммунизма далеко еще не справилась.
Но даже если признается самостоятельная сфера морального, встает вопрос о соотношении этой сферы с другими сферами. Рассуждения системной теории о подсистеме морали внушают мысль, что хотя и может существовать нечто вроде морали, последняя, если ей угодно, должна заботиться о себе самой, а не о других социальных подсистемах вроде права, экономики и политики. В сравнении с этим, надо четко придерживаться того принципа, что к сущности морали относится претензия на оценку любого человеческого действия (и бездействия)[32 - Тем самым, однако, ни в коем случае не исключается существование морально безразличного.]. Хозяйственные практики, политические решения, правовые системы могут быть моральными или аморальными; и этика, избегающая их нормирования, придает безусловный характер морали как ее отличительный признак. Гипотетические императивы, с которыми имеют дело такие отдельные практические дисциплины, как медицина, техника или юриспруденция, всегда учат: «Если желаешь достичь здоровья, господства над природой или правовых гарантий, ты должен делать то или это». Напротив, сущность этики состоит в выдвижении следующего безусловного, категорического императива: «Ты должен делать то или это, совершенно независимо от того, чего ты можешь хотеть». Конечно, в условиях модерна этика должна понимать и в значительной мере (хотя и не полностью) легитимировать тенденции к автономизации отдельных подсистем общества. То, что экономика, прежде всего, заботится о своей платежеспособности – с этим морально можно согласиться, коль скоро только рационализация хозяйства делает возможным преодоление голода, а оно желательно и с моральной точки зрения. То, что армия первым делом стремится низложить противника, – это в справедливой войне следует только приветствовать. Однако решающим в моральном смысле остается то, что эти тенденции к автономизации, во-первых, имеют место ради легитимных целей и что, во-вторых, на их пути не приносятся в жертву блага и ценности, которые стоят выше, чем те, что образуют цели автономизации. Кто не готов и далее ставить вопрос о том, выполняются ли эти два критерия, – тот распрощался с моралью.
В связи с этим крайне важно понять, что моральное не может быть ни феноменом, понимаемым чисто дескриптивно, ни нормативной системой наряду с другими нормативными подсистемами. Поэтому следует считать недоразумением стремление противопоставлять моральным ценностям не-моральные – к примеру, эстетические, научные или созерцательные ценности. Это верно, конечно, что критерии для эстетической оценки художественных произведений не являются теми же самыми, что и критерии для моральной критики поступков. Однако создание художественного произведения, занятие наукой, даже созерцание – все эти действия как таковые подлежат моральной оценке. Это значит, с одной стороны, что с моральной точки зрения необходимо – ceteris paribus[33 - При прочих равных условиях (лат.). – Пер.] – заботиться о самоценности эстетически прекрасного. Эстетически одаренный человек действует в большей степени морально, когда развитию своих художественных талантов он отводит важную роль в своей жизни, чем когда он пренебрегает ими из-за своей лености. С другой стороны, это значит, что эстетические ценности должны сообщаться вместе с другими ценностями; а это с очевидностью возможно только на основе высших принципов, которые сами частными не являются. Мораль есть предельная легитимационная инстанция, определяющая отношение различных ценностей друг к другу. Но это было бы невозможно, если бы мораль была лишь нормативной подсистемой наряду с другими подсистемами, а не стоящей над ними самой общей системой. В таком случае можно было бы почти при любом преступлении ссылаться на неморальные ценности (эстетической, религиозной и т. д. природы) и во имя этих ценностей легитимировать собственный поступок[34 - Кьеркегоровский Авраам в «Страхе и трепете» есть ужасающий пример того, куда неизбежно заводит такое развитие. Ср. мой критический разбор этого произведения: H?sle, 1992, p. 1–26.]. Правда, утверждением противоположности между моральными и другими ценностями хотят высказать нечто верное, хотя и выражаются при этом неумело. В этой манере выражения «моральными» называются нормы, которые действуют в общении между нормальными людьми в обычных ситуациях; а нарушение этих норм во имя, как правило, не относящихся к этому общению ценностей (например, эстетических) подразумевается в том случае, когда говорят о конфликте между моралью и эстетикой. Правда, по терминологии данной книги ясно, что и другие, к примеру, эстетические блага тоже могут быть морально значимыми, если речь заходит о серьезном моральном конфликте. Приведем такой пример: высокоодаренному художнику или ученому многое прощается в межличностных отношениях, что не прощается другим; так, кажется мещанским, когда большого художника упрекают в нетрадиционной половой ориентации. Последнюю, пожалуй, можно оправдать тем, что одаренность почти принудительным образом связана с трудностями в поисках идентичности, а они придают эротическому поведению отклоняющийся от моральных требований характер. В этом могло бы заключаться основание для прощения. Об оправдании можно было бы говорить в том случае, когда то, что в моральном смысле следует оценивать негативно, уравновешивается посредством высокой ценности, приписываемой научным и художественным достижениям. И этим достижениям, значимым для всего сообщества, упомянутые аномалии, по всей вероятности, способствуют. Разумеется, это ни в коем случае не значит, что можно быть готовым все принять – убийство, к примеру, нельзя принять даже в том случае, когда можно показать, что оно вдохновило убийцу на грандиозное произведение[35 - Антагонизм искусства и моральных ценностей, накладывающих отпечаток на буржуазный образ жизни, играет большую роль начиная с XIX столетия. Возьмем, к примеру, Томаса Манна. Если его Тонио Крёгер вызывает симпатию, то Леверкюн явно переступает границу толерантности, проводимую даже для большого художника.]. И это не значит также, что любая посредственность может позволить себе предубеждение гения – как бы ни было распространено злоупотребление упомянутым аргументом в эпоху, которая утратила всякое чувство меры и в которой потому каждый может по образцу Раскольникова считать себя исключительной личностью.
3. Идеи к этике этики
Из сказанного следует, что «слишком много» моральных убеждений не бывает: ценность моральной сферы нельзя завысить, ее можно только сбить. Однако и часто раздающиеся жалобы на то, что можно было бы назвать «морализмом», затрагивают нечто важное. Но критиковать этот морализм законным образом может только сама мораль; и в расчет здесь может приниматься только самоограничение морального, а не ограничение его чем-то внешним – ведь это внешнее должно было бы тогда само удостоверять себя перед моралью. В этой связи представляется осмысленным требование «этики этики» [Ethik der Ethik] – как бы странно оно ни звучало поначалу[36 - Это требование не ведет к бесконечному регрессу, так как принципы «этики этики» тождественны с принципами этики «этики этики».]. Это требование с необходимостью следует из развитой нами выше теории дополнительности социального и идеального измерений. Так как этика – несмотря на идеальность своего предмета – реализуется как индивидуальное или социальное дело, она может и даже должна быть нормирована. Конечно, далеко не случайно, что в период больших онто- и филогенетических кризисов, которые представляют собой юность человека и эпоха Просвещения, идея «этики этики» не понимается; но того, кто осознал своеобразный бытийный статус нормативного и тем самым освободился от установившейся в обществе нравственности [Sittlichkeit], охватывает страсть к нормированию, делающая человека слепым по отношению к возможным негативным последствиям своей деятельности. Если в традиционных культурах, и даже еще в раннее Новое время [ср. также: Leibniz, 1978, Bd. I, 3, § 24][37 - См. также: Лейбниц, 1983, т. 2, c. 108. – Пер.], сознание социальной опасности философской (и в особенности этической) деятельности нашло отражение в эзотерических коммуникативных формах, то Просвещение, беспрепятственно популяризировавшее философию, напротив, отошло от такого сознания. Зрелость личности и культуры во многом относится к тому, в какой мере они постигают необходимость этически обоснованного самоограничения этики, т. е. необходимость этики этики.
Первый принцип этики этики имеет дело с отношением этика к его потенциальным слушателям. Устанавливать нормы для других людей часто в той мере затруднительно, в какой явное установление в большинстве случаев связано с неоправданным предположением, что другой человек попытается действовать наперекор этим нормам, или, в любом случае, сам до них дойти не сможет[38 - Не требуется какой-то особо глубокой психологической проницательности, чтобы осознать, что некоторые люди начинают морализировать только потому, что они чувствуют в себе самих склонность противиться требованиям морали. Стало быть, поводом для нормирования может быть не только недоверие по отношению к другим людям, но и недоверие по отношению к себе самому. И наоборот, можно позволить себе, как мой уважаемый друг Райнер Шюрман, смертельно опасную для принципов этики философию, потому что ее автор был одним из чистейших людей нашего времени.]; и требуется исключительный такт, чтобы избежать[39 - Ср. известную шелеровскую критику: Scheler, 1980, S. 211 ff., в особенности S. 220 ff. (См. также: Шелер, 1994, с. 259–338. – Пер.). Поэтому Сократ не учил этике, но ограничивался тем, что ставил некоторые вопросы. Однако следует также остерегаться и ложной скромности, которая может казаться еще более высокомерной, чем явное чувство превосходства; Сократу, во всяком случае, упомянутая ироничная скромность создала не только друзей. Из сказанного следует важная герменевтическая максима о том, что отсутствие оценки у какого-либо автора не позволяет заключить о его ценностно-нейтральной точке зрения. Фукидид всё бы испортил, напиши он в конце пятой книги, после краткого сообщения об убийстве (или порабощении) мелосцев: «Какими же злыми были эти афиняне!». Но великий художник Фукидид – а таковым тоже был этот основатель научной историографии! – напротив, сразу же после этого сюжета дает в Шестой и Седьмой книгах изображение сицилийской экспедиции, т. е. высшей и поворотной точки «Истории …», знаменующей крушение Афин. Тем самым Фукидид выразил (а не открыто сказал, как это сделал бы Тацит) две вещи: во-первых, что исторический закон действует так, что властно-позитивистская политика не создает друзей; и, во-вторых, что у Афин не было морального права жаловаться на свою катастрофу – как бы глубоко ни сочувствовал изгнанный афинянин Фукидид страданиям своего народа. – Ср. меткие замечания Гоббса во Введении к его переводу Фукидида: «Он никогда не делает отступлений с целью поучения; настолько ясно представляя перед взором человека пути и результаты добрых и дурных намерений, повествование само скрытно поучает читателя, причем делает это более эффективным образом, нежели это можно было бы сделать посредством наставления» [Hobbes, 1839–1945, Vol. 8, p. XXII; ср. также VIII].] этого предположения, подразумеваемого прагматикой нормирования[40 - Нормирование состоит не только из предложений, но и осуществляется в конкретных речевых актах. Это относится и к теоретико-познавательному нормированию. Если поразмыслить над этим, тогда разрешаются многие проблемы, обсуждаемые Витгенштейном в его работе «Об очевидности».]. Любые отношения наставничества вообще устанавливают асимметрию, которая часто неизбежна, но терпимой она является только в том случае, когда властью, ей данною, не наслаждаются заносчиво – в особенности, когда содержание преподаваемой этики носит универсальный характер. Ибо тогда налицо даже внутреннее противоречие. Так как этическая деятельность не является самоцелью, но нацелена на действие [ср.: Aristotle, 1894, 1103b, p. 26ff.][41 - См. также: Аристотель, 1983, т. 4, c. 79–80. – Пер.], этик должен, в самом общем смысле, пытаться действовать согласно своим собственным теориям. Это, конечно, верно, что этическая теория никогда не может быть опровергнута тем, что ее представители не ведут себя сообразно с этой теорией. Однако о специалисте по этике, поступающем таким образом, следует в моральном смысле судить еще негативнее, чем о нормальном человеке, действующем наперекор моральным требованиям – ведь этот специалист, из-за несоответствия между наставлением и жизнью, действует особо демотивирующим образом. Личные примеры не обосновывают значимости [Geltung] моральных суждений, но они гораздо глубже мотивируют к моральным действиям, чем самое завершенное рациональное обоснование. Сократ именно потому является идеалом философа, что он в двояком смысле соединил то, что у большинства позднейших этиков, к несчастью, распалось: он возвысил человека из традиционной нравственности к сфере строгих этических аргументов; и одновременно он был тем, что он требовал. По отношению к этому единству точка зрения, будто в этике речь идет лишь об анализе предложений, а также отказ персонализма от рационального обоснования в этике представляют собой одинаково неприемлемые односторонности.
Не так плохо, но столь же неприемлемо, когда этик, хотя и не поступает по-другому, чем он учит, воздерживается от любого действия, выходящего за рамки собственной этической деятельности. Ведь смысл бы этики подрывался, если бы человек всю жизнь размышлял о том, что же надо делать, прежде чем приступить к действию. Мы стоим здесь перед проблемой, которая как раз для этики Нового времени имеет громадное значение. Методическое сомнение, которое со времен Декарта мучит и продвигает вперед ново-временную философию, принуждает к дистанцированию от установившейся нравственности и к поиску рационального обоснования этики. Правда, этот поиск отчасти столь расточителен и в самом себе удовлетворителен, что может склонить к недоразумению (что, без сомнения, представляет собой большой соблазн для дискурсивной этики), будто разработка этики (а в перспективе – и общей метаэтики) есть подлинный моральный долг. Да, в просвещенных культурах, где претензия на рациональность сама выступает властным фактором, – там не всегда очевидная, но, во всяком случае, латентная функция этического дискурса может состоять именно в том, чтобы не приводить, например, к действию, а, напротив, чтобы от него удерживать. Кто не предается иллюзиям, тот обнаружит, что этикой в наши дни то и дело злоупотребляют в качестве упрека, чтобы задвинуть в долгий ящик необходимые, однако болезненные и непопулярные решения. Это часто имеет место во многих комиссиях по этике, создаваемых для оценки последствий технических нововведений. Эти комиссии, растущие в наши дни как грибы после дождя, выполняют, по сути, две функции. С одной стороны, они успокаивают общественное мнение, не делая, однако, ничего из того, что следовало бы делать. Во-вторых, они обеспечивают рабочими местами философов и специалистов в области общественных наук и тем самым покупают государству лояльность по принципам необычайно дорогой, в этом случае, социальной политики. Ибо чего же здесь лукавить: многие из экологических проблем позднеиндустриального общества можно решить с помощью простого рецепта – меньше потреблять. Но задача многочисленных и хорошо оплачиваемых этических дискурсов состоит единственно в том, чтобы отвлечь от этого средства; его простота сталкивается как с дискурсивными потребностями академиков, так и с интересами представителей статус-кво.
Нельзя, не впадая в противоречие с самим собой, отрицать того, что деятельность этика представляет собой морально осмысленную задачу. Однако отсюда не следует, что эта задача является высшей или даже единственной задачей: утверждать такое – значит абсолютизировать магический круг рефлексии, который хоть и является основополагающим, но всего в себе не заключает. Наверняка, идеальный человек будет наряду с моральными добродетелями обладать еще и этической добродетелью, т. е. способностью защищать моральные добродетели в рамках этической теории. Так, платоновский Сократ обладает одновременно и моральными, и этическими добродетелями. Однако это, во-первых, не значит, что этическая добродетель – т. е. способность к компетентной аргументации по моральным вопросам – освобождается от прочих моральных добродетелей. И, во-вторых, это не значит, что невозможно быть моральным человеком, не занимаясь этикой – это высокомерное заблуждение, которое встречается у некоторых этиков, но, к счастью, не у самых выдающихся. Было бы, например, в высшей степени неуместно, принимая во внимание святость Франциска Ассизского, сетовать на недостаток его аргументативной компетенции.
Однако человек как моральное существо не только должен делать намного больше, чем делает специалист по этике, – к примеру, поступать согласно своей этике. Даже самый выдающийся этик должен часто исполнять моральные обязанности, относительно которых у него еще нет разработанной этической теории, да, возможно, никогда и не будет. Правда, из рационалистического понимания этики вытекает, что все наши моральные обязанности, в принципе, можно систематизировать в рамках определенной этики. Но принципиальная возможность рациональной реконструируемости морали не означает, что эта мораль уже сейчас полностью реконструирована или что эта реконструкция будет завершена в исторически обозримом будущем. Именно поэтому первым шагом этика будет набросок «врйменной» этики, если в модифицированном виде воспользоваться известным термином Декарта[42 - О «morale par provision» Декарт говорит в третьей части «Рассуждений о методе» [Descartes, 1964–1967, Vol. 1, 6.22] (см. также: Декарт, 1989, т. 1, c. 263 и далее. – Пер.), а также в письме к Пико в начале французского издания «Первоначал философии» [Descartes, 1964–1967, Vol. 9, 2.15]). Там значится также, что разработанная этика является последней частью философии.]. Отказ удовлетвориться – хотя бы предварительно – временной этикой и продолжать думать о ней в ходе своей практической работы является аморальным, вопреки своему пафосу. Ведь этот отказ вытесняет то временное и конечное, что является нашим уделом и внутри чего разыгрываются все наши действия[43 - Временная этика нужна, впрочем, не только для того, чтобы еще до завершения сочинения об этике уметь действовать морально, – она нужна также и по внутриэтическим мотивам. Наукой (а этика – это наука) можно успешно заниматься только в том случае, когда у человека есть интеллектуальная цель, направляющая его работу. Великий математик должен уже догадываться о том, что он хочет доказать, до того, как он приступит к доказательству, причем идея доказательства часто является бульшей заслугой, чем техническая работа по ее исполнению. Тот, кто отказывается в философии жить с временными пробелами в доказательствах, никогда не создаст значительного произведения.]. Сама этика предписывает уравновешивать требования этики и требования действия; и в большинстве случаев (хотя и не всегда) оправдана та усмешка, которую у зрелого по ответственным делам практика вызывает профессор по этике, который сам ничего не сделал, зато желает объяснить практику, как делать надо. Поскольку действие предполагает прерывание объективирующей установки, которая возможна исключительно по отношению к прошлым действиям, постольку можно без обиняков сказать, что последний смысл этической рефлексии состоит в отключении (правда, всегда лишь временном) ее самой[44 - В этом смысле следует понимать известное изречение Гете: «Действующий всегда бессовестен, совесть может быть лишь у наблюдающего» [Goethe, 1991, Bd. 17, S. 758].].
Очевидно, что во время работы над этикой важным руководством может послужить моральный common sense, традиции собственной культуры, классики этической науки, а также формы жизни тех людей, которые отчасти непосредственно воспринимаются как примеры для подражания или признаются в качестве таковых на основе рациональной аргументации и при ссылке на некоторые их действия. Верно, конечно, что такое руководство не безупречно – здравый смысл может обманываться, традиции полны абсурда, классики заблуждаются, а великие моральные авторитеты тоже совершали ошибки. Однако и собственные этические усилия не без греха; по отношению к ним осторожность уместна не меньше, чем по отношению к традиции. И пока у человека нет настоящей уверенности в том, что его собственная этическая теория лучше, чем отличные от нее традиционные представления, он должен ориентироваться на эти последние. Правда, было бы абсурдно исключать возможность того, что этика может принуждать к исправлению расхожих моральных представлений – уже тем самым этика может способствовать моральному прогрессу. Впрочем, специалист по этике никогда не должен забывать, что способность просвещенных и тем более традиционных культур к позитивному осмыслению моральных революций, на удивление, ограничена. Он должен, где это только возможно, соединять свои новые моральные требования с фактической нравственностью, избегая видимости того, будто он не признает ее постоянно наличной, частичной моральной ценности[45 - Так, представляется сомнительным в моральном отношении, когда специалисты по этике первоначально занимаются исключительными ситуациями и пренебрегают нормальными случаями, для которых традиционная нравственность всегда может предложить более или менее разумные нормы. Любое, даже сколь угодно законное исключение может соблазнить к тому, чтобы применять его и к тем случаям, где оно не уместно. В этой связи чувствительность, с какой культура отражает, например, попытку «критически» подискутировать об элементарнейшем моральном запрете – убивать невинных людей, – хотя и не является знаком интеллектуального суверенитета, зато все же позитивнее, чем полное равнодушие по отношению к такого рода попыткам.].
На самом деле, моральные опасности этики не сводятся к тому возможному негативному выводу, что она при известных условиях удерживает от действия и обрекает культуру на гамлетовскую нерешительность. Ценность этической рефлексии часто оказывается даже по сути своей негативной в той мере, в какой она устраняет непосредственные моральные чувства, которым следует приписывать позитивную ценность. Идентификация с собственной культурой, фундаментальное доверие к окружающим людям, спонтанное желание активно вмешиваться там, где, как представляется, можно что-то изменить к лучшему, – все это может безвозвратно зачахнуть из-за определенной формы этической рефлексии. Критики этической рефлексии от Гегеля до Ницше не без основания сожалели об утрате этой милой спонтанности, утрате, которую мы повсюду замечаем в обществах с высокоразвитой рефлексией. Непревзойденным по своей абсурдности способом – поскольку здесь еще и основная ценность этики определяется материально ложным образом – ставится эта проблема в гедонистическом утилитаризме. Удовольствие есть не единственная и даже не высшая ценность. Однако в то время как самый строгий моралист не откажет в симпатии легкомысленному гедонисту (шекспировский Фальстаф, к примеру, есть вполне завершенная личность, при всех своих пороках), нет ничего печальнее, чем утилитарист, который, вооружившись линейкой, высчитывает максимум удовольствия, включая и кое-где необходимый для его достижения отказ. Самое ценное в чувственном наслаждении – это его жизненная спонтанность. Жертвовать им ради высшего – это достойно уважения с моральной точки зрения. Но отказываться от чувственного удовольствия ради удовольствия, рассчитанного посредством размышления, – это смехотворно. Ведь рефлектирующее удовольствие не является ни удовольствием, ни чем-то качественно более высоким, а есть лишь отвратительная смесь из удовольствия и самоотречения – пусть такое удовольствие и кажется единственно доступным для многих людей буржуазной эпохи [Scheler, 1980, S. 257 ff.][46 - См. также: Шелер, 1994, c. 325. – Пер.].
И все же следует особо указать на то, что ни один по-настоящему выдающийся этик (включая Канта) не был лишен той спонтанности, которая является неотъемлемой чертой великих личностей. Только часть размышления отчуждена от эмоциональной спонтанности: большим философом является тот, кто сделал размышление своей второй натурой и чья спонтанность проявляется как раз в живости его рефлексии. Также, прежде всего, из-за ценности спонтанности каждый разумный этик признает, что есть огромное число действий, которые не являются ни моральными, ни аморальными, но морально индифферентными[47 - Не признавать наличия морально индифферентного есть признак пиетистической религиозности. Каким бы важным ни было усиление внимания к моральному измерению собственных намерений, все же остается сомнительной концентрация на собственной субъективности, которая только из-за своей теологической легитимации не превращается в открытый нарциссизм.]. Нет, правда, ничего такого, что могло бы избежать моральной оценки. Несмотря на это, такая оценка может прийти к заключению, что отдельные действия или бездействия не являются ни плохими, ни хорошими, соответственно, что различные альтернативы являются равно хорошими. И даже там, где лучшая альтернатива сама по себе мыслима, может быть разумным отказ от ее поиска, а именно по двум основаниям. Во-первых, в том случае, когда при этом можно было бы, самое большее, выиграть лишь в моральных мелочах. А они не смогли бы уравновесить утрату естественной спонтанности, утрату, которой следовало бы тогда заплатить за упомянутый поиск. И, во-вторых, глядя на вещи реально, нужно исходить из того, что моральная (в особенности, альтруистическая) энергия каждого человека ограничена. Правда, она ограничена в очень разной степени, однако всегда ограничена. Поэтому вполне можно считать нормой морального благоразумия, когда человек концентрируется на главном, позволяя себе при этом, по крайней мере, более мелкие грехи бездействия. В любом случае, для каждого человека крайне важно понять, сколько у него моральной энергии, чтобы потом расходовать ее по возможности экономно[48 - Хотя экономика, как и любая человеческая деятельность, подвержена этическому суждению, это не мешает, с другой стороны, применить к этике экономические категории. Ибо экономическое мышление становится в том случае этически релевантным, когда речь заходит об обращении с ограниченными ресурсами; альтруизм является тоже ограниченным ресурсом. – О противоречивости понятия экономического ср.: Lasswell, Kaplan, 1969, p. 79.]. При завышенной самооценке можно упустить возможный оптимум, а собственная недооценка легко приводит к разным формам самообмана и нечаянному лицемерию.
В заключение следует указать на одну проблему, которая в действительности занимает первое место среди сомнений, высказываемых сегодня против проекта этики. Каждый человек, заботящийся о морали в собственных действиях, встает перед вопросом о том, как он должен вести себя по отношению к людям, которые не заботятся о ней сопоставимым образом. Без сомнения, при ответе на данный вопрос нас подстерегают опасности, причем опасности как индивидуально-этической, так и политической природы. Когда, к примеру, некто тайно (а иногда и не совсем тайно) радуется ошибкам других, дабы ярче осветить собственное совершенство, тогда это совершенство существенно уменьшается. Понимание этого даже для нехристиан остается одной из самых значительных и оригинальных идей в моральном завете Иисуса из Назарета, хотя многие христиане сами подвержены упомянутому искушению[49 - Особенно отвратительно, когда эта радость по поводу собственного совершенства связана с объективно ложной позицией, и когда даже существует обоснованное подозрение, что ложную, простоватую позицию занимают только из-за того, чтобы в моральном отношении казаться лучше противника. Наконец, совсем невыносимым этот морализм становится в том случае, когда атаки против морального самолюбия других становятся единственным средством для поддержания собственного самолюбия, причем одновременно человек формирует в себе убеждение, будто не существует вообще никаких объективных норм морали. Противоречие, заключенное в этой позиции, совершенно осязаемо, и признаком высокой степени культурного разложения следует считать ситуацию, когда в каком-либо государстве многочисленные органы общественного мнения получают возможность жить – причем явно хорошо жить – от такого рода установки.]. Для государства также крайне опасны непримиримость и клевета на противников во время ценностных конфликтов в политике, особенно, после победы какой-то одной партии. Но все это лишь означает, что подобное поведение не является моральным, даже если само оно и считает себя таковым; и это абсурдно, когда из критики ложных моральных убеждений делается вывод о «преодолении» морали. Утверждение о том, что с моралью должно распрощаться, есть в самом себе противоречие; ибо на каком же основании могло бы это суждение зиждиться, как не на той самой морали, от которой тут же хотят избавиться? Разумным будет аргументировать в том отношении, что мораль сама велит проявлять осторожность при наложении санкций – в особенности, санкций правовых, но также и моральных (к примеру, при лишении признания). Стремление осуществить определенные моральные требования посредством правового принуждения, без всякого сомнения, является аморальным; но часто и применение моральных санкций как публичного или приватного порицания тоже морально неприемлемо. Особенно поучительным примером такого рода является моральное осуждение человека, ставшего морально виновным в очень тяжелой ситуации, к примеру, в условиях неправового государства, человеком, который в подобной ситуации не находился и которому поэтому выпало на долю то, что было метко названо «моральным счастьем», «moral luck»[50 - Ср. сочинения Б. Уильямса: Williams, 1981, p. 20–39, а также T. Нагеля с подобным названием: Nagel, 1979, p. 24–38; на p. 34 находится пример с нацизмом. Подходы Уильмса и Нагеля, ставящие важную проблему, я, впрочем, разделяю лишь в весьма ограниченной степени, как это будет видно далее из моей защиты умеренного интенционализма.].
С одной стороны, моральное суждение о том, что в тоталитарных государствах многие люди стали виновными, является по существу верным. Однако, с другой стороны, это не значит, что всякий, кто такого рода вину только потому не принял на себя, что он никогда не был гражданином тоталитарного государства, имеет право высказать это суждение ставшему виновным. Из нормы, гласящей, что некто а должен делать нечто F, не следует, что у любого человека есть право высказать это в адрес а; отсюда даже не следует, что есть некто другой, помимо а, кто вправе, будучи не спрошенным, высказать это в адрес а. Принцип автономии требует, что в случае небольших моральных проступков каждый должен разбираться с самим собой, со своей жертвой или с человеком, которого он сам выбирает и, соответственно, которому он доверяет; и даже при серьезных проступках их критик должен быть квалифицирован посредством какого-то ведомства, особого отношения к виновному или посредством особого морального авторитета. Но даже и в этом случае необходим такт, т. е. та сдержанность, которая позволяет другому человеку самому узреть некоторые вещи[51 - Ср. прекрасные слова Гадамера: «В силу этого понятие такта невыразительно и невыразимо. Можно что-то тактично сказать. Но это всегда будет значить, что при этом что-то тактично обходят и не высказывают и что бестактно говорить о том, что можно обойти. Но "обойти" не означает отвернуться от чего-то; напротив, это что-то нужно иметь перед глазами, чтобы об него не споткнуться, а пройти мимо него. Тем самым такт помогает держать дистанцию, избегать уязвлений и столкновений, слишком близкого соприкосновения и травмирования интимной сферы личности» [Gadamer, 1975, S. 13] (см. также: Гадамер, 1988, c. 58. – Пер.).]. Это ни в коем случае не опровергает того, что качество какого-либо межчеловеческого отношения, к примеру дружбы, проявляется как раз в возможности завести в ее пределах разговор о слабостях другого; существенным, однако, остается то, что эта критика ведется внутри легитимирующих ее рамок. В противном случае можно сильно задеть чувство собственного достоинства, самоуважение виновного, без чего немыслимо его моральное улучшение[52 - Молодой Гегель ярко выразил этот момент следующими словами: «Каждый может такому (моральному критику) ответить: у Добродетели есть право требовать это от меня, а у Тебя – нет» [Hegel, 1969–1971, Bd.1, S. 438].]. Наконец, само собой разумеется, что учение о моральных санкциях, которое не допускает возможности морального раскаяния и не ведает понятия прощения, является в радикальном смысле незавершенным[53 - В самодовольстве, с каким наделенные «моральным счастьем» судят о ставших виновными, раздражает не только то, что подобные суждения они должны были бы лучше оставить тем, кто, будучи подверженными аналогичным испытаниям, эти испытания прошли (чего не скажешь о «морально счастливых»). Эти «счастливцы» не понимают также, что даже в грехе и преступлении можно обрести ту форму зрелости, о которой не ведает тот, кто никогда не искушался.].
В общем и целом, нетрудно понять, что все конкретные аргументы против морализации политики сами предполагают определенные моральные ценности, и сила убеждения этих аргументов зависит от признания указанных идеально значимых ценностей. Восходящее к Макиавелли убеждение, что многие из обычных индивидуально-этических норм действуют лишь тогда, когда их адресат живет в пределах порядка, гарантированного государственной властью, должно быть воспринято этикой самым серьезным образом. Когда признается, что идти на смертельные риски не является универсальным долгом и что, в особенности, уступки в отношении насилия и хитрости морально не желательны и даже, в общем, запрещены, тогда каждый разумный человек признает, что в состоянии, приближенном к естественному, действуют иные обязанности, чем внутри государства. Ведь в пределах государства человек защищен его принудительной властью; в естественном же состоянии добродушное доверие может легко привести к смертельным последствиям. Так как существование государственного порядка является предпосылкой вступления в силу многих, самих по себе желательных индивидуально-этических обязанностей, это означает, что основание государств является морально превосходной целью. И как раз в силу высокого морального значения этой цели борьба за ее осуществление может оправдывать употребление средств, которые непозволительно было бы применять для целей, менее достойных в моральном отношении. В любом случае, ясно, что поведение, ведущее к основанию государства, не может оцениваться по нормам, значимость которых уже предполагает существующее государство. Конечно, из сказанного следует лишь то, что для основателя государства, отчасти также для любого государственного деятеля, не имеют силы определенные обязанности, которые надлежит выполнять нормальному гражданину, – но отсюда еще ни в коем случае не вытекает, что упомянутые государственные мужи вообще не связаны моральными обязательствами. Только это последнее – полное отделение политики от морали – надо отвергнуть в качестве нигилистической установки. Напротив, в любой этике должна быть серьезно обдумана позиция, согласно которой политики освобождаются от некоторых индивидуально-этических обязанностей, если это необходимо для сохранения большего блага, чем то, что подразумевается в обязанностях. Политика может стоять над индивидуальной этикой – но специалист по этике не может, как таковой, от нее уклониться. Конечно, всеобъемлющая этика будет направлена как против тех, кто стремится отделить политику от морали, так и от тех моральных упростителей, которые пренебрежительно судят о политиках, живущих в более тяжелых условиях, чем они сами, и совершивших нечто в моральном смысле правильное, хотя и отклоняющееся от моральных представлений заурядных людей[54 - К. А. Д. Коди рассматривает три возможности, чтобы справиться с конфликтом морали и политики. Можно либо полностью отделить политику от морали, либо придерживаться мнения, что политика является в самой себе противоречивой, либо различать низшие и высшие моральные принципы. Для нас, разумеется, единственно возможным является третий путь [Coady, 1993].].
Аналогичное относится и к гоббсовским аргументам против морализации политики. То, что гражданская война является ужасным злом, означает, что есть моральный долг препятствовать ее наступлению (если не угрожает еще большее зло, чего ни в коем случае никогда нельзя исключать). Из этого следует, что на самом деле надо весьма осторожно обходиться с правом на сопротивление. Однако это не значит, что нельзя задаваться вопросом о том, какие законы собственного государства являются плохими по моральным основаниям; равно как это не значит, что нельзя в рамках легальных возможностей работать над изменением данных законов. Конечно, тот, кто вместе с Гегелем считает, что мораль нравственности состоит в недопущении абсолютизации морали, будет даже при легальной критике стараться избегать слишком сильных потрясений нравственности своей эпохи. Ведь такая абсолютизация может сильно и надолго затруднить коллективное действие и затруднить, помимо прочего, потому, что она ведет к упомянутому выше ядовитому моральному самомнению.
Глава 2. Деятельностный подход: мораль в структуре политических взаимодействий
Деятельностный подход к морали видит источник универсальности ее норм исключительно в социальности, во взаимодействии эмпирически наблюдаемых человеческих индивидов. Он отвергает любую попытку превратить мораль в метафизику, а фундаментальным категориям этики – добру и злу – приписать какой-то онтологический статус вне действующих людей. Ключевой категорией данного подхода является понятие деятельности, под которой понимается «специфически человеческая форма активного отношения к миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры» [Юдин, 1997, с. 246]. Актуализации этой категории в истории мысли способствовала «необходимость оправдать… соотнесение и связь в мысли таких разнородных предметов, как знания, операции, вещи, смыслы, значения, цели, мотивы, сознание и т. п.» [Щедровицкий, 1995, с. 233].
Смысл и содержание категории деятельности в истории научно-философской мысли
Исходные элементы деятельностного подхода были сформулированы уже в немецкой классической философии, прежде всего, в трудах И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинга и Г. В. Ф. Гегеля. Так, в «Наукоучении…» И. Г. Фихте чистой деятельностью выступало самоопределение Я (субъекта) посредством создания не-Я (объекта, противостоящего Я) на основе этических идеалов. Тем самым субъект сам производит себя в процессе деятельности: «Я полагает себя самого и оно есть только благодаря этому самоположению. И наоборот, Я есмь, и оно полагает свое бытие благодаря только своему бытию. Оно является в одно и то же время и тем, что совершает действие, и продуктом этого действия, а именно: действующим началом и тем, что получается в результате этой деятельности» [Фихте, 1995, с. 285]. Таким образом, в немецкой классической философии возникает одна из ключевых для деятельностного подхода в целом идея опосредования: «…Сознание и Я возникают и существуют лишь в результате деятельности по созданию внешнего объекта» [Лекторский, 2001, с. 78].