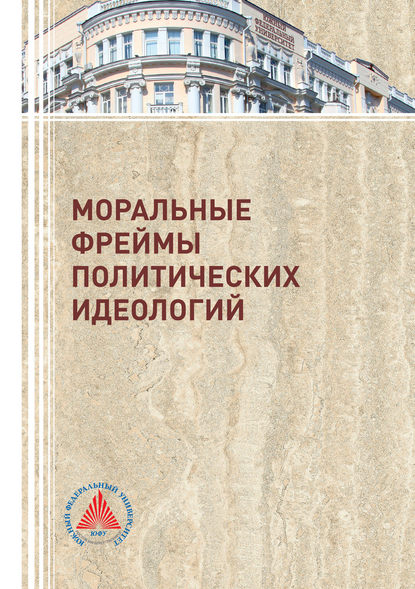По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моральные фреймы политических идеологий
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эти положения были в дальнейшем развиты в классическом марксизме. Наиболее важной идеей К. Маркса была трактовка деятельности как практики, предметной деятельности: «К. Маркс подчеркивает, что в созданном им предметном мире человек не просто удваивает себя… а впервые себя созидает. […Это] самоизменение возможно лишь через „изменение обстоятельств“, через предметную деятельность» [Там же, с. 77]. Особенно активно категория деятельности разрабатывалась советскими марксистами – психологами С. Л. Рубинштейном, Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпериным и др. и философами Э. В. Ильенковым, Г. С. Батищевым, Г. П. Щедровицким, Э. Г. Юдиным и др. Основы психологической теории деятельности были заложены в контексте разработки принципа единства сознания и деятельности. «Субъект в своих деяниях, – писал С. Л. Рубинштейн, – в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и формировать его самого» [Рубинштейн, 1986, с. 107]. Это позволило представить психику не просто как высший уровень отражения действительности, но как продукт активного целесообразного взаимодействия с ней.
Однако в этой версии деятельностного подхода существенным недостатком было то, что привилегированной формой деятельности признавался труд. И, действительно, деятельность, понятая как «социальная форма движения материи», «целенаправленное преобразование природной и социальной действительности», предполагает, что первичной формой такого преобразования, имеющей универсальный характер, является материальное производство [Деятельность…, 1990, с. 112, 143], а основной формой деятельности является труд [Юдин, 1997, с. 247].
Подобный функционализм не мог не наложить свой отпечаток на исследования морали и ее связей с политикой. Несколько упрощая, можно сказать, что проблемы отношений между моралью и политикой в контексте марксистской версии деятельностного подхода сводились к функционалистским трактовкам морали как способа нормативной регуляции [см., например: Дробницкий, 2002] и в своих самых крайних вариантах – к различным аспектам классовых отношений. Так, Л. С. Выготский понимал мораль как продукт социальной психологии, как «известную форму социального поведения, вырабатываемую и устанавливаемую в интересах господствующего класса, разную для разных классов» [Выготский, 1991, с. 250; курсив наш. – С. П. и М. К. ]. Данное определение связано с общей деятельностной установкой на отрицание абсолютного «корня морали» или какого бы то ни было врожденного морального чувства, фиксацию ее зависимости от исторических и социальных условий, что выражено в лаконичном определении: «…Моральное поведение есть поведение, воспитываемое таким же точно образом через социальную среду, как и всякое другое» [Там же, с. 252]. И, несмотря на то, что это определение фиксирует важный методологический момент, вводящий мораль в исторический и социально-культурный контекст, сведйние этого контекста к классовым отношениям имеет странное следствие, согласно которому в новом, бесклассовом обществе мораль исчезнет, она будет полностью растворена в социальном поведении: «Все поведение в целом станет моральным, потому что не будет никаких оснований для конфликтов между поведением одного лица и всего общества» [Там же]. Несмотря на логичность этого вывода из исходного определения морали, мы не можем согласиться с ним по причине его дискуссионности: исчезновение классовых противоречий отнюдь не означает исчезновения противоречий вообще, поэтому не означает и «отмены» морали.
В своих более сложных формах деятельностный подход в психологии не пытается редуцировать все богатство моральных отношений к классовым [см., например: Рубинштейн, 2012]. Однако в силу методологической специфики психологии деятельностный подход к изучению морали даже в самых сложных своих формах [см., например: Якобсон, 1984] реализуется в виде исследования психологических механизмов нормативной регуляции, структур морального сознания, морального развития и т. д. В рамках данного подхода были получены весьма важные результаты, но, учитывая методологическую специфику нашей работы, мы вынуждены согласиться с Б. Г. Капустиным: «…Из „устройства“ морального сознания невозможно вывести то, как оно функционирует в делах людей. Для понимания этого, видимо, нужна особая теория, а не прикладная проекция той же моральной философии, занимающейся „устройством“ морального сознания. Проекция способна обернуться лишь нравоучениями или „маниловщиной“, нас разочаровавшими…» [Капустин, 2004, с. 123–124]. В исследовании идеологий гораздо важнее понять, как связаны между собой моральное знание, моральный выбор и политическое действие на основе этого выбора, т. е. то, «как мораль участвует в формировании наших поступков, как она способна обязывать к действию» [Там же, с. 127], а не только то, как интернализуются этические нормы в процессе морального развития, и какие мотивы движут индивидом при принятии решений на основе усвоенных норм.
Поэтому в данной главе будут рассмотрены две версии деятельностного подхода, в которых осуществляется попытка создать «особую теорию, использующую знания, накопленные моральной философией, но не являющуюся простым „отростком“ последней» [Там же]. С одной стороны, это будет прагматическая концепция морали американского социального психолога Дж. Г. Мида, а с другой – концепция морального выбора в политике (политической морали) отечественного философа Б. Г. Капустина.
Прагматическая концепция морали Дж. Г. Мида
Деятельностный подход к этике в духе Дьюи и Мида развивает прагматическую концепцию морали, основу которой составляет анализ разрешения моральных проблемных ситуаций. В этом состоит отличие прагматически ориентированной этики от прескриптивной этики в духе кантовского формализма и вообще любой этики, опирающейся на Абсолют (в философском или религиозном смысле). С другой стороны, прагматическая этика (как и в целом деятельностный подход) отвергает чисто дескриптивную этику, этический позитивизм, который ограничивается описанием нравов и отказывается от (критического) обоснования универсалист-ских претензий этики.
Прагматический концепт морали выступает против двух крайностей: с одной стороны, утилитаристской этики в духе Бентама и Милля; с другой – кантовской формальной «этики убеждения». В утилитаризме решающим моментом действия выступает результат, и считается, что основой морали является наибольшее благо для наибольшего числа людей. Но эта основа оказывается совершенно внешней поведению отдельного человека, который в лучшем случае ритуально совершает морально значимые действия, но содержательно не связывает с ними своих эгоистических мотивов. Однако быть «альтруистом по соображениям пользы» – это скорее логический парадокс, чем моральная позиция. Кантовская этика тоже отрывает мотив от самого действия, хотя и на свой лад, сводя основу моральности не к результату (как утилитаристы), а к мотиву. Уже Шиллер критиковал кантовский категорический императив за недооценку моральных поступков, которые совершаются из склонности, а не из уважения к долгу. Здесь деятельностный подход в лице Дж. Г. Мида резонно указывает на то, что утилитаристская и формалистическая этика сходятся в гедонистическом концепте человека, который должен либо подавлять свои субъективные мотивы ради Долга, либо спокойно реализовывать их с уютно-утопической надеждой на достижение (когда-нибудь) «всеобщей пользы».
Разновидностью прагматического подхода к морали является интеракционистский концепт морали у Дж. Г. Мида. Американский философ связывал со своими известными понятиями «взаимодействия», «взаимного перенимания ролей», «Я-идентичности» и др. антропологические условия реализации любых моральных норм. По Миду, «именно способность человека ставить себя на места других людей дает ему образцы того, что он должен делать в той или иной ситуации» [Мид, 2009, с. 208]. В том числе и моральные образцы.
Для Мида мораль существует не на небесах и не в структурах мозга; она базируется на «деятельном сотрудничестве» людей как существ, наделенных разумом. Это сотрудничество образует символический универсум человеческой практики, который одновременно есть моральный универсум. «Мы – не странники и не чужаки. Мы – дома в своем собственном мире, но этот мир является нашим не потому, что мы его наследовали, а потому, что мы его завоевали. Тот мир, что приходит к нам из прошлого, господствует над нами и контролирует нас. Мы же подчиняем и контролируем мир, который мы открыли и изобрели. И это есть мир морального порядка» [Mead, 1968, p. 96].
Для Мида вся моральная проблематика функционально связана с действием, направленным на решение какой-то практической проблемы. Именно это действие есть источник моральной рефлексии, а не какие-то внешние для самого действия сущности. Соответственно, Мид переосмысливает традиционный для кантианства дуализм науки и этики. Этика оказывается теперь не метафизической, но эмпирически или даже экспериментально ориентированной дисциплиной, анализирующей и систематизирующей реальный опыт разрешения моральных проблем индивидами, попадающими в «моральные ситуации».
Как и для прагматизма вообще, для Мида необходимость морального поведения не может быть независимой от самого действия, чем-то производным от него, а не лежащим в его основе. В одной из своих статей Мид называет такую моральность «фокусническим трюком» и «социальной дрессурой» [Mead, 1964, p. 86]. Такое понимание морали упускает, по мысли американского философа, главное в ней – человека, который сталкивается с моральной проблемой в уникальной социальной ситуации.
По меткому замечанию Х. Йоаса, вопрос о правильном, но не заданном, а творчески найденном пути к исполнению долга взрывает все строение кантовской «этики убеждения» [Joas, 1980, S. 122]. Вопрос только в том, что значит этот «творческий путь». Для Мида это значит диалогический и ситуативно определенный характер морального дискурса.
В моральной ситуации нет готовых решений, к которым надо только «примкнуть». Казарменное послушание кантовской этики не имеет, по Миду, никакой моральной ценности. Морально ценным является рискованный выбор в условиях различных альтернатив действия. Но для этого требуется принять во внимание все ценности, задействованные в данной ситуации. «Учет всех ценностей» Мид понимает не в том смысле, что эти ценности надо как-то примирить между собой или найти нечто «среднее» между ними. Для Мида «учет всех ценностей» в моральной ситуации означает их рациональную проверку, понятую, прежде всего, как учет всех интересов, затронутых в данной ситуации [Mead, 1934, p. 386]. Позволим себе пространную цитату из «Фрагментов об этике» Мида, выражающую в сжатом виде суть его тезиса об «учете всех ценностей»: «Единственное правило, которое этика может нам предложить, гласит, что индивид должен рационально вникать во все ценности, проявляющиеся в связи с какой-то проблемой. Это не значит, что он должен разложить перед собой все общественные ценности, чтобы приблизиться к данной проблеме. Нет, сама проблема определяет ценности. Ведь это – особенная проблема, и существуют определенные интересы, которые недвусмысленно при этом затрагиваются. Отдельный индивид должен все эти интересы учитывать и выстраивать затем план действий, который рационально занимается этими интересами. Это – единственный метод, который может предложить этика отдельному человеку. Крайне важно при этом, чтобы человек определял, что в данной ситуации составляет соответствующие интересы. Важно также, чтобы человек оценивал эти интересы беспартийно» [Ibid., p. 388].
Беспартийность истинной моральной позиции означает для Мида, что следует и тогда признавать интересы других людей, когда они противоположны твоим собственным интересам, и что человек, следующий этому правилу, не жертвует собой, но обретает более широкую идентичность, расширяет масштабы своего «Я» [Ibid., p. 386].
Но это расширение есть мучительный процесс, потому что он означает не просто «дискурсивное дефилирование» каких-то ценностей, а творческое рождение их через опыт людей, попавших в морально проблемные ситуации. Здесь видно, что Мид (как и в целом прагматическая этика) не приемлет ни субъективистской, ни объективистской трактовки ценностей. Оценивание есть функция человеческих «интеракций», вне человека или до человека (в Боге или в природе) ценностей нет. Собственно моральные ценности есть кристаллизация опыта разрешения моральных ситуаций.
Подлинно «моральная ситуация» возникает, по Миду, в том случае, когда ценности действующего человека приходят в столкновение друг с другом. И никто, кроме самого человека, этот ценностный конфликт разрешить не может. Его, как и смерть, невозможно переложить на чужие плечи. Этические проблемы могут быть коллективными, но и в этом случае составляющие коллектив люди порознь сталкиваются с определенной общественной ситуацией, на которую они не могут реагировать автоматически, которая каждого из них ставит в тупик.
Анализ «моральной ситуации» составляет концептуальное ядро Мидовской этики. Моральная ситуация означает кризис всей личности, потому что «моральной проблемой затрагиваются конкретные личные интересы, и… в этом случае реконструируется все Я целиком в его связи с другими Я, отношения с которыми существенны для его личности» [Мид, 2009, с. 43].
Настоящие ценности – это не то, что начертано на скрижалях или выставлено в рамке на всеобщее обозрение – подобно тому, как настоящий язык – это не совсем то, чем заполнены словари. Мидовские «ценности» живут стихией дискуссии, аналогичной судебным процессам. «Мы обнаруживаем в моральной рефлексии конфликт, в котором некоторые ценности находят своего глашатая (адвоката. – С. П. ) в старом Я или доминирующей части старого Я, в то время как другие ценности, соответствующие другим тенденциям и импульсам, возникают в оппозиции им и находят для представления собственных доводов других глашатаев» [Там же, с. 42].
Прохождение через моральную ситуацию – это трансформативный опыт человеческого сознания. «В каком-то смысле старое Я распадается, и из морального процесса возникает новое Я» [Там же, с. 41]. Ре-интеграция личности происходит посредством формулировки новых ценностных критериев, которые более адекватны социальной ситуации, чем предшествующие.
Прагматическая модель морали неизбежно перетекает в сферу политической морали, потому что политика непрерывно создает «моральные ситуации». С другой стороны, моральная эволюция каждого человека означает расширение сообщества, в рамках которого он проживает свои моральные ситуации. Вначале это семья, потом образовательные и профессиональные коллективы, затем уровень народа (нации) и, наконец, масштабы всего человечества. Для Мида человек при этом продвигается не просто к более широким, но и к более совершенным концептам социальной организации, с позиций которых он потом оценивает свое индивидуальное поведение. Хотя американский философ не оставил детально разработанной теории ступеней морального развития, он серьезно повлиял на становление теории моральной социализации, в частности, на Лоренса Кольберга [Joas, 1980, S. 228].
Прагматический концепт морали подчеркивает, что социализацию посредством моральных ситуаций переживает не группа как таковая, а составляющие ее индивиды. И когда социологи или политологи констатируют, что данная группа перешла от одних моральных ценностей к другим, то фактически это значит, что имел место определенный (возможно, весьма длительный) «моральный процесс», в ходе которого вначале появились отдельные индивиды, которые стали олицетворением нового морального порядка. Каждый из этих моральных «первопроходцев» понимает себя как человек, уже принадлежащий другому, более высокому общественному порядку, приходящему на смену порядку старому. «Конечно, есть эволюционные изменения, которые протекают без реакции отдельной личности. Но моральные изменения суть как раз таковы, что они осуществляются только посредством действия самого индивида» [Mead, 1934, p. 386].
Ради нового общественного порядка «отдельный человек может достичь точки, где он встанет наперекор всему миру, один на один с миром» [Ibid., p. 168]. И это не будет проявлением его себялюбия, но сохранением его самоуважения и реализацией его гражданского права – изменять (улучшать) существующие социальные нормы. С этим правом Х. Йоас связывает характерную для Дж. Г. Ми-да «политизацию универсалистской этики» [Joas, 1980, S. 138].
Позволим себе еще одну превосходную цитату из Мида, в которой излагается диалогическая суть такой этики. «Мы не просто связаны сообществом. Мы находимся в диалоге (conversation), в котором сообщество прислушивается к нашему мнению, и это влияет на его реакцию. Человек встает и оправдывает свои поступки. Это его присутственный день в общественном „суде”, он может изложить свои взгляды и, возможно, изменить по отношению к себе позицию сообщества. Диалог (process of conversation) предполагает, что у отдельного человека есть не только право, но и обязанность обращаться к сообществу, членом которого он является, – чтобы вызывать те изменения, которые осуществляются посредством согласованных действий индивидов. Это и есть тот способ, каким развивается общество, а именно развивается посредством взаимного влияния, которое осуществляется там, где человек продумывает что-то до конца. Мы в некоторых аспектах постоянно изменяем нашу общественную систему, и мы можем делать это разумно, потому что мы способны мыслить» [Mead, 1934, p. 168; курсив наш. – С. П. и М. К. ].
Политизация универсалистской этики тесно связано у Мида с его работами по карательной ювенальной юстиции, а также по проблемам патриотизма. Патриотизм интересен американскому ученому как опыт реального морального единения людей, наряду с аналогичным опытом в мировых религиях и рабочем движении. Но самым главным моральным объединителем человечества Мид считал рынок, обнаруживая в этом вопросе некоторое сходство с марксистской традицией. Х. Йоас и в самом деле сближает эти мысли Мида с марксизмом, точнее, с представлениями молодого Маркса о коммунизме как завершенной демократии [Joas, 1980, S. 138]. Однако самостоятельная роль морали в Мидовском понимании не позволяет отождествить его позицию с марксистским, тем более большевистским пониманием этики. И здесь опять-таки обнаруживается специфика деятельностного подхода, развиваемого Мидом и прагматизмом в целом.
Йоас упоминает в своей книге интересный эпизод из полемики между прагматической философией в лице Дж. Дьюи и большевизмом в лице Троцкого. Джон Дьюи ответил небольшой статьей на брошюру бывшего комиссара красной республики «Их мораль и наша». Заметим, что в своей брошюре Троцкий энергично возражает против отождествления его со Сталиным на основе общего для них революционно-прагматического принципа «цель оправдывает средства». Троцкий, размышляя над этой максимой, замечает: «Средство может быть оправдано только целью. Но ведь и цель, в свою очередь, должна быть оправдана. С точки зрения марксизма, который выражает исторические интересы пролетариата, цель оправдана, если она ведет к повышению власти человека над природой и к уничтожению власти человека над человеком» [Троцкий, 1990, с. 123]. Троцкий критикует этический абсолютизм с точки зрения классовой (пролетарской морали). Дьюи разделяет критику абсолютистской (внеисторической) этики, однако резонно указывает на этический редукционизм большевиков, заменяющих принцип Божественного откровения исторической Логикой, от имени которой они готовы чинить любой моральный суд. Ортодоксальный марксизм, считает Дьюи, онтологизирует этические ценности на манер религий или старого идеализма.
В целом, диалогический концепт морали, развиваемый Дж. Г. Мидом, уходит далеко от узких (позитивистско-эмпирических) рамок бихевиористской традиции, зато приближается к классическому пониманию политики как опыту реализации этики в публичном пространстве полиса. Поэтому неслучайно Мид связывает свой моральный идеал с прямой демократией, подразумевая под ней общественный порядок, в котором нет неизменных структур, включая каталог общественно-политических добродетелей.
Концепция политической морали Б. Г. Капустина
Оригинальный подход к исследованию «„алгоритмов“ функционирования морали в современной политике» [Капустин, 2004, с. 125] предложил отечественный политический философ Б. Г. Капустин. В некоторых аспектах его концепция перекликается с прагматической концепцией Дж. Г. Мида, но имеет и свою специфику. В объяснении взаимоотношений между моралью и политикой Б. Г. Капустин тоже считает неприемлемыми как традиционный нормативистский подход, так и утилитаристские объяснительные модели[55 - Позицию политического имморализма Б. Г. Капустин вообще не считает нужным рассматривать, поскольку этот имморализм может быть каким угодно, только не политическим: «…Без принятия моральной точки зрения мы оказываемся неспособными вынести суждение по важнейшим политическим вопросам, следовательно, мы оказываемся неспособными к действиям, направленным на предметы этих суждений» [Капустин, 2004, с. 144–145].]. Его аргументация основывается на нескольких исходных дистинкциях. Во-первых, необходимо различать два типа политики в соответствии с критериями ее темпоральности и способов участия в ней человеческого разума: «большую» и «малую». «Малая политика» характеризуется самовоспроизводством всех базовых институциональных структур общества и предстает в виде рутинной деятельности. Будущее в ней присутствует лишь потенциально, она есть «поле настоящего, проецируемого на будущее в виде экстраполяции, но также на прошлое – в виде его колонизации настоящим, выстраивания истории по образцу лестницы, ведущей к настоящему…» [Капустин, 2004, с. 54]. Соответственно, в «малой политике» разум предстает в инструментальной своей ипостаси, – как калькулирующий, соотносящий вред и пользу и максимизирующий последнюю. Из этого ясно, что мораль в этом типе политики выступает в виде различных версий утилитаризма, он «буквально пронизывает „малую политику“» [Капустин, 2010, с. 353].
«Большая политика», напротив, характеризуется неопределенностью, она есть «закладывание новых начал, новых правил новой игры. Эти новые правила не вытекают логически ни из старых правил, ни из рутинного функционирования вновь сложившейся политической структуры» [Там же, с. 354]. В ситуациях революций, чрезвычайного положения или общественных катаклизмов будущее в политике присутствует актуально, отрицая настоящее; под вопрос ставятся самые основания политики, общества, институциональных структур, моральных принципов и т. д.; в ситуации неопределенности будущего резко возрастает роль ответственного политического и морального решения. Поэтому утилитаристская этика и ориентированный на факты инструментальный разум находят здесь свой предел. Напротив, «моральный разум кантианского типа снимает неопределенность будущего не через познание фактов, наличных и возможных в будущем, а через абсолютное предписание действовать, несмотря на их неизвестность» [Капустин, 2004, с. 56]. Таким образом, в первом приближении кантовская этика оказывается предпочтительнее в объяснениях взаимоотношений морали и политики, чем утилитаристская.
Однако следующее различение – типов жизненных позиций отстраненного наблюдателя за политикой (созерцателя) и ее активного участника (деятеля) – демонстрирует неприменимость кантовской этики[56 - «Созерцательная мораль в её теоретическом выражении, т. е. как чистое знание, – произведение знатоков или экспертов по морали. Однако это не нужно понимать так, как будто она выдумана ими то ли как продукт „профессионального] в объяснениях взаимоотношений между моралью и политикой. Этот вывод следует из анализа политических последствий кантовского категорического императива о необходимости относиться к «другому» только как к цели, а не как к средству[57 - «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» [Кант, 1965, т. 4, ч. 1, с. 270].]. «Следуя этому императиву, – замечает Б. Г. Капустин, – „относиться“ к „другому“ можно безрезультатно, т. е. не меняя реальное положение „другого“, если угнетатель или неблагоприятные обстоятельства уже редуцировали угнетенного к роли „средства“» [Капустин, 2010, с. 356]. То есть фактически в такой трактовке моральной философии И. Канта речь идет о выражении сочувствия политическим делам, а не участии в них. Но возможна и другая интерпретация, достаточно лишь изменить позицию созерцателя на позицию деятеля: «…Тот же императив можно понять как предписание не допускать отношения к другому только как к средству или (что то же самое) деятельно утверждать другого в качестве цели. Следование так понятому моральному долгу непременно заставит поступать вопреки тем, кто аморально сводит „другого“ к роли только средства. Поскольку моральный долг предписывает действовать, невзирая на последствия, мы должны любой ценой… сопротивляться попранию человеческого достоинства „другого“ и его превращению в „средство“» [Там же, с. 357; курсив наш. – С. П. и М. К. ].
Как можно заметить, здесь изменяется само содержание понятия «долг», который в кантианской созерцательной позиции определялся как «необходимость [совершения] поступка из уважения к закону» [Кант, 1965, т. 4, ч. 1, с. 236]. В позиции же деятеля «долг» понимается не автаркически, – с точки зрения изолированного сознания, – а как «определенная модальность реального отношения», которая требует на другой своей стороне партнера, спо-кретинизма“, то ли как инструмент легитимации их позиции в социальной иерархии власти, статусов и доходов. Дело обстоит гораздо сложнее. „Моральное знание“ есть концептуальное и систематизированное выражение обыденного созерцательного сознания, обусловленного приватно-деполитизированным, а потому социально бездеятельным способом существования его носителей» [Капустин, 2004, с. 85– 86]. Кант, согласно Б. Г. Капустину, – «абсолютный зритель, не смеющий и думать о каком-либо практическом участии в делах, даже вызывающих его столь горячий энтузиазм и сочувствие, как Французская революция» [Там же, с. 91].
собного к установлению такого же отношения [Капустин, 2004, с. 67]. Как следствие, «ключевым условием исполнения долга является рефлектирующее определение и того, с кем я имею дело… и моих обязательств в отношении его» [Там же]. Здесь важнейшее значение приобретает самоопределение человека действующего, в нескольких аспектах: в отношении морали («он выбирает руководствоваться моралью, хотя может выбрать иное»), в отношении долга («выбирает те обстоятельства, которым он в данной ситуации „здесь и сейчас“ придает значение „абсолютного долга“»), в отношении жизненной ситуации («моральное сознание… [есть] решение, обусловленное „эмпирическими“ обстоятельствами жизни человека») [Капустин, 2004, с. 77]. Следовательно, существенно изменяется понимание морали и морального/политического действия: «Мораль оказывается особой стратегией преобразования или преодоления такой ситуации» [Там же].
Таким образом, рассмотренным двум типам политической морали Б. Г. Капустин противопоставляет мораль деятеля, активного участника политики. Исходной гипотезой концепции Б. Г. Капустина является предположение о том, что моральная рефлексия актуализируется в политической практике некоторыми конфликтными ситуациями, возникающими на основе неразрешимых посредством разума политических проблем или противоречий. Мотивируя политическое действие, эти ситуации выступают в роли «„механизмов запуска“ морального мышления» [Там же, с. 245]. Особенность этих проблемных ситуаций состоит в том, что они не могут найти своего разрешения без опосредования моралью, которая в данном контексте приобретает свойство аристотелевской причинности, выполняя функции абсолютного долженствования и целеполагания, «выходящего „по ту сторону“ наличной действительности» [Там же, с. 6].
Содержание политической морали Б. Г. Капустин раскрывает посредством ее противопоставления профессиональной этике, политической этике и «общечеловеческой морали». В отличие от профессиональной этики, политическая мораль имеет претензии на универсальность в рамках коллективного целого – класса, нации, человечества и т. д., – а не узкопрофессиональных групп людей. Поэтому для профессиональной этики характерно представление о плюрализме нормативных правил для различных профессий; универсализм же политической морали требует преодоления морального плюрализма, рассматривая его как «сумму заблуждений» [Там же, с. 249]. С другой стороны, профессиональная этика не предполагает саморефлексии, автономии и свободы, характерных для морали вообще; она есть лишь свод предписаний, выражающих условия воспроизводства конкретной профессиональной группы. «Мы же будем вести речь, – пишет Б. Г. Капустин, – не о профессиональной деятельности, а о деятельности граждан, не о том, что они требуют, а о том, как они на деле осуществляют свои требования. Соответственно, мы будем исследовать универсальные, а не специфические „проявления“ морали в разных контекстах борьбы…» [Капустин, 2004, с. 125].
Отличия политической морали от политической этики сводятся к следующему. Обе представляют собой нормативные ориентиры, но политическая этика ориентирует коллективное действие, а политическая мораль – индивидуальное мышление. Первая опредмечивается в институциональных структурах общества, политическая же мораль этой способностью не обладает, она лишь направляет индивидуальную рефлексию по отношению к результатам этого опредмечивания. Субъектами и носителями политической этики выступают участники коллективного действия в публичной сфере, в то время как политическую мораль практикуют политически инертные частные лица, не покидая приватной сферы. Однако все это не означает «снятия» в гегелевском смысле политической морали в политической этике, напротив, они связаны «сложными отношениями сосуществования, частичного перетекания одного в другое и обратно, столкновений и взаимодополнений, причем все это обусловлено… ситуативно меняющимися обстоятельствами» [Там же, с. 253].
Заметим далее, что на протяжении большей части истории политической мысли доминировало представление о том, что политическая мораль есть специфическое приложение «общечеловеческой» морали к делам политики. Однако это есть серьезное заблуждение, поскольку между политической моралью и «общечеловеческой моралью» есть существенные различия. Существует множество видов нормативных моделей морали и моральной рациональности [см., например: Апресян, 1995], для каждой из которых характерны собственная структура, логика оценочных суждений, отношения к действительности и т. д. Политическая мораль, несмотря на ее претензии на универсальность, тоже весьма разнообразна. Но это разнообразие обусловлено не проекцией на политику различных систематизированных концепций морали, а разнообразием оценок политических явлений и трактовкой моральных проблем участниками политики: «Для понимания политической морали особой и важной проблемой является то, каким образом разные политические ситуации или коллизии… активизируют в сознании разных групп людей „коды“ тех или иных видов морали в качестве преобладающих в данный момент… какие явления, отношения, институты и почему оказываются в данном обществе и в данной исторической ситуации оказываются моральными проблемами, а какие – нет» [Капустин, 2004, с. 258–259].
Кроме того, в отличие от «общечеловеческой морали», политическая мораль не есть самозаконодательство, в смысле предъявления требований самому себе; напротив, выдвигает требования для других – представителей власти, политических противников и т. д. Важной особенностью политической морали в данном аспекте является то, что «не мы, а другие несут ответственность за исполнение требований политической морали. Но судить о моральном качестве такого исполнения будет не их, а „наше“ нравственное сознание» [Там же, с. 262]. К этому добавляется еще одно отличие: «общечеловеческая мораль» претендует на представление «разума вообще», в то время как политическая мораль всегда «авторизована», она говорит от имени «мы», обращаясь к «они», на основании универсальных ценностей добра и зла. Из этого следует, что универсализм политической морали и «общечеловеческой» имеет важные различия: «Универсализм последней направлен на мотивацию – все люди должны иметь ее в качестве „руководства к действию“; универсализм первой направлен на следствия – все действия некоторой группы людей – политиков… должны давать определенные результаты (безопасности, благополучия, защиты ценностей и т. д. данного сообщества» [Там же, с. 263].
На основе проведенных дистинкций Б. Г. Капустин формулирует определение политической морали, дополнив определение, предложенное американским политологом С. Льюксом: политическая мораль есть «совокупность принципов, описываемых на весьма абстрактном уровне, которые лежат в основе различных частных политических позиций» и являются «конститутивными», т. е. теми, что «ценятся сами по себе» [Там же, с. 272]. К этому необходимо добавить, что «для политики нет предпосланного ей „морального консенсуса“» [Капустин, 2004, с. 274] и по этой причине возникает необходимость говорить о различных моделях нравственной рациональности.
Из вышесказанного понятно, что интеллектуальная традиция, разводящая мораль и политику по «разным мирам» и ставящая задачу применения моральных норм к политической деятельности, не в состоянии дать удовлетворительного объяснения всех сложностей отношений между моралью и политикой: «…Применение морали к политике в любом варианте, т. е. то или иное соотнесение их как двух внешних миров, не может не приводить и к ошибочным представлениям о политике… и к выхолащиванию моральной теории, к потере ею того ядра, которое заключается в ее обязательстве отвечать на вопрос „что я должен делать?“, и к сведйнию ее к академическим упражнениям на тему обоснованности моральных суждений» [Там же, с. 246]. Напротив, согласно Б. Г. Капустину, моральный выбор и политическое действие связаны друг с другом: проблемные политические ситуации инициируют моральное мышление, результаты которого реализуются в политической практике. В таком понимании политическая мораль оказывается не предпосланной политике, как это предполагалось морализаторскими теориями морали, напротив, она зависима от политики, она есть «продукт „большой“ политики и сама есть „большая“ политика» [Там же, с. 79]. Но здесь требуется одно уточнение. Мораль, в представлении Б. Г. Капустина, зависит от политики, но не тождественна ей. Противное означало бы политический аморализм, который ничуть не лучше политического морализаторства. Б. Г. Капустин подчеркивает, что мораль противоположна политике и именно поэтому возникает необходимость их сопряжения [Капустин, 2010, с. 347].
Ключевой проблемой, выявляющей противоположность морали и политики, согласно Б. Г. Капустину, является проблема насилия. Политика связана с властью, которая по определению предполагает принуждение. Мораль же представляется добровольной саморегуляцией на основе универсальных принципов: «Принцип добровольности морали, таким образом, оказывается в прямом противоречии с принципом власти и принуждения, без которого политика не есть политика» [Капустин, 2010, с. 348]. С другой стороны, насилие уничтожает в человеке способность оценивания самого себя, общественных институтов, политической деятельности и т. д. с позиций добра и зла, разрушая тем самым основания самой политики [Арендт, 2000, с. 229 и след.]. «Здесь и возникает, – заключает Б. Г. Капустин, – с особой остротой вопрос о сопряжении политики и морали как „последнем рубеже“ обороны человеческого в человеке против политики, превращающейся в чистые технологии манипуляции. В этом смысле, мораль, сопротивляясь такому перерождению политики, необходима последней для того, чтобы она могла оставаться самой собой» [Капустин, 2010, с. 348].
* * *
Подводя итог нашему рассмотрению методологической специфики деятельностного подхода, можно сделать следующие выводы. Основные постулаты деятельностного подхода к исследованиям отношений между моралью и политикой выражаются в следующих тезисах: моральные нормы не имеют метафизического статуса; нормы возникают в процессе взаимодействия людей и потому амбивалентны: они есть способ изменения как субъекта деятельности, так и окружающей его действительности; нормы интернализуются в процессе морального взросления индивида, однако не остаются данными раз и навсегда, они изменяются в деятельности; моральное сознание есть не просто высший уровень отражения действительности, но и саморегуляции всей жизни человека.
Фактически, деятельностный подход к пониманию морали означал начало постметафизического поворота в исследованиях этики. Этот поворот заключается «в отказе от сведйния всего ценностно-императивного содержания морали к идеалу и „высшим ценностям“, в рассмотрении морали в контексте различных гедонистически-перфекционистских, коммуникативных, коммунитарных, общественных практик, в перенесении акцента в этическом рассмотрении с Я на отношения Я – Другой/Другие, в признании легитимности разнообразного (в определенных ценностных границах) морального опыта и т. д.» [Апресян, 2009, с. 487]. Говоря иначе, в подходе Дж. Г. Мида и Б. Г. Капустина появляется некоторая специфика, по сравнению с «традиционным» деятельностным подходом: здесь уже не просто исследуется, как происходит становление морального сознания в процессе деятельности индивида и какое значение имеют этические нормы в данном процессе, но и осуществляется попытка объяснить, почему одни и те же моральные принципы приводят к различным результатам в политической деятельности.
Суть проблемы заключается в том, что «мораль не движет политикой… на ее основе нельзя объяснить важнейшие поступки и решения людей. Более того, нужно признать, что теория морали не в состоянии показать даже то, как действует само моральное сознание. Она проходит мимо того, почему и вследствие чего люди встают на моральную точку зрения, что заставляет их фокусировать „моральный взор“ на одних предметах и не замечать другие, к чему приводит моральное рассмотрение этих предметов, дающее столь различные результаты в разных ситуациях (от замыкания в себе до участия в революции)» [Капустин, 2004, с. 132]. Попытаемся дать ответы на поставленные вопросы в следующей главе.
Глава 3. Моральные концепты политических идеологий: специфика концептологического подхода
Момент оглядки
ХХ век обычно определяют как эпоху ГУЛАГа и Освенцима, Хиросимы и красных кхмеров. В первом случае государство осуществляло насилие над обществом под прикрытием ленинско-сталинской версии марксизма, во втором – под знаком национального социализма, в третьем – для защиты демократических ценностей от «желтой угрозы», в четвертом – ради построения общества по рецептам маоистской версии марксизма. Значит, разные политические идеологии могут обосновывать государственное насилие. В ХХ веке оно стало тотальным. За неимением места мы не рассматриваем здесь ситуацию в странах Азии, Африки, Латинской Америки, но и там существуют свои варианты обоснования насилия с помощью политических идеологий («чучхе», исламского социализма, негритюда, перонизма и пр.) [Кальвокоресси, 2003].
Невозможно начать исследование поставленной проблемы «с самого начала», пренебрегая прежними выводами. Скажем о них предельно кратко.
В 1992 году была опубликована книга, в которой проанализирована теория Карла Маркса и ее интерпретации в трудах В. И. Ленина, И. В. Сталина, Мао Цзедуна, Ж. Сореля, Э. Блоха, Д. Лукача, А. Грамши, Л. Гольдманна, К. Корша, Г. В. Плеханова и др. В ней показано, что связь идей марксизма с властью оказалась губительной для теории Маркса. Кроме того, отмечалось, что официальный марксизм в наше время пытается создавать идеологические гибриды с либерализмом, национализмом, этатизмом и анархизмом. Любыми способами он пытается сохранить оптимистическую веру в то, что все человеческие проблемы могут быть решены немедленно. И только злонамеренность тех или иных «врагов» не позволяет применить эти решения на практике. Марксизм уже не в состоянии ни объяснять, ни изменять мир. Он все более становится вспомогательным средством для идеологий, которые служат для организации различных интересов. Эти интересы не имеют ничего общего с интересами пролетариата, с которым идентифицировался марксизм в период своего возникновения. Шансы создания такого движения, которое было бы в состоянии защищать интересы угнетенных людей во всем мире и в каждой отдельной стране, сегодня практически нулевые. В марксизме было выражено традиционное стремление людей и классов к самообожествлению. Вслед за другими индивидуальными и коллективными иллюзиями марксизм оказался фарсовой стороной невежества и бед человечества в ХХ веке [Макаренко, 1992, с. 463–464].