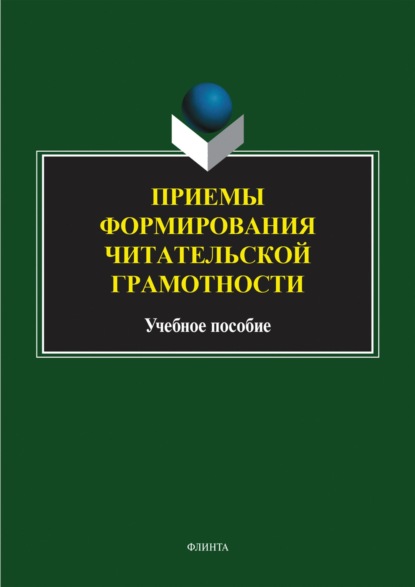По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Его величество случай. Роман в рассказах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Милая бабушка, ей тогда было пятьдесят, в цветном сарафане с неизменной брошкой, причёсанная, бровки и губки подведены, ласково смотрит на внучку бесконечно добрыми серо-карими глазами. Слышно кудахтанье кур у соседки Дуни, лай собак. В золотистом воздухе проносятся две большие изумрудно-синие стрекозы. Потом бабушка приносит большую китайскую розовую махровую простыню и, нежно завернув в неё Нину, берёт девочку на руки и садится на скамеечку. Бабушка вытирает внучке волосы, напевая слова и мелодию «Хора девушек» из оперы Верстовского «Аскольдова могила»: «Ах, подруженьки, как грустно…» Голос бабушки звенит нежно, чисто и совсем не жалобно, а даже весело. И Ниночка подпевает во время проигрыша тоненько: «Та-та-та-та-та-а-та…»
Потом бабушка приносит блюдечко с поздней малиной и чашку с молоком. Какой неповторимый вкус был у сладкой, нагретой солнцем, сочной, тёмной, крупной ягоды, как вкус далёкого невозвратного райского детства!
Через много лет бабушка рассказывала Нине, что, оказывается, это было самое трудное лето. Дед Степан с начала июня был в экспедиции за Уралом, родители Нины уехали на юг к морю. Деньги кончились, и продукты были на исходе.
Заканчивался сентябрь. Казалось, все о них забыли, и никто не приезжал… Бабушка очень страдала от неизвестности и одиночества. Внученька же была её единственной заботой и усладой.
Дед скоро приехал. Он навёз подарков и жене, и любимой внучке, но вскоре опять отправился в экспедицию на Урал деньги зарабатывать, чтобы на даче рядом с сарайчиком поставить деревянный сруб. Вернулся он только в конце апреля.
Вот тогда и случился тот скандал, когда бабушка сообщила деду о своём решении уйти и забрать внучку.
Нина очень хотела жить с бабушкой и дядей Колей Тумановым. Он ей дарил игрушки и пел бравую песню: «Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам… Так громче, музыка, играй победу!..»
И вот эту его фамилию Туманов Нина и не должна была выдать. Это важная взрослая тайна, и она не выдала её, как дед ни допытывался.
Ударили старинные часы. Закатное солнце озаряло золотым светом всё в комнате: тюль на окнах, мраморный рукомойник с зеркалом, поблёскивающее на раковине лезвие опасной бритвы, буфет с цветными стёклышками, старую потемневшую картину «Море», пузатый чайник на круглом столе, придвинутом вплотную к выемке рояля, белую дверь, ведущую в общий коридор их коммунальной квартиры. Глаза у Нины слипаются, ей уже пора спать, она сняла байковое платьице и сидит на рояле в трусиках и в маечке, прижимая к себе любимую игрушку – плюшевую мартышку. Нина уже не радуется, что знает тайну. Она устала от скандала и мечтает, чтобы бабушка перестала плакать и уложила её поскорее в постель, накрыла одеяльцем и перекрестила на ночь.
Больше дед Степан в командировки не ездил. Больше дядю Колю Туманова Нина никогда не видела. Нина, бабушка и дед стали жить опять счастливо втроём, и родители забегали к ним по воскресеньям. Бабушка и дед прожили вместе ещё тридцать лет до его смерти.
Вот какие воспоминания пробудили у взрослой Нины слова вокальной распевки: «У-у-у-утренний ту-у-ма-ан».
Любые воспоминания о детстве можно озаглавить «Утренний туман». Наверное, это прекрасно, что в детстве всё кажется необыкновенно загадочным, туманным, и думаешь, что, когда вырастешь, туман рассеется и увидишь, что жизнь ещё прекрасней, чем в детстве. Ведь казалось, что у взрослых столько возможностей – они такие большие, красивые и умные. Но удивительно: когда Нина подросла, она увидела, что почему-то они почти все несчастны.
Только у бабушки и деда были счастливые светящиеся лица. Да, у некоторых старых людей яркие, уверенные, светящиеся добром и участием глаза, открытые, дружелюбные лица.
Вот бабушка родилась в 1905 году в семье дворянина. Он был инженером, имел собственный дом на Тихвинской улице, большую семью, четверых детей. Лёля старшая. Училась в гимназии… Потом революция, голод, НЭП, война, эвакуация, возвращение в Москву в занятую квартиру…
Чем можно объяснить внешнюю красоту, лучистый взгляд и в старости? Только благородством души. Может быть, у некоторых в старости тело дряхлеет, а душа светлеет, возвышается?
После того как бабушка Лёля воспитала всех детей и внуков и похоронила мужа, она пошла работать санитаркой в роддом. Ухаживать за людьми, помогать больным – вот в этом радость её. Радость отдачи себя страдающим, страждущим людям. В больнице пациентки, а особенно роженицы, Лёлечку обожали: даже называли в честь неё новорождённых девочек. Правда, она рассказывала, что некоторые вредные медсёстры травили её и сплетничали, но все врачи ценили и уважали. «Когда дежурит Елена Алексеевна, мы спокойны», – говорили они про неё.
Нина с сестрой тогда не могли понять, зачем идти работать за копейки, в таких тяжёлых условиях?
Ответ: из милосердия! Ныне забытое, почти неодушевлённое для нас слово.
Вот подумала Нина слово «нас», и стало стыдно за то, что так обобщает: «Это не у каких-то “у них”, а у меня самой, у Нины, не развито чувство милосердия».
Годы проходят. Утренний туман рассеивается, и оказывается, что прекрасное будущее прячется за ещё более плотным туманом, пробиться сквозь который становится всё труднее и труднее. Но напрасно сожалеть о годах бессмысленной «борьбы за справедливость» и об упущенных возможностях проявления собственного милосердия. Остаются хорошие воспоминания. Добрые, милые лица…
– Нина, Нина, – вдруг громко звучит сочный голос Клавдии Ильиничны. – Ещё раз и на октаву выше, не зажимайся, распеваемся: у-утренний тума-а-ан…
Умирающий лебедь
Вокруг сверкающего льдом стадиона «Красное знамя» на Плющихе по трём дорожкам проносятся конькобежцы. Я всегда боюсь, что они меня собьют и разрежут длинными и острыми, как ножи, коньками. В центре стадиона красными флажками огорожен квадрат, где проходит соревнование юных фигуристов. С одной стороны, притопывая валенками, стоят судьи, закутанные в тулупы, шапки и шарфы. Напротив них расположились фигуристы и их родители. Голос в микрофон: «На лёд вызывается Нина Дольская, Камиль Сен-Санс, “Умирающий лебедь”».
Я выезжаю на середину катка и замираю в эффектной позе. Жду музыку. Балетный костюм, взятый напрокат, мне велик и на спине заколот английскими булавками. Трико телесного цвета неплотно облегает ноги, их пощипывает мороз. Белая пачка колышется в такт дрожи.
С первых звуков виолончели всю меня пронизывает волшебная музыка, и я превращаюсь в прекрасного лебедя. Взмахивая крыльями, плавно начинаю скольжение.
Подо мной уже не лёд, а гладь лесного озера. Лебедь то парит над ним, то кружится, то взлетает в прыжках. После стремительного вращения, прогнувшись назад, он начинает полёт над озером, плавно взмахивая крыльями. Внезапно лебедь резко останавливается и вздрагивает, будто от пули. Он медленно усаживается на воду, подогнув одну ногу. Раненая птица судорожно взмахивает крыльями, изгибается, пытается подняться, но тщетно. Лебедь покорно опускает голову. Трепет его крыльев с каждым тактом ослабевает. Под прощальные звуки музыки лебедь неподвижно лежит, распростёртый на глади озера. Спустя минуту он исчезает.
Лебедь улетел вместе с музыкой на лесное озеро, а я лежу и мёрзну на льду. Венчик из перьев на голове сполз на глаза. Придерживая его, встаю и кланяюсь во все стороны. Мне хлопают. Еду к поджидающему меня хореографу. Она набрасывает на меня кроличью шубку.
В микрофон объявляют мои оценки. Я им рада, но по лицу хореографа понимаю, что она мной недовольна. Эта хореограф очень знаменитая и строгая. Решаюсь спросить:
– Что, что не так?
– Ты умерла не в ту сторону.
– Как это?
– Надо было умереть лицом к судьям, а ты повернулась к ним попой и умерла в сторону зрителей. Смазала хорошее выступление!
Хореограф от меня отворачивается. На лёд вызывают следующую её ученицу.
Ничего не видя от слёз, качусь в раздевалку. По пути на дорожке чуть не столкнулась с конькобежцем. В тёплой раздевалке фигуристов ни души – все на соревновании. Пахнет сырыми деревянными полами, резиновыми ковриками, тряпками для вытирания лезвий коньков. Я подстилаю на лавку шубку и ложусь на спину, чувствуя булавки. Уже сухими глазами в тусклом свете ламп рассматриваю причудливые трещины на потолке.
Меня некому пожалеть. Папа ведёт соревнование, а мама судит.
Лужа
Тёплым апрельским вечером 1960 года из кинотеатра в Марьиной Роще под руку вышла молодая пара. Она – сама нежность и грация: не идёт, а порхает в модном приталенном пальто цвета бордо, кукольное личико в обрамлении чёрных кудрей, глаза цвета папоротника в еловом лесу. В руках у неё букет цветов. Он – воплощение силы и мужества: лицо крупной лепки, глаза как васильки, светло-серый костюм ладно облегает фигуру спортсмена. Женщина молчала, а мужчина вполголоса напевал неаполитанскую песню: «О so-оle, O so-оle miо-о». Он встал перед ней, улыбнулся и воскликнул:
– Как ты похожа на Джину Лоллобриджиду!
Она не ответила, шагнула в сторону и пошла дальше, а он – за ней.
– Ты опять на что-то сердишься?
Она отвернулась от него. Руки в лайковых перчатках теребили букет тюльпанов. Он тронул её за локоть и сказал:
– Такой хороший вечер, посмотри!
Женщина отдёрнула руку и, глядя сквозь него, сказала тонким голосом, чеканя каждое слово:
– Я в кармане твоего пальто опять нашла пачку лотерейных билетов. Ты же обещал!
Он резко остановился, как от удара, и тихо вымолвил:
– Ну, это… это старые, старые билеты.
– Все старые билеты я выбросила. – Она зло рассмеялась и добавила: – Хотя зря. Ими можно было оклеить как обоями нашу комнату в шесть квадратных метров.
Он побледнел, стукнул себя по карманам пиджака и выкрикнул:
– Зачем ты роешься в моих карманах?
Она тоже закричала:
Потом бабушка приносит блюдечко с поздней малиной и чашку с молоком. Какой неповторимый вкус был у сладкой, нагретой солнцем, сочной, тёмной, крупной ягоды, как вкус далёкого невозвратного райского детства!
Через много лет бабушка рассказывала Нине, что, оказывается, это было самое трудное лето. Дед Степан с начала июня был в экспедиции за Уралом, родители Нины уехали на юг к морю. Деньги кончились, и продукты были на исходе.
Заканчивался сентябрь. Казалось, все о них забыли, и никто не приезжал… Бабушка очень страдала от неизвестности и одиночества. Внученька же была её единственной заботой и усладой.
Дед скоро приехал. Он навёз подарков и жене, и любимой внучке, но вскоре опять отправился в экспедицию на Урал деньги зарабатывать, чтобы на даче рядом с сарайчиком поставить деревянный сруб. Вернулся он только в конце апреля.
Вот тогда и случился тот скандал, когда бабушка сообщила деду о своём решении уйти и забрать внучку.
Нина очень хотела жить с бабушкой и дядей Колей Тумановым. Он ей дарил игрушки и пел бравую песню: «Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам… Так громче, музыка, играй победу!..»
И вот эту его фамилию Туманов Нина и не должна была выдать. Это важная взрослая тайна, и она не выдала её, как дед ни допытывался.
Ударили старинные часы. Закатное солнце озаряло золотым светом всё в комнате: тюль на окнах, мраморный рукомойник с зеркалом, поблёскивающее на раковине лезвие опасной бритвы, буфет с цветными стёклышками, старую потемневшую картину «Море», пузатый чайник на круглом столе, придвинутом вплотную к выемке рояля, белую дверь, ведущую в общий коридор их коммунальной квартиры. Глаза у Нины слипаются, ей уже пора спать, она сняла байковое платьице и сидит на рояле в трусиках и в маечке, прижимая к себе любимую игрушку – плюшевую мартышку. Нина уже не радуется, что знает тайну. Она устала от скандала и мечтает, чтобы бабушка перестала плакать и уложила её поскорее в постель, накрыла одеяльцем и перекрестила на ночь.
Больше дед Степан в командировки не ездил. Больше дядю Колю Туманова Нина никогда не видела. Нина, бабушка и дед стали жить опять счастливо втроём, и родители забегали к ним по воскресеньям. Бабушка и дед прожили вместе ещё тридцать лет до его смерти.
Вот какие воспоминания пробудили у взрослой Нины слова вокальной распевки: «У-у-у-утренний ту-у-ма-ан».
Любые воспоминания о детстве можно озаглавить «Утренний туман». Наверное, это прекрасно, что в детстве всё кажется необыкновенно загадочным, туманным, и думаешь, что, когда вырастешь, туман рассеется и увидишь, что жизнь ещё прекрасней, чем в детстве. Ведь казалось, что у взрослых столько возможностей – они такие большие, красивые и умные. Но удивительно: когда Нина подросла, она увидела, что почему-то они почти все несчастны.
Только у бабушки и деда были счастливые светящиеся лица. Да, у некоторых старых людей яркие, уверенные, светящиеся добром и участием глаза, открытые, дружелюбные лица.
Вот бабушка родилась в 1905 году в семье дворянина. Он был инженером, имел собственный дом на Тихвинской улице, большую семью, четверых детей. Лёля старшая. Училась в гимназии… Потом революция, голод, НЭП, война, эвакуация, возвращение в Москву в занятую квартиру…
Чем можно объяснить внешнюю красоту, лучистый взгляд и в старости? Только благородством души. Может быть, у некоторых в старости тело дряхлеет, а душа светлеет, возвышается?
После того как бабушка Лёля воспитала всех детей и внуков и похоронила мужа, она пошла работать санитаркой в роддом. Ухаживать за людьми, помогать больным – вот в этом радость её. Радость отдачи себя страдающим, страждущим людям. В больнице пациентки, а особенно роженицы, Лёлечку обожали: даже называли в честь неё новорождённых девочек. Правда, она рассказывала, что некоторые вредные медсёстры травили её и сплетничали, но все врачи ценили и уважали. «Когда дежурит Елена Алексеевна, мы спокойны», – говорили они про неё.
Нина с сестрой тогда не могли понять, зачем идти работать за копейки, в таких тяжёлых условиях?
Ответ: из милосердия! Ныне забытое, почти неодушевлённое для нас слово.
Вот подумала Нина слово «нас», и стало стыдно за то, что так обобщает: «Это не у каких-то “у них”, а у меня самой, у Нины, не развито чувство милосердия».
Годы проходят. Утренний туман рассеивается, и оказывается, что прекрасное будущее прячется за ещё более плотным туманом, пробиться сквозь который становится всё труднее и труднее. Но напрасно сожалеть о годах бессмысленной «борьбы за справедливость» и об упущенных возможностях проявления собственного милосердия. Остаются хорошие воспоминания. Добрые, милые лица…
– Нина, Нина, – вдруг громко звучит сочный голос Клавдии Ильиничны. – Ещё раз и на октаву выше, не зажимайся, распеваемся: у-утренний тума-а-ан…
Умирающий лебедь
Вокруг сверкающего льдом стадиона «Красное знамя» на Плющихе по трём дорожкам проносятся конькобежцы. Я всегда боюсь, что они меня собьют и разрежут длинными и острыми, как ножи, коньками. В центре стадиона красными флажками огорожен квадрат, где проходит соревнование юных фигуристов. С одной стороны, притопывая валенками, стоят судьи, закутанные в тулупы, шапки и шарфы. Напротив них расположились фигуристы и их родители. Голос в микрофон: «На лёд вызывается Нина Дольская, Камиль Сен-Санс, “Умирающий лебедь”».
Я выезжаю на середину катка и замираю в эффектной позе. Жду музыку. Балетный костюм, взятый напрокат, мне велик и на спине заколот английскими булавками. Трико телесного цвета неплотно облегает ноги, их пощипывает мороз. Белая пачка колышется в такт дрожи.
С первых звуков виолончели всю меня пронизывает волшебная музыка, и я превращаюсь в прекрасного лебедя. Взмахивая крыльями, плавно начинаю скольжение.
Подо мной уже не лёд, а гладь лесного озера. Лебедь то парит над ним, то кружится, то взлетает в прыжках. После стремительного вращения, прогнувшись назад, он начинает полёт над озером, плавно взмахивая крыльями. Внезапно лебедь резко останавливается и вздрагивает, будто от пули. Он медленно усаживается на воду, подогнув одну ногу. Раненая птица судорожно взмахивает крыльями, изгибается, пытается подняться, но тщетно. Лебедь покорно опускает голову. Трепет его крыльев с каждым тактом ослабевает. Под прощальные звуки музыки лебедь неподвижно лежит, распростёртый на глади озера. Спустя минуту он исчезает.
Лебедь улетел вместе с музыкой на лесное озеро, а я лежу и мёрзну на льду. Венчик из перьев на голове сполз на глаза. Придерживая его, встаю и кланяюсь во все стороны. Мне хлопают. Еду к поджидающему меня хореографу. Она набрасывает на меня кроличью шубку.
В микрофон объявляют мои оценки. Я им рада, но по лицу хореографа понимаю, что она мной недовольна. Эта хореограф очень знаменитая и строгая. Решаюсь спросить:
– Что, что не так?
– Ты умерла не в ту сторону.
– Как это?
– Надо было умереть лицом к судьям, а ты повернулась к ним попой и умерла в сторону зрителей. Смазала хорошее выступление!
Хореограф от меня отворачивается. На лёд вызывают следующую её ученицу.
Ничего не видя от слёз, качусь в раздевалку. По пути на дорожке чуть не столкнулась с конькобежцем. В тёплой раздевалке фигуристов ни души – все на соревновании. Пахнет сырыми деревянными полами, резиновыми ковриками, тряпками для вытирания лезвий коньков. Я подстилаю на лавку шубку и ложусь на спину, чувствуя булавки. Уже сухими глазами в тусклом свете ламп рассматриваю причудливые трещины на потолке.
Меня некому пожалеть. Папа ведёт соревнование, а мама судит.
Лужа
Тёплым апрельским вечером 1960 года из кинотеатра в Марьиной Роще под руку вышла молодая пара. Она – сама нежность и грация: не идёт, а порхает в модном приталенном пальто цвета бордо, кукольное личико в обрамлении чёрных кудрей, глаза цвета папоротника в еловом лесу. В руках у неё букет цветов. Он – воплощение силы и мужества: лицо крупной лепки, глаза как васильки, светло-серый костюм ладно облегает фигуру спортсмена. Женщина молчала, а мужчина вполголоса напевал неаполитанскую песню: «О so-оle, O so-оle miо-о». Он встал перед ней, улыбнулся и воскликнул:
– Как ты похожа на Джину Лоллобриджиду!
Она не ответила, шагнула в сторону и пошла дальше, а он – за ней.
– Ты опять на что-то сердишься?
Она отвернулась от него. Руки в лайковых перчатках теребили букет тюльпанов. Он тронул её за локоть и сказал:
– Такой хороший вечер, посмотри!
Женщина отдёрнула руку и, глядя сквозь него, сказала тонким голосом, чеканя каждое слово:
– Я в кармане твоего пальто опять нашла пачку лотерейных билетов. Ты же обещал!
Он резко остановился, как от удара, и тихо вымолвил:
– Ну, это… это старые, старые билеты.
– Все старые билеты я выбросила. – Она зло рассмеялась и добавила: – Хотя зря. Ими можно было оклеить как обоями нашу комнату в шесть квадратных метров.
Он побледнел, стукнул себя по карманам пиджака и выкрикнул:
– Зачем ты роешься в моих карманах?
Она тоже закричала: