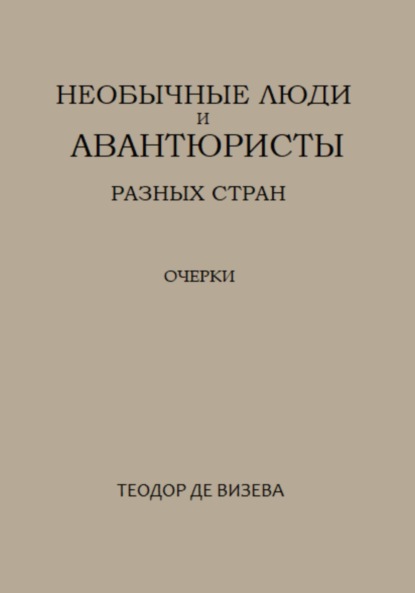По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необычные люди и авантюристы разных стран
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но если в событиях, о которых говорит Лаукхард в первой части «Воспоминаний», то есть в продолжение всей кампании против Франции, ему доставалась роль свидетеля или статиста, то уже к концу 1793 года ситуация резко изменилась, предоставив ему отныне роль настолько значительную, что это позволило ему, как он сообщает нам, «начать рассказ главным образом о своих собственных деяниях».
III
Полк, где числился Лаукхард, с 18 сентября участвовал в осаде важнейшей крепости Ландау, в Эльзасе. Известно было, что, в отличие от Лонгви и Вердена, этот город было очень трудно взять осадой, но надеялись, что нехватка продовольствия рано или поздно заставит жителей капитулировать. А поскольку Лаукхард, болтая в кабаке, похвалялся, будто его однокашником некогда был депутат Дентцель[88 - … депутат Дентцель… – Иоганн Фридрих Дентцель (1755-ок. 1820), участвовал в качестве полкового священника в Войне за независимость в Америке, в 1792 г. – депутат от Нижнего Рейна в Конвенте, участник кампаний времен Империи, стал генералом и бароном.], который ныне с генералом Лобадером[89 - … с генералом Лобадером… – Жозеф Мари Тене Лобадер (1745-1809), комендант Ландау во время осады крепости, был арестован Комитетом общественного спасения, после освобождения направлен в Итальянскую армию, ушел в отставку в 1798 г.] защищал Ландау и который являлся даже немного его родственником, начальство решило послать его в крепость якобы как дезертира, с заданием переманить, а в случае надобности и подкупить своего родственника и друга. Лично полковник князь Гогенлоэ и принц Людвиг Прусский[90 - … князь Гогенлоэ и принц Людвиг Прусский… – Людвиг Алоиз, князь фон Гогенлоэ (1765-1829), служил в чине полковника во французском эмигрантском легионе, затем на австрийской службе, был наместником в Галиции, после Реставрации вновь на французской службе, стал французским маршалом; принц Людвиг Прусский (1772-1806), сын принца Фердинанда, брата Фридриха Великого, участник войн 1794-1796 гг., в 1805 г. стоял за союз с Австрией против Наполеона, погиб в бою.] по очереди вели с нашим солдатом долгие и искусные разговоры, затрагивая разом его тщеславие, философский «пацифизм» и любовь к «вознаграждениям», и в конце концов экс-профессор, изрядно подуставший к тому времени от солдатской жизни, принял это необычное и трудное предложение.
Ночью три французских патрульных драгуна обнаружили Лаукхарда у ворот крепости и доставили его к генералу Лобадеру, которому тот объявил, что республиканские принципы и ненависть к тирании заставили его покинуть прусскую армию. Генерал предложил ему стакан вина и спросил об обстановке в войсках осаждающих, и Лаукхард со своей обычной откровенностью поспешил предоставить различные сведения, уже готовый забыть о прусских «вознаграждениях», оттягивавших его карманы. После того, как мнимый дезертир опустошил бутылку во славу (и за счет) Республики, его проводили к депутату Дентцелю, какового он и нашел сидящим за столом в компании молодой и очаровательной дамы.
Сия любезная особа вначале предложила мне стаканчик ликера. После чего мы с Дентцелем завели беседу о пруссаках, об университетах Галле, Йены и Гиссена, о «вольнодумце» теологе Бардте[91 - …о «вольнодумце» теологе Бардте… – Карл Фридрих Бардт (1741-1792), протестантский теолог, профессор богословия в Лейпциге, профессор античных древностей в Эрфурте, его труды были признаны еретическими вюртембергским университетом, под конец жизни обосновался в Галле; отрицал сверхъестественное и исповедывал деизм.], страстными почитателями которого были мы оба, о Французской революции, об осаде и о сотне других, серьезных или приятных, вещах. Вскоре и генерал Лобадер присоединился к нам, и Дентцель, едва завидев его, закричал: «Вот, генерал, мой соотечественник Лаухард, славный малый, – я счастлив найти его вновь! Мы сделаем из него настоящего гражданина!»
Радушный прием депутата сразу же придал мне бодрости, а выпитое вино сделало таким болтливым, что мои новые товарищи были совершенно очарованы мною… Я остался обедать у Дентцеля и имел удовольствие познакомиться с генералом Дельмасом[92 - … с генералом Дельмасом… – Антуан Гийом Дельмас (1768-1813), некоторое время командовал Рейнской армией, впоследствии из-за ссоры с Наполеоном был не у дел до 1813 г., погиб в Лейпцигской битве.], горячим молодым человеком. Гражданка Лутц, обедавшая с нами, была дочерью богатого мясника из Ландау. Она жила у Дентцеля и помогала ему коротать время в отсутствие жены, оставленной им в Париже, но я должен заметить, что она не была слишком строга или труднодоступна для гостей своего постоянного любовника. Он обменивался с ней весьма вольными любезностями, сдобренными грубостями, как у нас в Палатинате. Мы говорили, естественно, по-французски, так как оба генерала не понимали ни слова по-немецки. А поскольку я частенько употреблял старые выражения «monsieur» и «mademoiselle», то мои хозяева по-дружески укоряли меня, предупреждая, что отныне я должен обращаться к другим «гражданин» и «гражданка», равно, как и обращаться ко всем на «ты», включая и Лутциху, тут же начавшую мне тыкать.
Нигде я так живо не осознавал свое человеческое достоинство, как за этим столом, за которым я, простой прусский солдат, сидел рядом с депутатом великого французского народа и двумя дивизионными генералами… Дентцель пригласил меня заходить еще и на прощанье обещал позаботиться обо мне. Я не сомневался, что эта дружеская встреча вскоре приведет меня на гильотину.
И впрямь, чувства Дентцеля к новому «гражданину» переменились в худшую сторону с того момента, когда два-три дня спустя тот набрался наглости признаться в истинной причине дезертирства и даже был неосторожен до того, что вручил депутату предписание прусского принца, разрешающее солдату Лаукхарду вести переговоры и договариваться от его имени. Без сомнения, Дентцель очень серьезно воспринимал свои обязанности депутата и ни на минуту не соблазнился заманчивыми перспективами; исключительно в знак былой дружбы он пообещал Лаукхарду не рассказывать никому о его откровениях, при этом постоянно угрожая мнимому дезертиру огласить предписание, если тот когда-нибудь сделает хоть малейшую попытку служить интересам врага. Отныне бедняга Лаукхард пребывал в тоске и постоянном страхе, и можно без труда представить, что он почувствовал, получив однажды вечером приказ явиться к генералу Лобадеру, уже подписавшему в тот день постановление об аресте депутата.
Чудесным образом, сей последний имел представления о чести и «гражданском» долге гораздо более высокое, нежели его бывший товарищ по изучению теологии. Дентцеля заключили в тюрьму как подозреваемого в связях с осаждающими, но он ни разу не упомянул об истории с Лаукхардом, хотя это, погубив дезертира, доказало бы невиновность депутата. И Лаукхард не только не пострадал от ареста Дентцеля, но даже – как необдуманно сообщил нам – в то время, как его благодетель ожидал суда, сумел завоевать расположение генерала Лобадера, – вне всякого сомнения тем, что продолжать снабжать его секретными сведениями, касающимися немецкой армии.
В его «Воспоминаниях» есть отрывок, который прекрасно позволяет увидеть странную смесь противоречивых чувств в душе этого пройдохи: неосознанную симпатию к республиканским идеям, безумный страх быть пойманным с поличным и неизменное уважение к воинской дисциплине – едва ли не самой возвышенной форме морального долга. Однажды, в последние недели осады Ландау, французские офицеры, убежденные в «гражданской доблести» Лаукхарда (так же, как некогда его немецкие начальники в его преданности), спросили у него, не согласится ли он выйти из крепости и передать командиру идущей на подмогу армии сведения о положении осажденных. План не удался, но Лаукхард признался, что охотно взял на себя эту миссию. Вот как объясняет он поведение, которого следует придерживаться, если ему удастся избежать становящегося для него все более и более опасным соседства со своим слишком честным родственником, членом Конвента.
Могу торжественно поклясться перед читателями, что в душе имел двойной план. Я бы действительно попытался незаметно проскользнуть через прусские кордоны. Если бы мне не повезло, то меня бы оставили к генералу Кнобельсдорфу, тогда я рассказал бы ему о безуспешности своих попыток добиться капитуляции Ландау. Если же, напротив, я смог б добраться до французских генералов, то они были бы мне обязаны, так как я бы дал им точный отчет о положении дел осажденного города, и это помогло бы мне заранее развеять всяческие подозрения, могущие возникнуть против меня в дальнейшем.
Это «положение дел осажденного города», отчет о котором Лаукхард готов был дать прусскому или французскому – следуя обстоятельствам – генералу, описано в книге со множеством интересных деталей, делающих главы, посвященные «положению дел», самыми ценными во всей книге с исторической точки зрения. Перипетии полного ненависти соперничества между депутатом Дентцелем и генералом Лобадером, повседневная жизнь осажденных, их патриотический энтузиазм, прерываемый иногда приступами уныния, состояние духа офицеров и солдат, их труд и развлечения, жалкое положение разношерстной толпы дезертиров всех национальностей, постоянное уменьшение продовольствия и трагические сцены, за этим следующие – все это без малейшего искажения предстает перед нашими глазами, и мы имеем возможность наблюдать час за часом мельчайшие подробности большой драмы, исход которой станет решающим для триумфа или поражения революционных идей.
Развязка драмы известна: 28 декабря осада крепости Ландау была снята при помощи подоспевшего подкрепления, и немецкая армия после трехмесячной напрасной осады вынуждена была отступить за Рейн. Что же до «мэтра» Лаукхарда, то после снятия блокады он в числе других дезертиров был перевезен в Страсбург, где сразу же принялся демонстрировать свои республиканские и антирелигиозные взгляды перед немцем Евлогием Шнейдером[93 - … перед немцем Евлогием Шнейдером… – Евлогий (наст. имя Иоганн Георг) Шнейдер (1756-1794), бывший профессор церковного права и церковного красноречия и генеральный викарий, присягнул конституции и выдвинулся благодаря своим проповедям в якобинском духе, стал общественным обвинителем Нижнего Рейна, отличался крайней жестокостью, которая еще более усилилась, когда он стал официальным обвинителем при революционном трибунале, в конце концов его зверства довели его до гибели: Шнейдер по приказу Сен-Жюста и Леба был арестован и выставлен на всеобщее осмеяние на эшафоте на городской площади Страсбурга, а затем его, скованного по рукам и ногам отвезли в Париж и там казнили.], бывшим капуцином, в те времена вершившим судьбы всего Эльзаса. «Чего тебе надобно?» – спросила нашего дезертира сия важная персона, сидя за столом в компании – и он тоже – «любезной мамзели». – «Я желаю познакомиться со знаменитым человеком, который средствами философии разрушил суеверие и который отказался от бесполезного занятия, имея цель служить человечеству, с тем, кем гордится Германия как одним из лучших своих поэтов, а Франция – как одним из самых ревностных республиканцев!» – «Друг, это – комплименты. Я горжусь единственным: возможностью служить Республике!» Но поскольку Лаукхард объявил затем, что он из Галле, то расстрига-капуцин, забыв о своей недавней скромности, принялся пространно рассказывать, что говорили о нем профессора из этого города и других немецких университетских городов. Впрочем, никаких иных преимуществ, кроме свободного продвижения по улицам Страсбурга, покровительство Шнейдера его бывшему соотечественнику не дало. Тем не менее Лаукхард сохранил о нем настолько прекрасное воспоминание, что много позже, уже возвратившись в Германию, он упрямо отказывался верить всем обвинениям против Шнейдера, равно, как и продолжал видеть обычную клевету «реакции» в слухах о том, что «храбрец» Колло д'Эрбуа[94 - … «храбрец» Колло д’Эрбуа некогда был актером. – Жан Мари Колло д’Эрбуа (1751-1796), был актером странствующей труппы; в 1789 г., прибыв в Париж, получил известность как народный оратор, автор «Альманаха отца Жерара», в 1793 г. – президент Конвента, в качестве члена Комитета общественного спасения был послан в Лион (где раньше потерпел фиаско как актер) для подавления восстания, отличался крайней жестокостью, впоследствии был обвинен как «палач Франции» и в 1795 г. сослан в Кайенну, где и скончался.] некогда был актером.
В Лионе, а точнее, в «Освобожденной Коммуне»[95 - В Лионе, а точнее, в «Освобожденной Коммуне».... – в мае 1793 года в Лионе вспыхнуло восстание против якобинской диктатуры, в августе 1793 года восставший город подвергся артиллерийской бомбардировке, а в начале октября был взят республиканской армией, после этого в городе начались репрессии, был издан декрет о частичном разрушении города, и восстание было подавлено. В одном из номеров «Пера Дюшена» говорилось: «Лион подал сигнал к восстанию против Республики, Лион должен быть разрушен, его имя изменено на Освобожденную Коммуну».], Лаукхарду довелось сблизиться с этим человеком и даже работать некоторое время под его началом, так как покидая Эльзас, наш любитель приключений не смог удержаться от соблазна сменить малоприбыльную профессию немецкого дезертира на профессию солдата батальона «Революционной армии». Смена произошла в кабаке в Маконе, где один из будущих сослуживцев Лаухарда завербовал его, заставив выпить бутылку бургундского «за здоровье Республики». Этот простой и грубый солдат сказал ему: «Ну, так ты обещаешь завтра идти в Лион? Ну, хорошо! Если хочешь, пойдем послезавтра вместе! Такой весельчак, как ты, создан, черт возьми, служить в нашем корпусе! А теперь, глотни-ка это!» Бывший профессор «глотнул» – и на следующий день облачился в живописную форму «санкюлотов». Он рассказывает, что «по дороге из Макона в Лион их маленькое войско останавливалось во всех кабаках по крайней мере на полчаса и мертвецки напивалось, а платило редко». И добавляет: «Имея приличный запас ассигнаций, я все время порывался заплатить, но другие уговаривали не делать этого, поскольку все окрестности кишели аристократами и друзьями священников, которые и так уже должны быть слишком счастливы от того, что бравый санкюлот пьет их вино, не сворачивая им при этом шею».
В Освобожденной Коммуне главной обязанностью батальона, где служил Лаукхард, было несение почетного караула около гильотины. Напрасно экс-профессор университета в Галле, «знаток философии» и уважаемый писатель намекал, что хочет избежать сей неожиданной обязанности. – «Настоящий друг простых людей не может не получать истинного удовольствия видя, как льется кровь аристократов!» – отвечали ему и его начальники и его товарищи; и в конце концов он и впрямь стал получать при виде этого зрелища определенное удовольствие. «К тому же, в Лионе все говорили об отрезании голов, словно речь идет о колке орехов. Не утруждая себя никаким следствием, полагали достаточным для вынесения человеку смертного приговора и того, чтобы обвиняемый являлся дворянином или священником. Гильотина не могла работать очень быстро, приговоренных доканчивали ружейными выстрелами; тех, кто не умирал сразу, санкюлоты добивали саблей или штыком. Но все казни, совершаемые в Лионе с помощью гильотины или расстрелов – хотя их было много – не были способны утолить жажду мести и ярость моих товарищей. Ибо они считали, что могут положиться на декрет Конвента, в соответствии с которым весь город должен был быть сожжен и отдан на разграбление, а поскольку это ожидаемое событие не наступало, их негодование без конца выражалось во все более усиливающемся ропоте.»
Можно легко представить гнев этих поборников справедливости и манеру, в которой он должен был выразиться, когда спустя приблизительно месяц после прибытия Лаукхарда в Освобожденную Коммуну, они узнали, что Конвент вместо приказа довершить уничтожение «города аристократов», отдал им приказ отправиться к границе на постоянное место службы. Среди них было много тех, кто дал себе слово вернуться на «гражданскую службу», когда нужно будет приступить к новым обязанностям; пока же им представился случай совершить путешествие, преисполненное удовольствий. Во Вьене[96 - Во Вьене… И ниже: В Гренобле, в Валансе, в Монтелимаре, в Карпантра… В Авиньоне… – Вьен, Гренобль, Валанс, Монтеллимар, Карпантра, города на пути следования армии к южной границе.], жители которого не принимали никакого участия в лионском мятеже, поначалу их встретили весьма прохладно. «Санкюлоты, расположившиеся лагерем на большом лугу у берега Роны, ругались на чем свет стоит и грозились перебить всех этих проклятых щеголей, не желающих принять бравых мстителей за Республику. Их горячее возмущение вынудило генерала Лапорта отправиться к жителям Вьена и пообещать им, что, если они примут солдат на постой, то никаких казней не будет производиться. После этого жители позволили войти в город и предоставили для размещения большой пустующий монастырь. Но их медлительность вывела из себя моих товарищей, единодушно посчитавших своей обязанностью выяснить , черт возьми, этих ублюдков! С этой целью они тут же разбрелись по городу и облазили все дома, где им дали такое количество вина и водки, что все войско находилось изрядно под паром, когда после тяжелого дня собралось в монастыре. С тех пор, слышал я, жители Вьена были достойными гражданами, отличными патриотами и первосортными ублюдками.»
К сожалению, мы не можем последовать за нашим санкюлотом на всех победоносных переходах этого необычного похода. В Гренобле, в Валансе, в Монтелимаре, в Карпантра, – всюду, как и во Вьене, напуганные жители старались приобрести репутацию сознательных граждан, заливая выпивку в глотки «бравых мстителей Республики». Так было и в Авиньоне, где расквартированная во Папском дворце часть Лаукхарда изо всех сил старалась разрушить то немногое, что осталось от «прекрасных картин и знаменитых надписей, воспетых во всех рассказах o путешествиях», вдохновляясь на выполнение этой немного шокировавшей бывшего «гуманиста» задачи мыслью о том, что «уничтожение даже самых великих произведений является необходимой жертвой во имя победы над злодеями, породившими политическую и религиозную тиранию».
В Авиньоне Лаукхард по совету знакомого кузнеца бежал из армии, дабы еще раз быть занесенным в списки дезертиров. В Лионе, в одном из кабаков, он имел с будущим генералом Лассалем[97 - … с будущим генералом Лассалем… – Антуан Шарль Луи Лассаль (1775-1809), граф, наполеоновский генерал, известен тем, что в сражении при Гейлсберге спас Мюрата от нападавших на него русских драгун, отличился под Фридландом и в Испании, убит в сражении при Ваграме.] ссору, приведшую к дуэли, и она, хоть и стоила нашему солдату опасной раны, но зато позволила ему надолго обосноваться в госпиталях в Маконе и Дижоне[98 - … в Маконе и Дижоне… – Макон и Дижон, города, расположенные к северу от Лиона, то есть в направлении, противоположном направлению следования армии.] не только в качестве раненого, но также и «младшего санитара». Он признавался, что из разнообразных обязанностей, которые доставила ему новая должность, самым неприятным было «ставить клистиры и перевозить трупы», но ему хорошо платили, давали стол и ночлег, да еще позволяли брать «в аптеке дижонского госпиталя столько разных снадобий, сколько ему было угодно», – нет необходимости добавлять, что бургурндское было почти всегда тем видом «снадобий», на котором он почти всегда останавливал свой выбор. Он подружился с врачами и даже собирался вновь заняться преподаванием, так как находившиеся в Дижоне пленные немецкие офицеры попросили его давать им уроки французского. Все его повествование о месяцах, проведенных в Маконе и Дижоне, полно наблюдениями, наиценнейшими для истории Террора в провинции. Но вскоре он обнаружит неудобства режима, практика которого до сих пор была ему не менее приятна, чем теория.
Когда он угощался «снадобьями» в Дижоне, ему пришла в голову великолепная мысль написать депутату Дентцелю и попросить его о должности в Париже. В тот момент Дентцель сидел в тюрьме, письмо его дижонского корреспондента попало в Комитет общественного спасения, и, как результат, – последовал приказ немедленно схватить бедолагу «младшего санитара». Для него настали тяжелые дни, за которыми последовала бы четверть часа еще более тяжелая – несмотря на приобретенную недавно в Лионе закалку от созерцания гильотины – , если бы Дентцель героически не умолчал о некоей детали в своих отношениях с сообвиняемым. Как бы то ни было, но термидорианский кризис вдруг умерил суровость его судей, и Лаукхард испытал огромную радость, узнав об оправдательном приговоре и имея в качестве убытка лишь одновременную потерю должности и уроков.
В конце декабря 1794 года декретом Конвента было приказано отправить обратно всех дезертиров-ненемцев, и Лаукхард, тут же сделав фальшивое свидетельство о крещении, в котором он был записан как уроженец вольного города Альтоны[99 - … вольного города Альтоны… – Альтона, город провинции Шлезвиг-Голштиния, находившейся в описываемое время в персональной унии с Данией; Альтона, Гамбург и Вандебек образовывали одну, вне таможенного союза, свободную торговую область.], покинул Францию с гораздо больше поспешностью, чем туда проник. Конечно же приключения не обходили его стороной, особенно на пути к границе, а потом и в городах и деревнях Швейцарии, но самое удивительное из всех приключений выпало ему на долю во Фрайбурге-им-Брисгау, где случайная встреча с одним из «бывших», с маркизом д'Олнуа, заставила нашего искателя приключений записаться в «армию принцев»[100 - … в «армию принцев… »… – армия французских эмигрантов.]! – «Этот милый человек вербовал на английские деньги рекрутов для принца де Рогана, он пообещал мне десять луидоров сразу, а потом и чин унтер-офицера с жалованьем в двадцать четыре крейцера. Это мне было очень по душе, а так как со мной всегда могли делать все, что угодно, словно с ребенком, я пожал маркизу руку – и вот я капрал у эмигрантов!»
Несколько дней спустя сержант препроводил нового капрала в Эттенхайм, где его представили принцу и старому кардиналу де Рогану[101 - … принцу и старому кардиналу де Рогану. – Александр Луи Огюст, герцог де Роган-Шабо (1761-1816), генерал, эмигрировал в 1790 г., сражался против Франции в «армии принцев»; Людовик Рене Эдуард де Роган-Гемене (1735-1803), прославился историей с ожерельем Марии Антуанетты, был посажен в Бастилию, а затем выслан из Парижа, в 1789 г. – депутат в Генеральных Штатах, в 1790 г. перебрался в свои германские поместья.]. «Принц являл собой совершенный тип обычного эмигранта: он прыгал, напевал и болтал кстати и некстати. Его дядя кардинал заинтересовал меня гораздо больше. Его лицо было лицом старого уставшего прожигателя жизни, сохранившего достоинство и изящную модуляцию голоса, которые не могли не внушить мне некоторого уважения…»
Впрочем, Лаукхард совершил лишь короткий переход в составе этой необычной армии, где офицеров было больше, чем рядовых, и где солдаты, «набранные из немецких, голландских, итальянских, испанских, польских и французских авантюристов», не получили от своих начальников ничего, кроме « полотняных штанов и шинелей», пока те решали, какую форму надлежит им выдать. В один прекрасный день, вытянув из своих офицеров столько «крейцеров», сколько возможно (Лаукхард, к примеру, потребовал талер за то, что позволил сорвать со своей одежды «республиканские пуговицы»), он воспользовался доверенным ему поручением и покинул Эттенхайм, дав себе слово нигде больше не останавливаться до самого Галле. Но, едва прибыв в соседний город и увидав новые войска, он, прельщенный перспективой новой поживы, переменил решение, – и вот во второй части «Воспоминаний» Лаукхард предстает перед нами в форме капрала «армии Империи»[102 - Священная Римская империя германской нации (962-1806), была ликвидирована в ходе наполеоновских войн.], обсуждающим самые высокие философские проблемы со своим полковником, не без расчета на «вознаграждение», которое могла, вполне возможно, принести ему эта дискуссия.
IV
К середине 1795 года, по возвращении в Галле, Лаукхард поспешил опубликовать вторую часть своей автобиографии; и я уже говорил, насколько отличен был прием читающей публикой этой части книги от успеха предыдущей, вышедшей тремя годами раньше. Но при переиздании господину Петерсену пришла в голову удачная мысль соединить «признания» немецкого искателя приключений и краткое изложение последующих событий его жизни, или точнее, тех событий, о которых Лаукхард сам поведал в других своих произведениях, так как газеты того времени ничего не говорят о нем. Из этих событий самым значительным и одновременно самым ужасным явилась его женитьба в сентябре 1798 года на солдатской дочери, «особе милой, трудолюбивой и остроумной», но «слишком полной буржуазных предрассудков» для того, чтобы привыкнуть к характеру и образу жизни своего спутника. В конце концов он вынужден был с ней расстаться, а вскоре из-за преследований кредиторов навсегда сбежал из Галле и в продолжении более чем двадцати лет – до апреля 1822 года – влачил жалкое существование помощника пастора, профессора без учеников, но всегда пьяницы и босяка.
Любовь к выпивке, привитая некогда ему тетушкой, явилась – мы видим это на каждой странице «Воспоминаний» – главной причиной всех его несчастий, мешавшей ему подняться выше уровня простого солдата, равно как и заставившей его сложить с себя обязанности профессора. С ранних лет в его характере переплелись этот ужасный порок, часто смущающее нас досадное отсутствие моральных принципов – и то, что могло бы вызвать симпатию и уважение: его ум, удивительная искренность и душераздирающая картина его жизни. Но, со всем этим, не побоюсь сказать, что этот «пройдоха» прежде всего всегда был «лучшим сыном мира»: щедрый, сострадательный, всегда готовый поделиться перепавшими ему деньгами. Даже его «вольнодумство», каким бы шокирующим оно ни было, его «якобинство» санкюлота основываются на очень благородной – если не сказать, мудрой – вере, вере в спасительную силу разума и свободы. Уверяя нас, что «всегда первый встречный мог делать с ним все, что угодно, словно с ребенком», Лаукхард в одной фразе раскрыл нам истинную сущность своего характера; и, наконец, этот вечный «ребенок» показал себя в своих «Воспоминаниях» одним их самых живых и увлекательных рассказчиков среди всех литераторов своей страны.
III. Камерфрау принцессы Ламбаль[103 - Этот очерк написан в 1898 году по поводу выхода в немецком издательстве «Неопубликованных мемуаров баронессы де Курто». (Прим. автора). После публикации этого очерка, французская пресса высмеяла «Мемуары Сесиль де Курто», газеты соревновались в том, кто найдет больше ляпов и откровенно называли их подделкой (прим. переводчика).]
I
Немецкая публика очень тепло встретила «Мемуары баронессы Сесиль де Курто, камерфрау принцессы Ламбаль»[104 - … принцессы Ламбаль… – Мария Тереза де Ламбаль, принцесса Кариньян (1749-1792), ближайшая подруга Марии Антуанетты.], извлеченные из семейных архивов и опубликованные господином Морисом фон Кайзенбергом. «Мемуары» и в самом деле не могли не представлять большого исторического и анекдотического интереса, так как баронесса де Курто являлась участницей не только самых трагических событий Революции, но и была приближенной к королеве Луизе Прусской и королю, ее супругу[105 - … к королеве Луизе Прусской и ее супругу… – Луиза Августина Вильгельмина Амалия (1776-1810), дочь герцога Карла Мекленбургского; ее супруг, Фридрих Вильгельм III (1770-1840), прусский король с 1797 г., из династии Гогенцоллернов, по Тильзитскому миру 1807 г. уступил Наполеону I половину территории Пруссии.], во время своей эмиграции, а после возвращения во Францию входила в интимный кружок императрицы Жозефины[106 - … императрицы Жозефины. – Жозефина (1763-1814), французская императрица с 1804 г., после развода с Наполеоном I в 1809 г. за ней был сохранен этот титул.]. Баронесса могла видеть и наблюдать много чрезвычайно любопытного, и ее свидетельства, казалось, несут особенный отпечаток подлинности.
Если честно, она не писала «Мемуары», и заголовок книги, данный господином фон Кайзенбергом, поэтому не точен; но он это поправил, добавив в подзаголовке, что «Мемуары» составлены «по письмам баронессы де Курто к госпоже фон Альвенслебен, урожденной баронессе Лоэ» и «по выдержкам из дневника последней». Таким образом, труд, представленный немецкой публике, не являлся подлинными мемуарами, но зато это были подлинные письма, и письма настолько обстоятельные и с такими мельчайшими подробностями, касающимися тогдашних событий, что их документальная ценность по крайней мере равнялась ценности самых подробных мемуаров.
Я добавил бы, что существует мало произведений подобного жанра, окруженных большим количеством заверений в серьезности и добросовестности. Письма и дневник, по правде говоря, не приводятся в оригинале, поскольку Сесиль де Курто и сама госпожа фон Кайзенберг писали друг другу по-французски, тем не менее господин фон Кайзенберг позаботился уведомить нас о том, что старался сделать немецкий перевод литературным насколько возможно и в то же время строго придерживался правила ничего не менять в тексте, вплоть до незначительных случайных ошибок. К переводу он прикладывал бесчисленные портреты, извлеченные из семейных архивов, репродукции многих других документов, будь то эскиз платья времен Консульства, нарисованный Сесиль де Курто в одном из своих писем, или же рисунок ширмы, вышитой принцессой Ламбаль и ее камерфрау, и подаренной последней госпоже фон Альвенслебен. «Ныне, – сообщает автор, – эта ширма хранится у меня.» Приводятся также автографы писем баронессы и дневник ее подруги. И все это не было обнаружено случайно в ящике комода или в лавке старьевщика, а получено господином фон Кайзенбергом от своей матери, внучки и наследницы госпожи фон Альвенслебен. На каждой странице книги он постоянно настаивал на святости для него этих драгоценных реликвий, связанных с наиболее дорогими и сокровенными семейными преданиями. В течение долгого времени – говорил нам господин фон Кайзенберг – он не решался обнародовать их, но несомненная историческая ценность документов заставила его это сделать.
Первые главы книги изобиловали генеалогическими подробностями семейств Альвенслебен и Лоэ[107 - … семейств фон Альвенслебенов и баронов Лоэ… – старинные дворянские роды, среди представителей которых было много государственных деятелей, дипломатов, военных.], после чего господин фон Кайзенберг рассказывал, при каких обстоятельствах его прабабка, Анна Готлиб фон Лоэ, была в 1792 году помолвлена, а следующем году сочеталась браком с Вернером IV фон Альвенслебеном, двоюродным братом знаменитого графа фон Альвенслебена-Экслебена, который был министром при Фридрихе-Вильгельме III. Это было небольшое отступление от темы, в нем чувствовалась гордость человека, имеющего возможность похвастаться перед читателями заслугами и добродетелями его предков. Но в то же время – хотел он того или нет – господин фон Кайзенберг вызывал этим еще большее доверие к достоверности «фамильных архивов» которые, собственно, и должны были составить тему его книги, то бишь дневник его бабки и письма Сесиль де Курто. Ну можно ли хоть на мгновенье засомневаться, что госпожа фон Альвенслебен точно воспроизвела рассказы своей подруги, если во всех жизненных обстоятельствах мы видим ее такой простой, такой искренней, так ответственно относящейся к своим обязанностям жены и христианки? Можно ли хоть на мгновенье засомневаться, что господин фон Кайзенберг точно воспроизвел документы, обнаруженные им в семейных архивах, если мы видели, как заботится он о чести своего дома, как старается восстановить чуть ли не день за днем – вплоть до мельчайших подробностей – жизнь своих предков? Обрамленные, таким образом, в рамку семейной хроники, «Мемуары» Сесиль де Курто несут совершенно особенный отпечаток респектабельности. Это воистину «драгоценные реликвии», бережно хранившиеся тремя поколениями. И вот наконец все получили возможность лицезреть их!
Как я уже говорил, книга, едва появившись, произвела в Германии самое сильное впечатление. Газеты и журналы поспешили дать отзывы о ней. И хотя некоторые критики утверждали, будто вопреки ожиданиям, не нашли ничего нового для себя, тем не менее все были единодушны в том, что положение, которое занимала Сесиль де Курто, придало рассказу ни с чем не сравнимую историческую ценность. Баронесса де Курто писала лишь о виденном и с большой доверительностью сообщала обо всем своей подруге, которая, будучи иностранкой, не имела никакого предвзятого мнения относительно вопросов французской политики и перед которой, следовательно, она не имела каких-либо причин что-то скрывать. Отныне ее свидетельство было в числе тех, что должна учитывать история, да и к тому же воспоминания были чрезвычайно приятны для чтения из-за непринужденности тона и – еще более – из-за обилия сведений о нравах и образе жизни, поскольку описания туалетов, рассказы об обедах, приемах и балах занимали там большое место, чего, впрочем, и следовало бы ожидать от двух писавших друг другу молодых женщин. Так что мы понимаем, отчего рекомендованный критиками и самим господином фон Кайзенбергом рассказ так тронул немецкую публику.
Попробуем теперь и мы, в свою очередь, проанализировать это важное свидетельство, затрагивающее нас, французов, еще больше, чем немцев, вниманию которых оно было предложено, хотя, конечно, жаль, что из патриотических побуждений господин фон Кайзенберг не опубликовал его на французском языке, как оно изначально было написано, а Франция и является главным образом предметом повествования. Но представленный нам перевод «настолько художественен, насколько возможно». Смиримся с тем, что нет ничего другого, и постараемся увидеть с его помощью в рассказах Сесиль де Курто все, что может оказаться ценным для истории Революции, Консульства и Империи.
II
В последние дни августа 1793 года госпожа фон Альвенслебен, прабабка фон Кайзенберга, получила письмо от одного из своих кузенов, полковника Раухгаупта, служившего в гарнизоне в Рёрмонде. Помимо прочего, он писал, что случайно встретил в Рёрмонде молодую француженку, мадемуазель Сесиль де Курто, которой чудом удалось бежать из Парижа и которая ныне находится в весьма тяжелом состоянии. Полковник полагал, что бедняжка нигде не найдет лучшего ухода, как в семействе Альвенслебенов. Если бы они согласились ее приютить, то девушка тут же отправилась бы в путь, и к середине сентября была бы уже в Магдебурге, где те могли бы ее встретить.
Действительно, 18 сентября прабабка господина фон Кайзенберга записывает в своем дневнике о прибытии Сесиль де Курто в замок Кальбе-на-Мильде. Но бедная эмигрантка настолько слаба, так угнетена воспоминаниями об ужасах, свидетельницей которых ей довелось быть, что врачи долгое время опасались за ее жизнь. Она с трудом говорит, непрерывно плачет, и слышали, как в бреду она постоянно повторяла: «О мой любимый, мой Гектор, это ты?» Наконец свежий воздух и заботливый уход немного восстановили ее силы, и она начала мало-помалу интересоваться окружающим миром. Когда госпожа фон Альвенслебен родила девочку (будущую бабку господина фон Кайзенберга) Сесиль выражает горячее желание быть ее крестной матерью, и девочку называют в ее честь. Гостья постепенно знакомится с друзьями дома: с госпожой фон Бисмарк-Шёнхаузен, со старым поэтом Глеймом[108 - … со старым поэтом Глеймом… – Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм (1719-1803), вместе с университетскими друзьями основал так называемый «Галльский союз поэтов», посвятивший себя культу анакреонтической поэзии; своей поэзией Глейм заслужил прозвище «немецкого Анакреонта», первым в немецкой литературе обратился к жанру басни.], который пишет для нее изящные мадригалы, разумеется, сохранившееся в архивах семейства господина фон Кайзенберга. Она вновь обретает молодость и веселость, но никогда не забывает «своего Гектора», так как мы знаем, что она не приняла предложения полковника Раухгапта, своего спасителя из Рёрмонда.
И вот однажды, уступив настойчивым просьбам подруги, Сесиль рассказала ей о печальных событиях своей жизни. Она родилась 20 сентября 1766 года в замке Мон-Курто недалеко от Пуатье, «в Вандее»[109 - … «в Вандее». – Департамент на западе Франции, бывший в период Великой французской революции и Директории центром роялистских мятежей. Газеты эпохи высмеивали «незначительные случайные ошибки» в «Мемуарах», в частности то, что Мон-Курто не существует, а Пуатье находится не в Вандее.]. В детстве товарищем Сесиль по играм был мальчик, старший ее тремя годами, Гектор де Трелиссак, тот, кому впоследствии она навсегда отдала свое сердце. Образование она получила в Сакре-Кёр в Фонтене[110 - … в Фонтене… – Фонтене, город в Вандее.], потом приехала в Париж, где в 1786 году стала фрейлиной принцессы Ламбаль.
Сесиль находилась подле принцессы в замке Ла Женеве, в Савойе, вечером 15 июня 1787 года, когда произошло событие, которое она потом не смогла никогда забыть. «Мы сидели на земляной насыпи замка, перед нами сверкали белизной вершины Альп, у наших ног текла Рона, и в ней отражались окна домов маленького городка. Время от времени спокойные волны проносили мимо нас челны, и в вечерней тиши слышалась мелодичная песня лодочников». Неожиданно курьер, одетый в королевскую форму, предстал перед нами и передал принцессе Ламбаль собственноручное письмо от Марии Антуанетты, впоследствии Сесиль де Курто сняла с него копию, а мадам фон Альвенслебен переписала его в свой дневник. Вот подлинник этого замечательного письма, приведенного господином фон Кайзенбергом по-французски из опасения, что перевод несколько принизит его высокую документальную ценность:
Paris, 12 juin 1787.
A la princesse Lamballe!
Je ne puis rеsister au dеsir de profiter de l'occasion, qui s'offre, pour vous еcrire, ma ch?re Lamballe, quelques lignes. Les circonstances actuelles occupent mon ?me trop, pour ne pas ?tre sensible de votre lettre et de votre amitiе douce. Soyez assurеe, mon cher cCur, que mon amitiе pour vous est inеbranlable et que je ne pense changer. Je ne vous dis rien des affaires de la ville, vous savez tout ce qui se passe. Il est impossible de sortir sans ?tre insultе une douzaine de fois. Je reste souvent pendant plusieurs jours ? ma chambre, et j'y suis seule. Alors il me tarde vous voir. Oh ! mon cher cCur, venez au moi, j'ai besoin de vous ; venez а moi et occupez de nouveau votre place chez moi !
Adieu, mon amie divine, je vous embrasse de tout mon cCur. Ecrivez-moi bient?t, quand vous viendrez !
MARIE-ANTOINETTE[111 - Париж, 12 июня 1787. [То есть за два года до революции и не из Версаля.]Принцессе Ламбаль!Я не могу противиться желанию воспользоваться представившемся мне случаем и написать вам, моя дорогая Ламбаль, несколько строк. Нынешние обстоятельства слишком овладели моей душой, чтобы я не была тронута вашим письмом и вашей нежной дружбой. Будьте уверены, моя дорогая, мое дружеское расположение к вам непоколебимо и не изменится впредь. Я ничего не говорю вам о делах в городе, вы сами знаете, что происходит. Невозможно выйти, чтобы тебя не оскорбили дюжину раз. Я часто целыми днями остаюсь в своей комнате – и совершенно одна. Тогда мне очень хочется вас увидеть. О моя дорогая, придите ко мне, вы нужны мне, придите ко мне и вновь займите свое место подле меня! (фр.)]
« Je ne vous dis rien des affaires de la ville»[112 - «Я ничего не говорю вам о делах в городе» (фр.)] – разве не восхитительно? А само послание, «написанное в Париже», а этот французский язык «Австриячки»? Если бы господин фон Кайзенберг не уверял нас, что нашел этот документ в семейных бумагах, разве не могли бы мы подумать, будто зрим одну из жемчужин знаменитой коллекции автографов Шаля[113 - … одну из жемчужин коллекции автографов Шаля… – в 1861 году Дени Врэн-Люка продал известному математику академику Мишелю Шалю коллекцию писем (более 29000 автографов) знаменитых людей прошлого. Среди раритетов – письма Архимеда, Александра Великого, Фалеса, Клеопатры Антонию, воскрешенного Лазаря святому Петру и т. д. После случайного разоблачения Шаль сделался посмешищем.], в пандан письму Иисуса Марии Магдалине? Но и это не все: продолжение готовит нам еще бо?льшие неожиданности.
Вот Сесиль де Курто, переселившись вместе с мадам де Ламбаль в Версаль, входит в узкий круг приближенных Марии Антуанетты! «Чтобы дать мне представление об этой несчастной королеве, – пишет прабабка господина фон Кайзенберга, – Сесиль вынула из папки литографию, сделанную с отличного портрета, где художник Изабо изобразил Марию Антуанетту с детьми. Она получила эту гравюру от мадам де Турзель[114 - от мадам де Турзель… – Луиза Элизабет де Круа д’Авре, герцогиня де Турзель, воспитательница детей Людовика XVI.], приказавшую снять копию с портрета Изабо специально для придворных дам». И господин фон Кайзенберг приводит репродукцию знаменитого портрета мадам Виже-Лебрен, которую, конечно же, мадам де Турзель не соизволила назвать в качестве автора молодой камерфрау. Но «литография»! В 1787 году! «Уже!» – мог бы воскликнуть Эрве[115 - Но «литография»! В 1787 году! «Уже»! – мог бы воскликнуть Эрве. – Литография изобретена в 1796 году баварцем А. Зенефельдом; Эдуард Эрве, французский публицист конца XIXв.].
Мария Антуанетта была, по свидетельству Сесиль де Курто, особой в высшей степени замечательной, но она совершила ошибку, дав над собой власть парикмахеру Леонару, модистке мадемуазель Бертен и «некоей демуазель Монтасен[116 - Монтансье.], богатой директрисе одного из парижских театров». Она вновь обрела достоинство лишь в час опасности – тогда она стала настоящей королевой. Вечером 5 октября 1789 года баронесса де Курто находилась подле нее на балконе Версаля и видела, как королева устояла перед толпой; на следующий день баронесса сопровождала ее в Тюильри и именно там повстречала одетого в элегантную форму драгун королевы своего друга детства Гектора де Трелиссака. Но едва они обручились – как расстались вновь: Сесиль должна была сопровождать принцессу Ламбаль, направлявшуюся по поручению Марии Антуанетты в Лондон, ходатайствовать перед английским двором о защите королевской семьи.
О своем пребывании в Англии мадам де Курто, к сожалению, почти ничего нам не сообщает. Она лишь говорит в двух словах, что попытки принцессы Ламбаль не имели успеха и что принцесса уже готовилась вернуться к своей августейшей подруге, как та попросила ее повременить с отъездом. Королева просила об этом в длинном письме, которое господин фон Кайзенберг также приводит во французском оригинале. Мария Антуанетта, в частности, пишет: «Les fr?res du roi sont malheureusement entourеs de personnes ambitieuses et еtourdies, qui ne pourront que nous ruiner apr?s s’?tre ruinеes elles-m?mes: car ils ne veulent entendre ceux qui poss?dent notre confiance; et, ce qui est le plus triste en ce moment, ce sont les еmigrants armеs.»[117 - «Братья короля, к сожалению, окружены людьми честолюбивыми и легкомысленными; они могут, погубив себя, повлечь затем и нашу гибель, поскольку не желают слушать тех, кому мы доверяем, но самое печальное в этот момент – вооруженные эмигранты.»]
Но неожиданно 18 августа 1792 года мадам де Ламбаль получила от королевы следующую записку: «Ch?re Lamballe, venez ? moi tout ? heure: je me trouve dans le plus grand danger.»[118 - «Дорогая Ламбаль! Немедленно приезжайте ко мне: я нахожусь в очень большой опасности!» (фр.)] Увы! Записка была поддельной! Когда мадам де Ламбаль прибыла в Париж, королева поклялась, что ничего ей не писала. Несчастная принцесса была арестована и убита. Сесиль де Курто довелось участвовать в трагическом действе, о котором она с рыданиями поведала своей подруге: «Было 18 сентября. Я получила разрешение охранника Тампля повидать Марию Антуанетту и передала ей последние слова ее верной подруги. В то время, как король расспрашивал меня о Лондоне и о предпринятых нами действиях, мы услышали доносившиеся с улицы мычащие[119 - Cris meuglants. Выделенные курсивом слова в подлиннике приведены по-французски. (Прим. автора).] крики. «Citoyenne Capet, soyez-vous donc ? fen?tre»[120 - «Гражданка Капет, выгляните-ка в окно!» (фр.)] – выла озверевшая толпа. Королева подошла к окну, но внезапно она стиснула руки, и мы услышали ее стон: «Oh! сes dеtestables!»[121 - «О! чудовища!» (фр.)] Король и я устремились ей на помощь – и я увидела нацепленную на пику голову моей кроткой принцессы.»[122 - Прицесса де Ламбаль была убита 3 сентября, и как язвила одна из французских газет, поэтому «вы легко объясните, почему при виде этого кровавого трофея двухнедельной давности королева вскрикнула».]
Вскоре, впрочем, мадемуазель де Курто сама была арестована и заключена в казематы Тампля. «Они все еще стоят у меня перед глазами, – рассказывала она госпоже фон Альвенслебен, – и будут стоять всю мою жизнь эти герои, боровшиеся за идею: Кондорсе, Вик-д’Азюр, поэты Флориан и Руше[123 - … героев, боровшихся за идею: Кондорсе, Вик-д’Азюра, поэтов Флориана и Руше. И ниже: Знаменитый художник Шенье… – Мари Жан Антуан, маркиз де Кондорсе (1743-1794), философ-просветитель, математик, политический деятель, сотрудничал в Энциклопедии Дидро и Даламбера, член Французской академии, почетный член Санкт-Петербургской академии наук, отравлен в тюрьме; Феликс Вик-д’Азюр (1748-1794), врач, натуралист, член Французской академии, казнен; Жан Пьер Кларис де Флориан (1755-1794), писатель, член Французской академии; Жан Антуан Руше (1745-1794), поэт, казнен. В «Мемуарах» поэт Андре Мари Шенье (1762-1794) назван художником. Вик-д’Азюр никогда не был в тюрьме, а другие были заключены не в этой тюрьме.]. Так и вижу их сидящими в нашем кружке, непринужденно беседующими, это заставляло нас забыть о страхах и даже о самой смерти. Знаменитый художник Шенье набрасывал при дрожащем свете фонаря портрет поэта Руше.»
Приговоренную революционным трибуналом к смерти Сесиль де Курто везли через весь Париж на роковой телеге, – как вдруг, когда они проезжали по улице дю Бак, им перегородила дорогу другая телега, в которой лежала небольшая бочка. Еще мгновение – и бочка взорвалась, телега разлетелась на куски, и Сесиль оказалась в объятиях своего верного Гектора. Это он, стремясь спасти свою красавицу, вместе с другом подложил бочку с порохом. И, действительно, Сесиль была спасена, но прежде увидела, как ее спаситель, растерзанный толпой, опознавшей в нем зачинщика, пал мертвым к ее ногам.