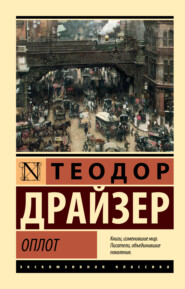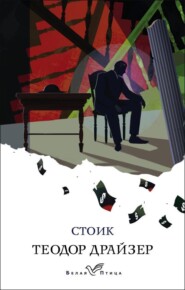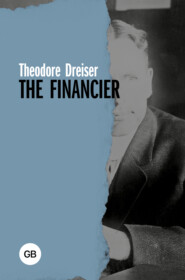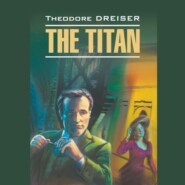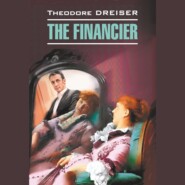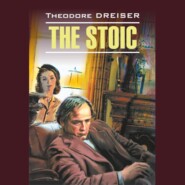По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1912
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Разумеется, я за все заплачу, если перееду к вам, – обратилась она к миссис Кэллиган.
– Что за глупости, Эйлин Батлер! – воскликнула Мэйми. – Ты ничего такого не сделаешь. Ты приедешь и будешь жить здесь как моя гостья.
– Нет! – возразила Эйлин. – Я не приеду, если вы откажетесь принять деньги. Вы должны это сделать!
Он знала, что Кэллиганы не могли содержать ее.
– Так или иначе, пока мы не будем это обсуждать, – заключила миссис Кэллиган. – Ты можешь приехать, когда захочешь, и оставаться так долго, как пожелаешь. Подай мне чистые салфетки, Мэйми.
Эйлин осталась на обед, но вскоре ушла, чтобы успеть к назначенной встрече с Каупервудом, довольная благополучным разрешением своей главной проблемы. Теперь ее положение прояснилось. Она может приехать сюда, если захочет. Нужно было лишь собрать необходимые вещи либо вообще приехать налегке. Вероятно, Фрэнк сможет что-то предложить.
Тем временем Каупервуд не предпринимал попыток связаться с Эйлин после злосчастного обнаружения их убежища, но ожидал сообщения от нее, которое вскоре поступило. Как обычно, это было длинное, оптимистичное и откровенное послание, где она сообщала обо всем, что с ней произошло, и о своем плане уйти из дома. Последнее озадачило и немало встревожило его.
Одно дело – это Эйлин, ухоженная, ни в чем не нуждающаяся и пребывающая в лоне семьи. Совсем другое дело, если она попадает в зависимое положение от других людей. Он и представить не мог, что она будет вынуждена уйти из дома, прежде чем он будет готов забрать ее. Если она сделает это теперь, то возникнут осложнения, сама мысль о которых была далеко не приятной. Но он любил ее и был готов на все, лишь бы она была счастлива. Даже сейчас он мог вполне прилично обеспечивать ее, если не отправится в тюрьму, и даже оттуда он мог оказывать ей какую-то помощь. Но будет гораздо лучше, если он убедит ее остаться дома до тех пор, пока точно не определится его собственная участь. Он не сомневался, что когда-нибудь, что бы ни случилось, в ближайшее время его неприятности закончатся и он снова станет преуспевающим человеком. Если ему удастся получить развод, он хотел жениться на Эйлин. Если же нет, он все равно хотел забрать ее с собой, и с этой точки зрения, возможно, было и хорошо, что сейчас она решила порвать с семьей. Но, принимая во внимание нынешние обстоятельства, включая розыск, который может предпринять Батлер, это было опасно. Старик Батлер мог даже публично обвинить Каупервуда в похищении дочери. Поэтому он решил убедить Эйлин, чтобы она осталась дома, временно прекратила встречи и всяческое общение с ним и даже уехала за границу. С ним все будет в порядке, пока она не вернется: так подсказывал здравый смысл.
Памятуя об этом, он отправился на свидание, которое она назначила в письме, хотя и полагал, что это немного опасно.
– Ты уверена, что тебе там понравится? – спросил он, когда она описала домашнюю обстановку у Кэллиганов. – Кажется, они живут довольно бедно.
– Так и есть, но они мне нравятся, – ответила Эйлин.
– И ты уверена, что они никому не скажут?
– Нет, никогда!
– Ну, хорошо, – сказал он. – Ты знаешь, что делаешь. Я не хочу давать советы против твоей воли. Но если бы я был на твоем месте, то последовал бы желанию твоего отца и уехал на какое-то время. Он рано или поздно остынет, а я по-прежнему буду здесь. Мы сможем переписываться друг с другом.
В тот момент, когда Каупервуд произнес эти слова, Эйлин помрачнела. Ее любовь к нему была так велика, что даже намек на длительную разлуку был подобен удару ножом в грудь. Ее Фрэнк здесь, и он в беде; возможно, его осудят, а ее не будет рядом! Никогда! Как он мог предложить такое? Может быть, он уже не так любит ее, как она его? Неужели он собирается оставить ее как раз в тот момент, когда она собирается сделать шаг, который приблизит их друг другу? Ее глаза затуманились от обиды и негодования.
– Почему ты так говоришь? – воскликнула она. – Ты же знаешь, что сейчас я не уеду из Филадельфии. Ты ведь не думаешь, что я брошу тебя?
Проницательный от природы, Каупервуд хорошо понял, что она имела в виду. Он безмерно любил ее. «Боже милосердный, – подумал он, – я никогда не сделаю ей больно!»
– Милая, ты не понимаешь, – быстро сказал он, когда увидел выражение ее глаз. – Поступай, как считаешь должным. Ты задумала это, чтобы оставаться рядом со мной; вот и хорошо. Больше не думай обо мне и о том, что я тебе сказал. Я лишь считал, что это ухудшит положение для нас обоих, но теперь я так не думаю. Ты полагаешь, что отец сильно любит тебя и, если ты уйдешь, изменит свое мнение. Пусть будет так. Но мы должны быть крайне осторожны, дорогая. Положение и впрямь становится серьезным. Если ты уйдешь из дома и твой отец обвинит меня в похищении, а потом предаст это дело огласке, нам с тобой не поздоровится, и тогда меня точно осудят по этому обвинению, если не по другому. И что потом? Ты не должна чаще встречаться со мной без крайней необходимости. Если бы нам хватило ума и мы бы перестали встречаться до того, как твой отец получил анонимное письмо, то ничего бы не случилось. Но теперь это случилось, и нам нужно быть как можно более благоразумными, понятно?
Он привлек ее к себе и поцеловал.
– Есть ли у тебя деньги?
Эйлин, глубоко тронутая его словами, была уверена, что поступает правильно: отец слишком сильно любит ее. Он не допустит ее публичного осуждения и поэтому не станет открыто нападать на Каупервуда. Скорее всего, объяснила она Фрэнку, отец попросит ее вернуться домой. И он, слушая ее, был вынужден уступить. Зачем спорить? Она все равно не покинет его.
Впервые за все время знакомства с Эйлин он достал из кармана пачку купюр.
– Вот двести долларов, милая, – сказал он. – Я хочу, чтобы до нашей следующей встречи ты ни в чем не нуждалась. И не думай, будто я не люблю тебя; ты знаешь, что это неправда. Я без ума от тебя.
Эйлин запротестовала и заговорила, что ей не нужно так много, ей вообще не нужны деньги, потому что дома у нее есть сбережения, но Каупервуд не стал ее слушать. Он понимал, что она должна иметь деньги.
– Не возражай, дорогая, – сказал он. – Я знаю, что они тебе понадобятся.
Эйлин настолько привыкла время от времени получать щедрые суммы от отца и матери, что вообще не придавала этому значения. Но Фрэнк так любил ее, что любой его поступок казался правильным. Она успокоилась, и они поговорили о переписке, решив, что надежнее всего будет пользоваться услугами частного курьера. Когда они расстались, Эйлин, еще недавно расстроенная неопределенностью своего положения, снова взбодрилась. Она решила, что он действительно любит ее, и ушла повеселевшая. Она могла полагаться на Фрэнка и преподать урок своему отцу.
Глядя ей вслед, Каупервуд покачал головой. Она добавила еще одну проблему к его неприятностям, но, разумеется, он не мог подвести ее. Сорвать покров с этой иллюзии, созданной ее любовью, и сделать ее несчастной, когда она так дорога ему? Нет. Ему не оставалось делать ничего, кроме того, что он сделал. В конце концов, подумал он, все может обернуться не так уж плохо. Любая слежка, которую мог организовать Батлер, лишь докажет, что она сбежала не к нему. Если в какой-то момент возникнет необходимость ввести в игру здравый смысл, чтобы не допустить ужасной развязки, он сможет тайно проинформировать Батлеров о том, где находится Эйлин. Это продемонстрирует, что он имел лишь косвенное отношение к ее поступку, и они попытаются убедить Эйлин, чтобы она вернулась домой. К добру или не к добру – кто может знать? Он собирался бороться с трудностями по мере их появления.
Каупервуд поспешно вернулся в свою контору, а Эйлин пришла домой, полная решимости осуществить свой замысел. Отец дал ей некоторое время на размышление; возможно, он даст еще, но она не должна ждать. Привыкшая к удовлетворению любых своих желаний, она не понимала, почему теперь не может поступить по-своему. Было около пяти часов вечера. Она собиралась подождать, пока вся семья, как обычно, в семь часов вечера сядет ужинать, и незаметно выскользнуть из дома.
Однако, придя домой, она столкнулась с неожиданным обстоятельством, заставившим ее отсрочить исполнение своего плана. Это было присутствие супружеской четы Стейнмиц. Сам Стейнмиц был известным инженером, разрабатывающим чертежи для многочисленных городских предприятий Батлера. Наступал канун Дня благодарения, и они предложили Эйлин и Норе две недели погостить в их новом доме в Вестчестере – очаровательном месте, о котором Эйлин уже была наслышана. Супруги были чрезвычайно приятными людьми, довольно молодыми и имевшими большой круг интересных друзей. Эйлин решила отложить свое бегство и поехать с ними. Отец держался очень любезно, приглашение Стейнмицев было для него облегчением, как и для Эйлин. Вестчестер находился в сорока милях от Филадельфии, поэтому было маловероятно, что Эйлин попытается встретиться с Каупервудом, пока будет гостить там.
Она написала Каупервуду об изменившейся ситуации и уехала, а он облегченно вздохнул и утешился надеждой, что эта буря прошла мимо.
Глава 39
Между тем приближался день судебных слушаний по делу Каупервуда. У него сложилось впечатление, что суд попытается вынести ему обвинительный приговор независимо от рассматриваемых фактов. Он не видел никакого выхода из положения, если только не бросить все и навсегда покинуть Филадельфию, что было невозможно. Единственный способ защитить свое будущее и сохранить связи в финансовых кругах заключался в том, чтобы как можно быстрее пережить суд, а затем воспользоваться поддержкой друзей и окончательно встать на ноги. Он обсудил возможность несправедливого суда со Стэджером, который не считал, что дело дойдет до этого. Во-первых, жюри присяжных нелегко подкупить, кто бы ни пытался это сделать. Во-вторых, большинство судей были честными людьми, несмотря на их политические пристрастия, поэтому в своих мнениях и постановлениях они не будут заходить дальше, чем позволяют их политические предубеждения, то есть не слишком далеко. Конкретный судья, председательствовавший в этом деле, некий Уилбур Пейдерсон из суда четвертных сессий был прямым ставленником Республиканской партии, зависел в своих действиях от Молинауэра, Симпсона и Батлера, но насколько было известно Стэджеру, он считался честным человеком.
– Чего я не могу понять, – сказал Стэджер, – так это почему они так стремятся наказать тебя, разве что в назидательных целях для всего штата. Выборы закончились. Я понимаю, что существует намерение вытащить Стинера в том случае, если его осудят, а это должно случиться. Они обязаны осудить его. Он отправится в тюрьму на год-два, но его амнистируют через половину срока или раньше. Они не могут осудить тебя и выпустить его. Но дело не зайдет так далеко, можешь поверить мне на слово. Мы либо склоним присяжных на свою сторону, либо добьемся отмены приговора в верховном суде штата. Там пятеро судей, которые не станут поддерживать такое вздорное обвинение, это уж точно.
Стэджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуд был доволен. До сих пор молодой юрист превосходно справлялся со всеми его делами. Тем не менее ему не нравилось, что Батлер преследует его и не собирается отступать. Это было серьезное дело, о котором Стэджер ничего не знал. Каупервуд не забывал о нем, когда выслушивал оптимистические заверения своего адвоката.
Начало судебных слушаний происходило во взвинченной обстановке почти для всего шестисоттысячного города. Никто из женщин семьи Каупервудов не пришел в суд. Он настоял на отсутствии любых демонстраций семейной поддержки, чтобы не давать газетам пищу для комментариев. Отец присутствовал как свидетель. За день до суда Каупервуд получил письмо от Эйлин: она сообщила, что вернулась из Вестчестера и желает ему удачи. Ей так не терпелось узнать, что с ним станет, что она больше не могла оставаться в гостях и вернулась домой. Она не пошла в суд, потому что он был против этого, но ей хотелось быть ближе к нему, когда решалась его судьба. Она хотела поздравить его, если он выиграет дело, или утешить его, если он проиграет. Она чувствовала, что ее возвращение с большой вероятностью будет началом нового столкновения с отцом, но ей было все равно.
Необычной была позиция миссис Каупервуд. Она соблюдала внешние формальности и оставалась нежной и заботливой, хотя и понимала, что Фрэнк не нуждается в этом. Он инстинктивно чувствовал, что ей известно об Эйлин, и теперь лишь ожидал подходящего момента, чтобы объясниться. В то судьбоносное утро она сердечно обняла его у двери, как привыкла в годы замужества, но не спешила с прощальным поцелуем. Сам он не хотел целовать ее, но не показывал этого. В конце концов она все-таки поцеловала его и сказала:
– Надеюсь, все закончится хорошо.
– Тебе не стоит беспокоиться, Лилиан, – бодро отозвался он. – Со мной все будет в порядке.
Он сбежал с крыльца и пошел по Джирард-авеню к своей бывшей трамвайной линии, где сел в вагон конки. Он думал об Эйлин и о силе ее чувств к нему, о насмешке, в которую превратилась его супружеская жизнь, разумными ли окажутся присяжные и о многом другом. Этот день мог стать судьбоносным.
Он вышел из вагона на перекрестке Маркет-стрит и Третьей улицы и поспешил в свою контору. Стэджер уже был там.
– Ну что же, Харпер, наш день настал! – мужественно заявил Каупервуд.
Первое заседание суда четвертных сессий должно было состояться в знаменитом Дворце независимости на перекрестке Честнат-стрит и Шестой улицы, который в то время, как и за сто лет до этого, был центром местной административной и судебной деятельности. Это было низкое двухэтажное знание из красного кирпича с белой деревянной башней в центре на старинный голландский или английской манер, с квадратным основанием, круглой средней частью и восьмиугольной вершиной. К центральной части здания справа и слева примыкали два Т-образных крыла, маленькие старомодные двери которых и окна с овальными арками состояли из многочисленных створчатых панелей, что восхищают любителей колониальной архитектуры. Здесь и в снесенной позднее пристройке под названием Стейт-Хаус-Роу находились офисы мэрии и начальника полицейского департамента, палата муниципального совета и другие важные административные службы, вместе с четырьмя отделениями суда четвертных сессий, где рассматривалось все большее количество уголовных дел. Огромная городская ратуша на углу Маркет-стрит и Брод-стрит тогда еще строилась.
Была предпринята попытка реконструировать довольно просторные судебные залы и установлены большие помосты из темного орехового дерева с такими же столами для судей, но она оказалась не слишком удачной. Столы, скамьи присяжных и перила были слишком массивными, что создавало общее впечатление тесноты. Темная мебель, по замыслу декораторов, должна была хорошо сочетаться с бежевой окраской стен, но время и пыль сделали это сочетание слишком мрачным. В зале не было картин или украшений, кроме длинных газовых рожков с аляповатой отделкой на судейском столе и несообразно большой люстры в центре потолка. Толстые судебные приставы и служки, озабоченные сохранением своей бестолковой работы, не оживляли атмосферу. Двое из них во время судебных слушаний ежечасно суетились, чтобы подать судье стакан воды. Еще один, похожий на вальяжного самовлюбленного дворецкого, сопровождал судью в туалетную комнату и обратно. Его обязанность заключалась в том, чтобы громко возглашать, когда судья входил в зал заседаний: «Джентльмены, суд идет! Прошу встать и снять головные уборы!» В то же время судебный пристав, стоявший слева от судьи, когда тот садился на свое место, между скамьей присяжных и стулом для свидетеля, неразборчивой скороговоркой зачитывал ту прекрасную и полную достоинства декларацию коллективных обязательств общества перед его отдельными членами, которая начинается словами «Слушайте! Слушайте!» и заканчивается словами: «…каждый из вас имеет справедливое право на жалобу, которая будет услышана». Однако со стороны могло показаться, что в его словах нет ни малейшего смысла. Привычка и безразличие довели этот обычай до невнятного бормотания. Третий пристав охранял дверь совещательной комнаты для присяжных. Кроме того, в зале присутствовали судебный служка – маленький, с белесым личиком, слезящимися бесцветными глазками, редкими волосами и желтоватой бородкой, наблюдавший за происходящим как обветшавшее подобие китайского мандарина, – а также судебный стенографист.
Судья Уилбур Пейдерсон, тощий, как засохшая селедка, который вел первый допрос во время следствия, когда решался вопрос о предании Каупервуда суду присяжных, представлял собой один из необычных типов судейских чиновников. Он был таким худым и малокровным, что одни эти качества уже привлекали внимание. Он был хорошо осведомлен в знании закона, но в том, что касалось реальной жизни, абсолютно не понимал тонкостей, превосходивших букву закона и составлявших его собственный дух, и относительность любых законов, о чем знают мудрые судьи. Достаточно было лишь посмотреть на его худощавое педантичное лицо, курчавые седые волосы, голубовато-серые безжизненные глаза, в которых не светилось никаких мыслей, и можно было сказать, что он совершенно лишен воображения. Однако тогда он бы не поверил вам и оштрафовал вас за неуважительное отношение к суду. Тщательно используя свои невеликие способности и цепляясь за любое мелочное крючкотворство, подобострастно следуя партийной доктрине и неукоснительно – заповедям о сокрытии личной собственности, он достиг своего нынешнего положения. Его жалованье составляло лишь шесть тысяч долларов в год. Его сомнительная слава не простиралась за пределы ограниченного круга городских судей и юристов. Но ежедневные упоминания о том, что он исполняет свои обязанности и принимает такие-то и такие-то решения, доставляло ему большое удовольствие. Он полагал, что это делает его влиятельной фигурой. «Смотрите, я не такой, как остальные», – часто думал он, и это служило утешением для него. Он был очень польщен, когда в его графике заседаний выпадало важное дело, и, сидя на троне перед тяжущимися сторонами и их юристами, он, как правило, ощущал себя действительно важной персоной. Время от времени сложные жизненные обстоятельства приводили в замешательство его ограниченный интеллект, но в таких случаях он неизменно следовал букве закона. Он мог рыться в судебных отчетах в поисках решений, которые принимали действительно мыслящие люди. Кроме того, вездесущие юристы были необыкновенно хитроумными. Они вертели законодательными нормами перед носом у судьи по своему усмотрению. «Ваша честь, в тридцать втором томе исправленной редакции судебных докладов штата Массачусетс, в деле Эйрондела против Баннермана, страница такая-то и такая-то, строка такая-то и такая-то, вы можете обнаружить, что…» Как часто приходится слышать такое во время судебных заседаний? В большинстве случаев рассудку остается не много места в подобных делах. А святость закона возвышается, как стяг, укрепляющий гордыню властей предержащих.
Как и говорил Стэджер, Пейдерсона едва ли можно было назвать нечестным судьей. Он был партийным судьей и принципиальным республиканцем, обязанным партийным съездам и конференциям продлением своих должностных полномочий, а потому вполне готовым поступать так, как он сочтет нужным для дальнейшего благополучия и процветания партии и частных интересов ее лидеров. Большинство людей не дают себе труда разобраться в движущих механизмах того, что они называют своей совестью. Когда они все же делают это, им недостает навыков для извлечения перепутанных нитей этики и нравственности. Они добросовестно доверяют мнению большинства и силе высших интересов. С тех пор кто-то обронил выражение насчет «корпоративных судей». Есть много таких людей.
Пейдерсон был одним из них. Он глубоко почитал власть и собственность. Для него Батлер, Молинауэр и Симпсон были великим людьми, настолько уверенными в себе, что всегда оказывались правыми благодаря своему могуществу. До него уже давно дошли слухи о растрате Стинера и участии Каупервуда. Сопоставляя мнения разных политических светил, он считал, что хорошо разобрался в этой ситуации. Партия, по мнению ее лидеров, была скомпрометирована махинациями Каупервуда. Он сбил Стинера с пути праведного в большей степени, чем это случалось с кем-либо из прежних городских казначеев. Хотя основная вина лежала на Стинере как на организаторе преступной схемы, Каупервуд талантливо подвел его к еще большей катастрофе. Кроме того, партия нуждалась в козле отпущения, и этого было достаточно для Пейдерсона. Разумеется, после победы на выборах, когда казалось, что партия практически не пострадала, он не вполне понимал, почему Каупервуд был с такой настойчивостью привлечен к ответственности, но он твердо верил, что у партийных лидеров были веские основания для этого. Из разных источников он узнал, что Батлер имеет какую-то личную обиду на Каупервуда. Никто точно не знал, в чем она заключается. Общее мнение склонялось к тому, что Каупервуд втянул Батлера в какие-то нечистоплотные финансовые сделки. Существовало общее понимание, что ради блага партии и показательного урока для отбившихся от рук подчиненных необходимо осуществить правосудие по всей строгости закона. Для нравственного воздействия на общество следовало покарать Каупервуда не менее жестко, чем Стинера. Сам Стинер должен был получить максимальный срок за свое преступление, дабы избежать кривотолков о партийных пристрастиях в суде. После этого его оставят на милость губернатора, который, если захочет, сможет облегчить его положение при согласии партийных лидеров. В простодушном общественном мнении судьи квартальных сессий, подобно девицам из закрытого пансиона, пребывали в блаженной отрешенности от жизни и не ведали, что творится в подземном царстве политики. На самом деле они неплохо разбирались в этом. Они прекрасно знали, кому обязаны сохранением своей власти и положения, и были благодарны за это.
Глава 40
Когда Каупервуд, свежий и оживленный, с видом делового человека и удачливого финансиста, вошел в многолюдный зал суда вместе с отцом и Стэджером, все взоры обратились на него. Большинству показалось, что было бы чрезмерно надеяться на осуждение такого человека. Без сомнения, он был виновен, но также имел средства и способы для уклонения от закона. Его адвокат Харпер Стэджер выглядел очень проницательным и хитроумным. Было очень холодно, и оба были в длинных голубовато-серых пальто, скроенных по последней моде. В хорошую погоду Каупервуд имел привычку носить маленькие бутоньерки, но сегодня обошелся без этого. Но его бледно-сиреневый галстук был изготовлен из дорогого плотного шелка и был скреплен заколкой с крупным изумрудом. Он также носил часы на тонкой цепочке, но больше никаких украшений. Он всегда выглядел жизнерадостным, но сдержанным, добродушным, знающим и уверенным в себе.
Он сразу же оценил место действия, которое теперь имело особенный интерес для него. Перед ним находился еще пустой судейский помост, а справа – пустая скамья для присяжных заседателей. Слева от судьи, если сидеть лицом к публике, находилось место для свидетеля, откуда ему предстояло давать показания. За ним, уже ожидая прибытия судьи, стоял толстый пристав, некий Джон Спаркхивер, чья работа заключалась в том, чтобы взять старую засаленную Библию, на которой должен был поклясться свидетель, и сказать: «Пройдите сюда» – после завершения свидетельских показаний. Были и другие приставы: один стоял у прохода, ведущего в огороженное место перед судейским столом, где выносили приговоры осужденным и где сидели или выступали адвокаты и подсудимые. Другой находился в проходе, ведущем в совещательную комнату, а третий охранял дверь, через которую приходили зрители. Каупервуд пристально посмотрел на Стинера, который теперь был одним из свидетелей и теперь, дрожащий, в страхе перед своей участью, утратил всякую враждебность к кому-либо. На самом деле он изначально никому не хотел зла. Если сейчас он чего-то хотел, так это последовать совету Каупервуда, хотя все еще верил, что Молинауэр и политические силы, которые он представлял, заступятся за него перед губернатором после приговора суда. Он был очень бледным и сильно похудел. Он уже утратил румяную округлость, приобретенную в благополучные времена. На нем был новый серый костюм с коричневым галстуком, он был чисто выбрит. Встретившись с внимательным и твердым взглядом Каупервуда, он вздрогнул и опустил голову, а потом с глупым видом ущипнул себя за ухо. Каупервуд кивнул.
– Знаешь, мне жаль Джорджа, – тихо сказал он Стэджеру. – Он такой дурак. И все-таки я сделал все, что мог.
– Что за глупости, Эйлин Батлер! – воскликнула Мэйми. – Ты ничего такого не сделаешь. Ты приедешь и будешь жить здесь как моя гостья.
– Нет! – возразила Эйлин. – Я не приеду, если вы откажетесь принять деньги. Вы должны это сделать!
Он знала, что Кэллиганы не могли содержать ее.
– Так или иначе, пока мы не будем это обсуждать, – заключила миссис Кэллиган. – Ты можешь приехать, когда захочешь, и оставаться так долго, как пожелаешь. Подай мне чистые салфетки, Мэйми.
Эйлин осталась на обед, но вскоре ушла, чтобы успеть к назначенной встрече с Каупервудом, довольная благополучным разрешением своей главной проблемы. Теперь ее положение прояснилось. Она может приехать сюда, если захочет. Нужно было лишь собрать необходимые вещи либо вообще приехать налегке. Вероятно, Фрэнк сможет что-то предложить.
Тем временем Каупервуд не предпринимал попыток связаться с Эйлин после злосчастного обнаружения их убежища, но ожидал сообщения от нее, которое вскоре поступило. Как обычно, это было длинное, оптимистичное и откровенное послание, где она сообщала обо всем, что с ней произошло, и о своем плане уйти из дома. Последнее озадачило и немало встревожило его.
Одно дело – это Эйлин, ухоженная, ни в чем не нуждающаяся и пребывающая в лоне семьи. Совсем другое дело, если она попадает в зависимое положение от других людей. Он и представить не мог, что она будет вынуждена уйти из дома, прежде чем он будет готов забрать ее. Если она сделает это теперь, то возникнут осложнения, сама мысль о которых была далеко не приятной. Но он любил ее и был готов на все, лишь бы она была счастлива. Даже сейчас он мог вполне прилично обеспечивать ее, если не отправится в тюрьму, и даже оттуда он мог оказывать ей какую-то помощь. Но будет гораздо лучше, если он убедит ее остаться дома до тех пор, пока точно не определится его собственная участь. Он не сомневался, что когда-нибудь, что бы ни случилось, в ближайшее время его неприятности закончатся и он снова станет преуспевающим человеком. Если ему удастся получить развод, он хотел жениться на Эйлин. Если же нет, он все равно хотел забрать ее с собой, и с этой точки зрения, возможно, было и хорошо, что сейчас она решила порвать с семьей. Но, принимая во внимание нынешние обстоятельства, включая розыск, который может предпринять Батлер, это было опасно. Старик Батлер мог даже публично обвинить Каупервуда в похищении дочери. Поэтому он решил убедить Эйлин, чтобы она осталась дома, временно прекратила встречи и всяческое общение с ним и даже уехала за границу. С ним все будет в порядке, пока она не вернется: так подсказывал здравый смысл.
Памятуя об этом, он отправился на свидание, которое она назначила в письме, хотя и полагал, что это немного опасно.
– Ты уверена, что тебе там понравится? – спросил он, когда она описала домашнюю обстановку у Кэллиганов. – Кажется, они живут довольно бедно.
– Так и есть, но они мне нравятся, – ответила Эйлин.
– И ты уверена, что они никому не скажут?
– Нет, никогда!
– Ну, хорошо, – сказал он. – Ты знаешь, что делаешь. Я не хочу давать советы против твоей воли. Но если бы я был на твоем месте, то последовал бы желанию твоего отца и уехал на какое-то время. Он рано или поздно остынет, а я по-прежнему буду здесь. Мы сможем переписываться друг с другом.
В тот момент, когда Каупервуд произнес эти слова, Эйлин помрачнела. Ее любовь к нему была так велика, что даже намек на длительную разлуку был подобен удару ножом в грудь. Ее Фрэнк здесь, и он в беде; возможно, его осудят, а ее не будет рядом! Никогда! Как он мог предложить такое? Может быть, он уже не так любит ее, как она его? Неужели он собирается оставить ее как раз в тот момент, когда она собирается сделать шаг, который приблизит их друг другу? Ее глаза затуманились от обиды и негодования.
– Почему ты так говоришь? – воскликнула она. – Ты же знаешь, что сейчас я не уеду из Филадельфии. Ты ведь не думаешь, что я брошу тебя?
Проницательный от природы, Каупервуд хорошо понял, что она имела в виду. Он безмерно любил ее. «Боже милосердный, – подумал он, – я никогда не сделаю ей больно!»
– Милая, ты не понимаешь, – быстро сказал он, когда увидел выражение ее глаз. – Поступай, как считаешь должным. Ты задумала это, чтобы оставаться рядом со мной; вот и хорошо. Больше не думай обо мне и о том, что я тебе сказал. Я лишь считал, что это ухудшит положение для нас обоих, но теперь я так не думаю. Ты полагаешь, что отец сильно любит тебя и, если ты уйдешь, изменит свое мнение. Пусть будет так. Но мы должны быть крайне осторожны, дорогая. Положение и впрямь становится серьезным. Если ты уйдешь из дома и твой отец обвинит меня в похищении, а потом предаст это дело огласке, нам с тобой не поздоровится, и тогда меня точно осудят по этому обвинению, если не по другому. И что потом? Ты не должна чаще встречаться со мной без крайней необходимости. Если бы нам хватило ума и мы бы перестали встречаться до того, как твой отец получил анонимное письмо, то ничего бы не случилось. Но теперь это случилось, и нам нужно быть как можно более благоразумными, понятно?
Он привлек ее к себе и поцеловал.
– Есть ли у тебя деньги?
Эйлин, глубоко тронутая его словами, была уверена, что поступает правильно: отец слишком сильно любит ее. Он не допустит ее публичного осуждения и поэтому не станет открыто нападать на Каупервуда. Скорее всего, объяснила она Фрэнку, отец попросит ее вернуться домой. И он, слушая ее, был вынужден уступить. Зачем спорить? Она все равно не покинет его.
Впервые за все время знакомства с Эйлин он достал из кармана пачку купюр.
– Вот двести долларов, милая, – сказал он. – Я хочу, чтобы до нашей следующей встречи ты ни в чем не нуждалась. И не думай, будто я не люблю тебя; ты знаешь, что это неправда. Я без ума от тебя.
Эйлин запротестовала и заговорила, что ей не нужно так много, ей вообще не нужны деньги, потому что дома у нее есть сбережения, но Каупервуд не стал ее слушать. Он понимал, что она должна иметь деньги.
– Не возражай, дорогая, – сказал он. – Я знаю, что они тебе понадобятся.
Эйлин настолько привыкла время от времени получать щедрые суммы от отца и матери, что вообще не придавала этому значения. Но Фрэнк так любил ее, что любой его поступок казался правильным. Она успокоилась, и они поговорили о переписке, решив, что надежнее всего будет пользоваться услугами частного курьера. Когда они расстались, Эйлин, еще недавно расстроенная неопределенностью своего положения, снова взбодрилась. Она решила, что он действительно любит ее, и ушла повеселевшая. Она могла полагаться на Фрэнка и преподать урок своему отцу.
Глядя ей вслед, Каупервуд покачал головой. Она добавила еще одну проблему к его неприятностям, но, разумеется, он не мог подвести ее. Сорвать покров с этой иллюзии, созданной ее любовью, и сделать ее несчастной, когда она так дорога ему? Нет. Ему не оставалось делать ничего, кроме того, что он сделал. В конце концов, подумал он, все может обернуться не так уж плохо. Любая слежка, которую мог организовать Батлер, лишь докажет, что она сбежала не к нему. Если в какой-то момент возникнет необходимость ввести в игру здравый смысл, чтобы не допустить ужасной развязки, он сможет тайно проинформировать Батлеров о том, где находится Эйлин. Это продемонстрирует, что он имел лишь косвенное отношение к ее поступку, и они попытаются убедить Эйлин, чтобы она вернулась домой. К добру или не к добру – кто может знать? Он собирался бороться с трудностями по мере их появления.
Каупервуд поспешно вернулся в свою контору, а Эйлин пришла домой, полная решимости осуществить свой замысел. Отец дал ей некоторое время на размышление; возможно, он даст еще, но она не должна ждать. Привыкшая к удовлетворению любых своих желаний, она не понимала, почему теперь не может поступить по-своему. Было около пяти часов вечера. Она собиралась подождать, пока вся семья, как обычно, в семь часов вечера сядет ужинать, и незаметно выскользнуть из дома.
Однако, придя домой, она столкнулась с неожиданным обстоятельством, заставившим ее отсрочить исполнение своего плана. Это было присутствие супружеской четы Стейнмиц. Сам Стейнмиц был известным инженером, разрабатывающим чертежи для многочисленных городских предприятий Батлера. Наступал канун Дня благодарения, и они предложили Эйлин и Норе две недели погостить в их новом доме в Вестчестере – очаровательном месте, о котором Эйлин уже была наслышана. Супруги были чрезвычайно приятными людьми, довольно молодыми и имевшими большой круг интересных друзей. Эйлин решила отложить свое бегство и поехать с ними. Отец держался очень любезно, приглашение Стейнмицев было для него облегчением, как и для Эйлин. Вестчестер находился в сорока милях от Филадельфии, поэтому было маловероятно, что Эйлин попытается встретиться с Каупервудом, пока будет гостить там.
Она написала Каупервуду об изменившейся ситуации и уехала, а он облегченно вздохнул и утешился надеждой, что эта буря прошла мимо.
Глава 39
Между тем приближался день судебных слушаний по делу Каупервуда. У него сложилось впечатление, что суд попытается вынести ему обвинительный приговор независимо от рассматриваемых фактов. Он не видел никакого выхода из положения, если только не бросить все и навсегда покинуть Филадельфию, что было невозможно. Единственный способ защитить свое будущее и сохранить связи в финансовых кругах заключался в том, чтобы как можно быстрее пережить суд, а затем воспользоваться поддержкой друзей и окончательно встать на ноги. Он обсудил возможность несправедливого суда со Стэджером, который не считал, что дело дойдет до этого. Во-первых, жюри присяжных нелегко подкупить, кто бы ни пытался это сделать. Во-вторых, большинство судей были честными людьми, несмотря на их политические пристрастия, поэтому в своих мнениях и постановлениях они не будут заходить дальше, чем позволяют их политические предубеждения, то есть не слишком далеко. Конкретный судья, председательствовавший в этом деле, некий Уилбур Пейдерсон из суда четвертных сессий был прямым ставленником Республиканской партии, зависел в своих действиях от Молинауэра, Симпсона и Батлера, но насколько было известно Стэджеру, он считался честным человеком.
– Чего я не могу понять, – сказал Стэджер, – так это почему они так стремятся наказать тебя, разве что в назидательных целях для всего штата. Выборы закончились. Я понимаю, что существует намерение вытащить Стинера в том случае, если его осудят, а это должно случиться. Они обязаны осудить его. Он отправится в тюрьму на год-два, но его амнистируют через половину срока или раньше. Они не могут осудить тебя и выпустить его. Но дело не зайдет так далеко, можешь поверить мне на слово. Мы либо склоним присяжных на свою сторону, либо добьемся отмены приговора в верховном суде штата. Там пятеро судей, которые не станут поддерживать такое вздорное обвинение, это уж точно.
Стэджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуд был доволен. До сих пор молодой юрист превосходно справлялся со всеми его делами. Тем не менее ему не нравилось, что Батлер преследует его и не собирается отступать. Это было серьезное дело, о котором Стэджер ничего не знал. Каупервуд не забывал о нем, когда выслушивал оптимистические заверения своего адвоката.
Начало судебных слушаний происходило во взвинченной обстановке почти для всего шестисоттысячного города. Никто из женщин семьи Каупервудов не пришел в суд. Он настоял на отсутствии любых демонстраций семейной поддержки, чтобы не давать газетам пищу для комментариев. Отец присутствовал как свидетель. За день до суда Каупервуд получил письмо от Эйлин: она сообщила, что вернулась из Вестчестера и желает ему удачи. Ей так не терпелось узнать, что с ним станет, что она больше не могла оставаться в гостях и вернулась домой. Она не пошла в суд, потому что он был против этого, но ей хотелось быть ближе к нему, когда решалась его судьба. Она хотела поздравить его, если он выиграет дело, или утешить его, если он проиграет. Она чувствовала, что ее возвращение с большой вероятностью будет началом нового столкновения с отцом, но ей было все равно.
Необычной была позиция миссис Каупервуд. Она соблюдала внешние формальности и оставалась нежной и заботливой, хотя и понимала, что Фрэнк не нуждается в этом. Он инстинктивно чувствовал, что ей известно об Эйлин, и теперь лишь ожидал подходящего момента, чтобы объясниться. В то судьбоносное утро она сердечно обняла его у двери, как привыкла в годы замужества, но не спешила с прощальным поцелуем. Сам он не хотел целовать ее, но не показывал этого. В конце концов она все-таки поцеловала его и сказала:
– Надеюсь, все закончится хорошо.
– Тебе не стоит беспокоиться, Лилиан, – бодро отозвался он. – Со мной все будет в порядке.
Он сбежал с крыльца и пошел по Джирард-авеню к своей бывшей трамвайной линии, где сел в вагон конки. Он думал об Эйлин и о силе ее чувств к нему, о насмешке, в которую превратилась его супружеская жизнь, разумными ли окажутся присяжные и о многом другом. Этот день мог стать судьбоносным.
Он вышел из вагона на перекрестке Маркет-стрит и Третьей улицы и поспешил в свою контору. Стэджер уже был там.
– Ну что же, Харпер, наш день настал! – мужественно заявил Каупервуд.
Первое заседание суда четвертных сессий должно было состояться в знаменитом Дворце независимости на перекрестке Честнат-стрит и Шестой улицы, который в то время, как и за сто лет до этого, был центром местной административной и судебной деятельности. Это было низкое двухэтажное знание из красного кирпича с белой деревянной башней в центре на старинный голландский или английской манер, с квадратным основанием, круглой средней частью и восьмиугольной вершиной. К центральной части здания справа и слева примыкали два Т-образных крыла, маленькие старомодные двери которых и окна с овальными арками состояли из многочисленных створчатых панелей, что восхищают любителей колониальной архитектуры. Здесь и в снесенной позднее пристройке под названием Стейт-Хаус-Роу находились офисы мэрии и начальника полицейского департамента, палата муниципального совета и другие важные административные службы, вместе с четырьмя отделениями суда четвертных сессий, где рассматривалось все большее количество уголовных дел. Огромная городская ратуша на углу Маркет-стрит и Брод-стрит тогда еще строилась.
Была предпринята попытка реконструировать довольно просторные судебные залы и установлены большие помосты из темного орехового дерева с такими же столами для судей, но она оказалась не слишком удачной. Столы, скамьи присяжных и перила были слишком массивными, что создавало общее впечатление тесноты. Темная мебель, по замыслу декораторов, должна была хорошо сочетаться с бежевой окраской стен, но время и пыль сделали это сочетание слишком мрачным. В зале не было картин или украшений, кроме длинных газовых рожков с аляповатой отделкой на судейском столе и несообразно большой люстры в центре потолка. Толстые судебные приставы и служки, озабоченные сохранением своей бестолковой работы, не оживляли атмосферу. Двое из них во время судебных слушаний ежечасно суетились, чтобы подать судье стакан воды. Еще один, похожий на вальяжного самовлюбленного дворецкого, сопровождал судью в туалетную комнату и обратно. Его обязанность заключалась в том, чтобы громко возглашать, когда судья входил в зал заседаний: «Джентльмены, суд идет! Прошу встать и снять головные уборы!» В то же время судебный пристав, стоявший слева от судьи, когда тот садился на свое место, между скамьей присяжных и стулом для свидетеля, неразборчивой скороговоркой зачитывал ту прекрасную и полную достоинства декларацию коллективных обязательств общества перед его отдельными членами, которая начинается словами «Слушайте! Слушайте!» и заканчивается словами: «…каждый из вас имеет справедливое право на жалобу, которая будет услышана». Однако со стороны могло показаться, что в его словах нет ни малейшего смысла. Привычка и безразличие довели этот обычай до невнятного бормотания. Третий пристав охранял дверь совещательной комнаты для присяжных. Кроме того, в зале присутствовали судебный служка – маленький, с белесым личиком, слезящимися бесцветными глазками, редкими волосами и желтоватой бородкой, наблюдавший за происходящим как обветшавшее подобие китайского мандарина, – а также судебный стенографист.
Судья Уилбур Пейдерсон, тощий, как засохшая селедка, который вел первый допрос во время следствия, когда решался вопрос о предании Каупервуда суду присяжных, представлял собой один из необычных типов судейских чиновников. Он был таким худым и малокровным, что одни эти качества уже привлекали внимание. Он был хорошо осведомлен в знании закона, но в том, что касалось реальной жизни, абсолютно не понимал тонкостей, превосходивших букву закона и составлявших его собственный дух, и относительность любых законов, о чем знают мудрые судьи. Достаточно было лишь посмотреть на его худощавое педантичное лицо, курчавые седые волосы, голубовато-серые безжизненные глаза, в которых не светилось никаких мыслей, и можно было сказать, что он совершенно лишен воображения. Однако тогда он бы не поверил вам и оштрафовал вас за неуважительное отношение к суду. Тщательно используя свои невеликие способности и цепляясь за любое мелочное крючкотворство, подобострастно следуя партийной доктрине и неукоснительно – заповедям о сокрытии личной собственности, он достиг своего нынешнего положения. Его жалованье составляло лишь шесть тысяч долларов в год. Его сомнительная слава не простиралась за пределы ограниченного круга городских судей и юристов. Но ежедневные упоминания о том, что он исполняет свои обязанности и принимает такие-то и такие-то решения, доставляло ему большое удовольствие. Он полагал, что это делает его влиятельной фигурой. «Смотрите, я не такой, как остальные», – часто думал он, и это служило утешением для него. Он был очень польщен, когда в его графике заседаний выпадало важное дело, и, сидя на троне перед тяжущимися сторонами и их юристами, он, как правило, ощущал себя действительно важной персоной. Время от времени сложные жизненные обстоятельства приводили в замешательство его ограниченный интеллект, но в таких случаях он неизменно следовал букве закона. Он мог рыться в судебных отчетах в поисках решений, которые принимали действительно мыслящие люди. Кроме того, вездесущие юристы были необыкновенно хитроумными. Они вертели законодательными нормами перед носом у судьи по своему усмотрению. «Ваша честь, в тридцать втором томе исправленной редакции судебных докладов штата Массачусетс, в деле Эйрондела против Баннермана, страница такая-то и такая-то, строка такая-то и такая-то, вы можете обнаружить, что…» Как часто приходится слышать такое во время судебных заседаний? В большинстве случаев рассудку остается не много места в подобных делах. А святость закона возвышается, как стяг, укрепляющий гордыню властей предержащих.
Как и говорил Стэджер, Пейдерсона едва ли можно было назвать нечестным судьей. Он был партийным судьей и принципиальным республиканцем, обязанным партийным съездам и конференциям продлением своих должностных полномочий, а потому вполне готовым поступать так, как он сочтет нужным для дальнейшего благополучия и процветания партии и частных интересов ее лидеров. Большинство людей не дают себе труда разобраться в движущих механизмах того, что они называют своей совестью. Когда они все же делают это, им недостает навыков для извлечения перепутанных нитей этики и нравственности. Они добросовестно доверяют мнению большинства и силе высших интересов. С тех пор кто-то обронил выражение насчет «корпоративных судей». Есть много таких людей.
Пейдерсон был одним из них. Он глубоко почитал власть и собственность. Для него Батлер, Молинауэр и Симпсон были великим людьми, настолько уверенными в себе, что всегда оказывались правыми благодаря своему могуществу. До него уже давно дошли слухи о растрате Стинера и участии Каупервуда. Сопоставляя мнения разных политических светил, он считал, что хорошо разобрался в этой ситуации. Партия, по мнению ее лидеров, была скомпрометирована махинациями Каупервуда. Он сбил Стинера с пути праведного в большей степени, чем это случалось с кем-либо из прежних городских казначеев. Хотя основная вина лежала на Стинере как на организаторе преступной схемы, Каупервуд талантливо подвел его к еще большей катастрофе. Кроме того, партия нуждалась в козле отпущения, и этого было достаточно для Пейдерсона. Разумеется, после победы на выборах, когда казалось, что партия практически не пострадала, он не вполне понимал, почему Каупервуд был с такой настойчивостью привлечен к ответственности, но он твердо верил, что у партийных лидеров были веские основания для этого. Из разных источников он узнал, что Батлер имеет какую-то личную обиду на Каупервуда. Никто точно не знал, в чем она заключается. Общее мнение склонялось к тому, что Каупервуд втянул Батлера в какие-то нечистоплотные финансовые сделки. Существовало общее понимание, что ради блага партии и показательного урока для отбившихся от рук подчиненных необходимо осуществить правосудие по всей строгости закона. Для нравственного воздействия на общество следовало покарать Каупервуда не менее жестко, чем Стинера. Сам Стинер должен был получить максимальный срок за свое преступление, дабы избежать кривотолков о партийных пристрастиях в суде. После этого его оставят на милость губернатора, который, если захочет, сможет облегчить его положение при согласии партийных лидеров. В простодушном общественном мнении судьи квартальных сессий, подобно девицам из закрытого пансиона, пребывали в блаженной отрешенности от жизни и не ведали, что творится в подземном царстве политики. На самом деле они неплохо разбирались в этом. Они прекрасно знали, кому обязаны сохранением своей власти и положения, и были благодарны за это.
Глава 40
Когда Каупервуд, свежий и оживленный, с видом делового человека и удачливого финансиста, вошел в многолюдный зал суда вместе с отцом и Стэджером, все взоры обратились на него. Большинству показалось, что было бы чрезмерно надеяться на осуждение такого человека. Без сомнения, он был виновен, но также имел средства и способы для уклонения от закона. Его адвокат Харпер Стэджер выглядел очень проницательным и хитроумным. Было очень холодно, и оба были в длинных голубовато-серых пальто, скроенных по последней моде. В хорошую погоду Каупервуд имел привычку носить маленькие бутоньерки, но сегодня обошелся без этого. Но его бледно-сиреневый галстук был изготовлен из дорогого плотного шелка и был скреплен заколкой с крупным изумрудом. Он также носил часы на тонкой цепочке, но больше никаких украшений. Он всегда выглядел жизнерадостным, но сдержанным, добродушным, знающим и уверенным в себе.
Он сразу же оценил место действия, которое теперь имело особенный интерес для него. Перед ним находился еще пустой судейский помост, а справа – пустая скамья для присяжных заседателей. Слева от судьи, если сидеть лицом к публике, находилось место для свидетеля, откуда ему предстояло давать показания. За ним, уже ожидая прибытия судьи, стоял толстый пристав, некий Джон Спаркхивер, чья работа заключалась в том, чтобы взять старую засаленную Библию, на которой должен был поклясться свидетель, и сказать: «Пройдите сюда» – после завершения свидетельских показаний. Были и другие приставы: один стоял у прохода, ведущего в огороженное место перед судейским столом, где выносили приговоры осужденным и где сидели или выступали адвокаты и подсудимые. Другой находился в проходе, ведущем в совещательную комнату, а третий охранял дверь, через которую приходили зрители. Каупервуд пристально посмотрел на Стинера, который теперь был одним из свидетелей и теперь, дрожащий, в страхе перед своей участью, утратил всякую враждебность к кому-либо. На самом деле он изначально никому не хотел зла. Если сейчас он чего-то хотел, так это последовать совету Каупервуда, хотя все еще верил, что Молинауэр и политические силы, которые он представлял, заступятся за него перед губернатором после приговора суда. Он был очень бледным и сильно похудел. Он уже утратил румяную округлость, приобретенную в благополучные времена. На нем был новый серый костюм с коричневым галстуком, он был чисто выбрит. Встретившись с внимательным и твердым взглядом Каупервуда, он вздрогнул и опустил голову, а потом с глупым видом ущипнул себя за ухо. Каупервуд кивнул.
– Знаешь, мне жаль Джорджа, – тихо сказал он Стэджеру. – Он такой дурак. И все-таки я сделал все, что мог.