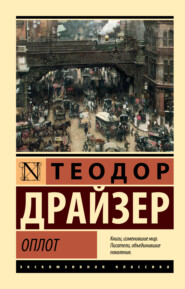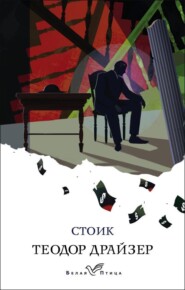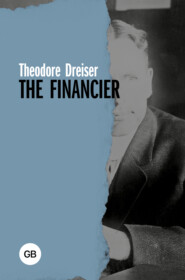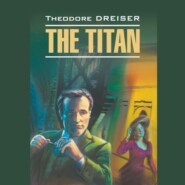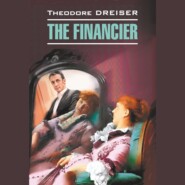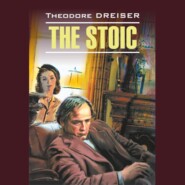По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Финансист. Титан. Стоик. «Трилогия желания» в одном томе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1912
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не ожидал найти тебя в таком месте, дочь моя, – сказал он. – Я думал, ты более высокого мнения о себе.
Его голос прервался, и он ненадолго замолчал.
– Я знаю, с кем ты здесь, – продолжал он, грустно качая головой. – Негодяй! Я еще доберусь до него. Я нанял людей, чтобы следить за тобой. О, какой стыд! Стыд и позор! Ты сейчас же поедешь домой вместе со мной.
– В том-то и дело, отец, – сказала Эйлин. – Ты нанял людей для слежки за мной. Мне следовало бы подумать… – Тут она замолчала, потому что он вскинул руку странным, мучительным и в то же время властным жестом.
– Молчи, молчи! – велел он, сверкая глазами из-под седых бровей. – Я этого не вынесу! Не искушай меня! Мы еще не ушли из этого дома. Он еще здесь! Теперь мы поедем домой.
Эйлин поняла, что он говорит о Каупервуде. Это испугало ее.
– Я готова, – нервно сказала она.
Старик вышел первым, терзаясь от унижения. Он чувствовал, что до конца своих дней будет помнить муки этого часа.
Глава 37
Несмотря на ярость Батлера и его решимость причинить всевозможные бедствия молодому финансисту, он был настолько взбудоражен и потрясен поведением Эйлин, что с трудом мог считать себя тем человеком, которым он был еще вчера. Она была такой бесстрастной, такой отчаянной! Он ожидал, что она совершенно увянет, столкнувшись с доказательством своей вины. Как только они отъехали от дома, он с горестным изумлениям обнаружил, что пробудил в девушке бойцовские качества, сравнимые с его собственными. В ее характере обнаружилась твердость, присущая отцу и Оуэну. Она сидела рядом с ним в маленькой коляске, взятой у сыщиков, и ее лицо то бледнело, то краснело от разных мыслей, волнами накатывавших на нее. Теперь, когда отец подстроил ей ловушку, она была полна решимости стоять на своем, провозгласить свою любовь к Каупервуду и свою позицию в целом. Какая разница, что теперь думает ее отец, спрашивала она себя. Она полюбила Каупервуда и была навеки опозорена в глазах отца. Чего ей еще терять? Она так низко пала в его родительском мнении, что он стал шпионить за ней и унизил ее перед другими мужчинами, незнакомцами, сыщиками, Каупервудом. Какие чувства она могла испытывать к нему после этого? По ее мнению, он совершил большую ошибку. Он поступил глупо и недостойно; такое было недопустимо, как бы сильно она ни провинилась перед семьей. Чего он надеялся достичь, разоблачив ее подобным образом и сорвав покровы с ее души перед чужими людьми, перед этими грубыми сыщиками? О, как она страдала, когда спускалась из спальни в приемную! За это она никогда не простит своего отца, никогда, никогда! Он убил ее любовь к нему, и она чувствовала это. Теперь между ними развернется настоящая битва. Пока они ехали в полном молчании, она демонстративно сжимала и разжимала кулаки, впиваясь ногтями в ладони, а ее губы сжались в тонкую линию.
Вопрос о том, приносит ли жесткое противостояние хотя бы какую-то пользу, остается открытым. Оно кажется настолько свойственным человеческому образу мышления, что как будто имеет огромную ценность. Оно выглядит неотъемлемой частью спектакля под названием жизнь и даже может быть научно обоснованным, но что остается в итоге, когда все сказано и сделано? Какова ценность этого спектакля? И как усмотреть достоинство в той сцене, которая сейчас разыгралась между Эйлин и ее отцом?
Пока они ехали, старик не видел в этом ничего, кроме непреклонного столкновения двух характеров. Но чем оно могло закончиться? Что он мог сделать с ней? Они уезжали прочь от места позорной катастрофы, а она не говорила ни слова! Как он мог усмирить ее, если даже сцена внезапного разоблачения не оказала никакого действия? Его замысел, столь успешно состоявшийся, бесславно провалился в нравственном отношении. Они подъехали к дому, и Эйлин вышла из коляски. Старик, слишком растерянный для того, чтобы продолжать наступление, вернулся в свою контору. Потом он вышел на улицу и пошел пешком, что было крайне необычно для него – он так не делал уже несколько лет, – стараясь собраться с мыслями. Увидев открытую католическую церковь, он зашел внутрь и помолился о вразумлении. Торжественный сумрак, единственная негасимая лампада перед дарохранительницей и высокий белый алтарь со множеством свечей успокоили его взбудораженные чувства.
Через некоторое время он вышел из церкви и вернулся домой. Эйлин не вышла к ужину, а ему еда не лезла в горло. Он ушел в свой кабинет, плотно закрыл дверь и погрузился в глубокое раздумье. Ужасное зрелище – Эйлин в публичном доме – пылало в его мозгу. Только подумать, что Каупервуд привел ее в такое место, его Эйлин, любимицу матери! Несмотря на его молитвы и неуверенность, несмотря на ее враждебность и запутанную ситуацию, ее нужно было вытащить из этого. Она должна уехать на какое-то время, оставить этого мужчину, а потом закон разберется с ним. По всей вероятности, Каупервуд отправится в тюрьму; если какой-то человек в полной мере этого заслуживает, то он первый. Батлер не может подкупить присяжных, так как это будет преступлением, но он может проследить, чтобы обвинение было мощным и убедительным, и если Каупервуда осудят, то Бог ему в помощь. Заступничество его друзей финансистов не сможет его спасти. Судьи низшей и высшей инстанции знают, с какой стороны их хлеб намазан маслом. Они будут склоняться на сторону высокопоставленных политиков, а он определенно мог повлиять на это.
Тем временем Эйлин размышляла над странным положением, в котором она оказалась. Несмотря на ее молчание по пути домой, она понимал, что ей предстоит разговор с отцом. Скорее всего, он в том или ином виде вернется к идее о поездке в Европу – теперь она не сомневалась, что приглашение от миссис Молинауэр было очередной уловкой, – и ей предстоит решить, что она будет делать. Может ли она оставить Каупервуда, когда он скоро предстанет перед судом? Она уже решила, что не сделает этого. Ей хотелось видеть, что с ним происходит и как все закончится. Она может опередить отца и самостоятельно уйти из дома: сбежать к какой-нибудь родственнице или подруге, даже к незнакомому человеку, если это будет необходимо, и попросить убежища. У нее было немного личных денег. Отец всегда был очень щедр к ней. Она могла взять коекакую одежду и скрыться из дома. Они будут только рады найти ее после некоторого отсутствия. Конечно, ее мать сойдет с ума от беспокойства. Нора, Кэллам и Оуэн будут удивлены и вне себя от тревоги, а отец, что ж, она может встретиться с ним. Возможно, это приведет его в чувство. Несмотря на все свои капризы, она была гордостью и надеждой своей семьи и хорошо понимала это.
Мысли Эйлин двигались в этом направлении еще несколько дней после ужасного разоблачения на Шестой улице, когда отец послал за ней и велел прийти в свой кабинет. Он вернулся домой из своей конторы вскоре после полудня в надежде найти там Эйлин, чтобы наконец-то всерьез побеседовать с ней. Последние несколько дней она не испытывала желания выезжать в город; ее слишком заботили грядущие неприятности. Она только что написала Каупервуду и предложила встретиться на Уиссахиконе завтра днем, несмотря на сыщиков. Она должна была увидеть его. Отец, по ее словам, еще ничего не сделал, но она была уверена, что он попытается что-то предпринять. Ей хотелось поговорить об этом с Каупервудом.
– Я думал о тебе, Эйлин, и о том, что можно предпринять в связи с этим делом, – без обиняков начал ее отец, когда они встретились в его домашнем кабинете. – Ты находишься на гибельном пути, тут ничего не скажешь. Я трепещу, когда думаю о твоей бессмертной душе. Мне хочется что-то сделать для тебя, дитя мое, пока еще не слишком поздно. Уже больше месяца я укорял себя мыслями о том, что, может быть, мы с твоей матерью что-то упустили, что-то сделали не так или не смогли сделать, раз уж ты оказалась в таком положении, как сейчас. Не стоит и говорить, что это бремя лежит на моей совести, дитя мое. Я больше не смогу высоко держать голову. О, какой стыд и позор! Только подумать, что я дожил до этого!
Эйлин была расстроена мыслью о том, что ей придется выслушать длинную проповедь, где речь пойдет о ее долге перед Богом и церковью, перед семьей, матерью и отцом. Она понимала, что все это по-своему важно, но Каупервуд со своим мировоззрением дал ей другой взгляд на жизнь. Они всесторонне обсуждали вопрос о семейных отношениях: о детях и родителях, мужьях и женах, братьях и сестрах. Либеральные взгляды Каупервуда основательно повлияли на ее образ мыслей. Она смотрела на вещи с этой бесстрастной и откровенной позиции: «Мои желания превыше всего остального». Он сожалел о мелких различиях характера, возникавших между людьми и приводивших к ссорам, пререканиям, враждебности и отчуждению, но с этим ничего нельзя было поделать. Люди перерастали друг друга. Их точки зрения изменялись в различной степени, что вело к переменам в отношениях. Некоторые имели моральные принципы, другие нет. Этому не было объяснения. Сам он не видел ничего плохого в половых отношениях, непорочных и восхитительных для тех, чьи души тянулись друг к другу. Эйлин в его объятиях, незамужняя, но любимая, для него была такой же чистой и добропорядочной, как любая другая женщина, – на самом деле гораздо чище и порядочнее большинства остальных. Человек существует в конкретных общественных условиях, где принят определенный порядок вещей. Для достижения успеха в таком обществе, для того, чтобы не оскорблять чужое мнение, сделать свой путь более простым и гладким, избегать ненужной критики и тому подобных вещей, необходимо было создать внешнее подобие, соответствующее общепринятым нравам. Но на этом необходимость заканчивалась. Не допускай промахов и неудач, никогда не попадайся с поличным, а если не повезло, молча борись за жизнь и не оправдывайся. Именно этим он и занимался в связи с нынешними финансовыми неприятностями; именно так он был готов поступить в тот день, когда их застигли с поличным. Примерно такие мысли окрашивали настроение Эйлин, когда она слушала речь своего отца.
– Но, отец, я люблю мистера Каупервуда, – возразила она. – Это почти то же самое, как если бы мы с ним были мужем и женой. Он женится на мне после того, как получит развод от миссис Каупервуд. Ты просто не понимаешь, как обстоят дела. Он очень любит меня, а я люблю его. Он нуждается во мне.
Батлер окинул ее странным недоумевающим взглядом.
– Ты говоришь о разводе, – начал он, думая о католической церкви и ее догмах. – Он разведется с женой, бросит детей, и все это ради тебя, не так ли? Он нуждается в тебе, верно? – язвительно добавил он. – А как насчет его жены и детей? Думаешь, они не нуждаются в нем? Что это за разговоры?
Эйлин дерзко вздернула подбородок.
– Тем не менее это правда, – заявила она. – Ты просто не понимаешь.
Батлер с трудом верил своим ушам. За всю жизнь еще никто не разговаривал с ним в подобном тоне. Это изумило и шокировало его. Он был искушен в тонкостях бизнеса и политики, но любовные дела оставались для него тайной за семью печатями. Он ничего не знал о них. Только подумать, что его дочь, да к тому же католичка, может так разговаривать с ним! Он не мог понять, откуда у нее взялись такие взгляды, если не от беспринципного, растленного влияния Каупервуда.
– Как долго ты придерживаешься таких убеждений, дитя мое? – внезапно спросил он спокойным и рассудительным тоном. – Откуда они у тебя? В этом доме ты определенно не могла слышать ничего подобного. Ты говоришь так, как будто сошла с ума.
– Не говори ерунды, отец! – сердито вспыхнула Эйлин, думая о том, как бесполезно говорить с ним о таких вещах. – Я больше не ребенок. Мне двадцать четыре года. Ты не можешь понять очевидные вещи. Мистер Каупервуд не любит свою жену. Он собирается развестись с ней, как только сможет это сделать, и жениться на мне. Я люблю его, он любит меня, и этим все сказано.
– Вот оно как! – воскликнул Батлер, исполненный суровой решимости втолковать дочери толику здравого смысла. – Значит, тебе безразлично, что будет с его женой и детьми? Полагаю, тебя не беспокоит и тот факт, что он скоро попадет за решетку. Ты будешь любить его в полосатой арестантской робе, надо думать, еще сильнее? (Старик выражался лучше и понятнее всего, когда говорил иронично.) Значит, ты получишь его в таком виде, если это вообще случится.
Негодование Эйлин мгновенно вспыхнуло ярким пламенем:
– Да, я знаю, – отрезала она. – Это тебе очень понравится. Мне известно, что ты творишь, и Фрэнк тоже все знает. Ты пытаешься упрятать его в тюрьму за то, чего он не делал, и все это ради меня! О да, я знаю. Но ты не можешь повредить ему. Не можешь! Он лучше и сильнее, чем ты думаешь, ты не сможешь одолеть его. Он снова окажется на свободе. Ты хочешь наказать его из-за меня, но ему наплевать на это. Я все равно выйду за него замуж. Я люблю его, поэтому я дождусь его и стану его женой, а ты можешь поступать так, как тебе угодно. Вот так!
– Значит, ты выйдешь за него замуж? – спросил Батлер, сбитый с толку и потрясенный больше прежнего. – Стало быть, ты дождешься его и станешь его женой? Ты отберешь его у жены и детей, с которыми, если бы он был хотя бы наполовину мужчиной, он должен оставаться в такое время, вместо того чтобы приплясывать вокруг тебя. Выйти за него замуж? Ты готова опозорить своих родителей и свою семью? Ты стоишь здесь и заявляешь об этом, хотя я воспитал тебя, заботился о тебе и сделал кое-что из тебя? Где бы ты была, если бы не я и твоя бедная, работящая мать, которая годами опекала тебя и мечтала о твоем будущем? Полагаю, ты умнее меня. Ты больше меня знаешь о мире, и тебе ни к чему слушать чужие мнения. Я воспитывал тебя, чтобы ты стала дамой из высшего общества, и вот что я получил в конце концов. Теперь скажи мне, что я ничего не понимаю и что ты любишь будущего осужденного преступника, грабителя, растратчика, банкрота, лживого…
– Отец! – выкрикнула Эйлин. – Я не собираюсь слушать такие речи. Все, что ты говоришь о нем, – неправда. Я не собираюсь здесь оставаться! – Она направилась к двери, но Батлер встал и с неожиданной резвостью остановил ее. Его лицо раскраснелось и пылало гневом.
– Но я еще не покончил с ним, – продолжал он, игнорируя ее попытку уйти и обращаясь прямо к ней, теперь вполне уверенный, что она как никто другой способна понять его. – Я доберусь до него, и ничто меня не остановит. В этой стране есть закон, и я поступлю с ним по закону. Я покажу ему, как шастать по чужим домам и похищать детей у родителей!
Он на некоторое время замолчал, чтобы перевести дух, а Эйлин смотрела на него с напряженным и бледным лицом. Ее отец мог выглядеть совершенно нелепо. По сравнению с Каупервудом и его взглядами он был невыносимо старомодным. Только подумать о том, что он говорит о человеке, который тайком пробрался в его дом и похитил ее, когда она сама была готова уйти с ним! Какая глупость! Но к чему спорить? Чего хорошего можно добиться, если пререкаться с ним здесь таким образом? Поэтому она решила промолчать и просто смотрела на отца. Но Батлер еще далеко не закончил. Он был слишком возбужденным, несмотря на то, что он сам старался обуздать себя.
– Это очень плохо, дочь, – тихо продолжил он, когда убедился в том, что она не желает отвечать. – Я позволил гневу одержать верх надо мной. Не об этом я собирался поговорить с тобой, когда пригласил тебя сюда. У меня на уме есть нечто другое. Я подумал, что тебе, наверное, на некоторое время стоит отправиться в Европу и заняться музыкой. Сейчас ты не вполне в себе. Тебе нужен отдых. Тебе будет полезно на какое-то время уехать из дома. Ты прекрасно проведешь время. Если хочешь, Нора поедет с тобой, и сестра Констанция, которая учила тебя. Полагаю, ты не будешь возражать против ее общества?
При упоминании поездки в Европу, сестры Констанции и уроков музыки, вброшенных ради придания новизны первоначальному предложению, Эйлин насторожилась, но вместе с тем горько улыбнулась про себя. Как нелепо и, в сущности, как бестактно это звучало со стороны ее отца, особенно после решительного осуждения ее связи с Каупервудом и всевозможных угроз в его адрес! Неужели у него вообще нет другого, более дипломатичного подхода к дочери? Это было так забавно! Но она снова воздержалась от иронии, так как видела и чувствовала, что все подобные аргументы будут тщетными.
– Лучше бы ты не говорил об этом, отец, – сказала она, несколько смягчившись после его объяснения. – Сейчас я не хочу ехать в Европу. Я не хочу покидать Филадельфию. Знаю, тебе не терпится отправить меня подальше, но я даже не могу думать об этом. Просто не могу.
Лицо Батлера снова омрачилось. Какой смысл в упрямстве, в упорном ее сопротивлении? Неужели она и впрямь думает, будто может превзойти его, ее отца, да к тому же в таком серьезном вопросе, как этот? Невероятно! Но он умерил свой гнев, насколько это было возможно, и продолжал довольно мягким тоном:
– Но это будет очень хорошо для тебя, Эйлин. Ведь ты не можешь оставаться здесь после… – Он помедлил, поскольку собирался сказать «после того, что произошло». Он знал, что она очень болезненно относится к случившемуся. Слежка за ней была немыслимым нарушением отцовской деликатности, и он понимал ее возмущение и даже до некоторой степени считал его оправданным. Тем не менее, что могло быть тяжелее ее собственного проступка? – После такой ошибки ты определенно не захочешь остаться здесь, – заключил он. – Ты не можешь оправдать смертный грех. Это против всех законов, Божьих и человеческих.
Он сказал это в надежде, что мысль о грехе наконец дойдет до Эйлин и она осознает всю безмерность своего безнравственного проступка. Но Эйлин была далека от этого.
– Ты не понимаешь меня, отец, – безнадежно повторила она. – Ты не можешь понять. У меня одно представление, у тебя другое. Не понимаю, как я сейчас могу заставить тебя понять это. Но если хочешь знать, я больше не верю в католическую церковь, вот и все.
В тот момент, когда Эйлин произнесла эти слова, она пожалела о них. Они сорвались у нее с языка. Лицо Батлера приобрело невыразимо печальное, безнадежное выражение.
– Ты не веришь церкви? – спросил он.
– Не совсем так, не так, как ты.
Он покачал головой.
– Господи спаси твою душу! – промолвил он. – Мне ясно, дочь, что с тобой произошло нечто ужасное. Этот человек растлил твою душу и тело. Нужно что-то делать. Я не хочу жестоко обходиться с тобой, но ты должна покинуть Филадельфию. Ты не можешь здесь оставаться, и я этого не позволю. Можешь уехать в Европу или к твоей тетушке в Нью-Орлеан, но ты должна куда-то уехать. Я не допущу твоего пребывания здесь, это слишком опасно. Уже завтра газеты могут раструбить об этом. Ты еще молода. Перед тобой вся жизнь. Я страшусь за твою душу, но пока ты жива и молода, ты еще можешь прийти в чувство. Мой долг быть твердым. Это моя обязанность перед тобой и церковью. Ты должна покончить с такой жизнью и оставить этого человека. Ты больше никогда его не увидишь; я этого не позволю. В нем нет ничего хорошего. Он не собирается жениться на тебе, а если бы и собирался, это было бы преступлением против Господа и человека. Нет-нет. Никогда! Он не будет верен тебе, нет, он не будет. Не такой он человек. – Батлер помедлил, раздосадованный до глубины души. – Ты должна уехать – это мое окончательное решение. Я желаю тебе добра, но хочу этого. Пойми, я действую в твоих интересах. Я люблю тебя, но мы обязаны так поступить. Мне будет жаль, что ты уезжаешь; я предпочел бы, чтобы ты осталась здесь. Никому не будет горше, чем мне, но так должно быть. А ты должна сделать так, чтобы все это показалось твоей матери обычным и естественным. Но тебе нужно уехать, слышишь? Ты обязана это сделать.
Он замолчал, печально, но твердо глядя на Эйлин из-под густых бровей. Она понимала, что он не отступится от своего. Это было самое торжественное, самое религиозное выражение его лица. Но она не ответила да и не могла этого сделать. Какой смысл? Она никуда не уедет. Она знала это и стояла перед ним, бледная и напряженная.
– Теперь собери одежду, которая тебе понадобится, – продолжал Батлер, не желающий понимать ее истинные чувства. – Подумай обо всем, что тебе понадобится. Скажи, куда ты хочешь отправиться, и будь готова.
– Но я не поеду, отец, – наконец ответила Эйлин с такой же серьезной торжественностью. – Я никуда не поеду! Я останусь в Филадельфии.
– Ты хочешь сказать, что сознательно прекословишь мне, когда я прошу тебя что-то сделать ради твоего же блага? Так, дочь моя?
– Да, – решительно ответила Эйлин. – Я никуда не поеду! Мне очень жаль, но я не поеду.
– Ты правда так думаешь, дочка? – печально, но сурово спросил Батлер.
Его голос прервался, и он ненадолго замолчал.
– Я знаю, с кем ты здесь, – продолжал он, грустно качая головой. – Негодяй! Я еще доберусь до него. Я нанял людей, чтобы следить за тобой. О, какой стыд! Стыд и позор! Ты сейчас же поедешь домой вместе со мной.
– В том-то и дело, отец, – сказала Эйлин. – Ты нанял людей для слежки за мной. Мне следовало бы подумать… – Тут она замолчала, потому что он вскинул руку странным, мучительным и в то же время властным жестом.
– Молчи, молчи! – велел он, сверкая глазами из-под седых бровей. – Я этого не вынесу! Не искушай меня! Мы еще не ушли из этого дома. Он еще здесь! Теперь мы поедем домой.
Эйлин поняла, что он говорит о Каупервуде. Это испугало ее.
– Я готова, – нервно сказала она.
Старик вышел первым, терзаясь от унижения. Он чувствовал, что до конца своих дней будет помнить муки этого часа.
Глава 37
Несмотря на ярость Батлера и его решимость причинить всевозможные бедствия молодому финансисту, он был настолько взбудоражен и потрясен поведением Эйлин, что с трудом мог считать себя тем человеком, которым он был еще вчера. Она была такой бесстрастной, такой отчаянной! Он ожидал, что она совершенно увянет, столкнувшись с доказательством своей вины. Как только они отъехали от дома, он с горестным изумлениям обнаружил, что пробудил в девушке бойцовские качества, сравнимые с его собственными. В ее характере обнаружилась твердость, присущая отцу и Оуэну. Она сидела рядом с ним в маленькой коляске, взятой у сыщиков, и ее лицо то бледнело, то краснело от разных мыслей, волнами накатывавших на нее. Теперь, когда отец подстроил ей ловушку, она была полна решимости стоять на своем, провозгласить свою любовь к Каупервуду и свою позицию в целом. Какая разница, что теперь думает ее отец, спрашивала она себя. Она полюбила Каупервуда и была навеки опозорена в глазах отца. Чего ей еще терять? Она так низко пала в его родительском мнении, что он стал шпионить за ней и унизил ее перед другими мужчинами, незнакомцами, сыщиками, Каупервудом. Какие чувства она могла испытывать к нему после этого? По ее мнению, он совершил большую ошибку. Он поступил глупо и недостойно; такое было недопустимо, как бы сильно она ни провинилась перед семьей. Чего он надеялся достичь, разоблачив ее подобным образом и сорвав покровы с ее души перед чужими людьми, перед этими грубыми сыщиками? О, как она страдала, когда спускалась из спальни в приемную! За это она никогда не простит своего отца, никогда, никогда! Он убил ее любовь к нему, и она чувствовала это. Теперь между ними развернется настоящая битва. Пока они ехали в полном молчании, она демонстративно сжимала и разжимала кулаки, впиваясь ногтями в ладони, а ее губы сжались в тонкую линию.
Вопрос о том, приносит ли жесткое противостояние хотя бы какую-то пользу, остается открытым. Оно кажется настолько свойственным человеческому образу мышления, что как будто имеет огромную ценность. Оно выглядит неотъемлемой частью спектакля под названием жизнь и даже может быть научно обоснованным, но что остается в итоге, когда все сказано и сделано? Какова ценность этого спектакля? И как усмотреть достоинство в той сцене, которая сейчас разыгралась между Эйлин и ее отцом?
Пока они ехали, старик не видел в этом ничего, кроме непреклонного столкновения двух характеров. Но чем оно могло закончиться? Что он мог сделать с ней? Они уезжали прочь от места позорной катастрофы, а она не говорила ни слова! Как он мог усмирить ее, если даже сцена внезапного разоблачения не оказала никакого действия? Его замысел, столь успешно состоявшийся, бесславно провалился в нравственном отношении. Они подъехали к дому, и Эйлин вышла из коляски. Старик, слишком растерянный для того, чтобы продолжать наступление, вернулся в свою контору. Потом он вышел на улицу и пошел пешком, что было крайне необычно для него – он так не делал уже несколько лет, – стараясь собраться с мыслями. Увидев открытую католическую церковь, он зашел внутрь и помолился о вразумлении. Торжественный сумрак, единственная негасимая лампада перед дарохранительницей и высокий белый алтарь со множеством свечей успокоили его взбудораженные чувства.
Через некоторое время он вышел из церкви и вернулся домой. Эйлин не вышла к ужину, а ему еда не лезла в горло. Он ушел в свой кабинет, плотно закрыл дверь и погрузился в глубокое раздумье. Ужасное зрелище – Эйлин в публичном доме – пылало в его мозгу. Только подумать, что Каупервуд привел ее в такое место, его Эйлин, любимицу матери! Несмотря на его молитвы и неуверенность, несмотря на ее враждебность и запутанную ситуацию, ее нужно было вытащить из этого. Она должна уехать на какое-то время, оставить этого мужчину, а потом закон разберется с ним. По всей вероятности, Каупервуд отправится в тюрьму; если какой-то человек в полной мере этого заслуживает, то он первый. Батлер не может подкупить присяжных, так как это будет преступлением, но он может проследить, чтобы обвинение было мощным и убедительным, и если Каупервуда осудят, то Бог ему в помощь. Заступничество его друзей финансистов не сможет его спасти. Судьи низшей и высшей инстанции знают, с какой стороны их хлеб намазан маслом. Они будут склоняться на сторону высокопоставленных политиков, а он определенно мог повлиять на это.
Тем временем Эйлин размышляла над странным положением, в котором она оказалась. Несмотря на ее молчание по пути домой, она понимал, что ей предстоит разговор с отцом. Скорее всего, он в том или ином виде вернется к идее о поездке в Европу – теперь она не сомневалась, что приглашение от миссис Молинауэр было очередной уловкой, – и ей предстоит решить, что она будет делать. Может ли она оставить Каупервуда, когда он скоро предстанет перед судом? Она уже решила, что не сделает этого. Ей хотелось видеть, что с ним происходит и как все закончится. Она может опередить отца и самостоятельно уйти из дома: сбежать к какой-нибудь родственнице или подруге, даже к незнакомому человеку, если это будет необходимо, и попросить убежища. У нее было немного личных денег. Отец всегда был очень щедр к ней. Она могла взять коекакую одежду и скрыться из дома. Они будут только рады найти ее после некоторого отсутствия. Конечно, ее мать сойдет с ума от беспокойства. Нора, Кэллам и Оуэн будут удивлены и вне себя от тревоги, а отец, что ж, она может встретиться с ним. Возможно, это приведет его в чувство. Несмотря на все свои капризы, она была гордостью и надеждой своей семьи и хорошо понимала это.
Мысли Эйлин двигались в этом направлении еще несколько дней после ужасного разоблачения на Шестой улице, когда отец послал за ней и велел прийти в свой кабинет. Он вернулся домой из своей конторы вскоре после полудня в надежде найти там Эйлин, чтобы наконец-то всерьез побеседовать с ней. Последние несколько дней она не испытывала желания выезжать в город; ее слишком заботили грядущие неприятности. Она только что написала Каупервуду и предложила встретиться на Уиссахиконе завтра днем, несмотря на сыщиков. Она должна была увидеть его. Отец, по ее словам, еще ничего не сделал, но она была уверена, что он попытается что-то предпринять. Ей хотелось поговорить об этом с Каупервудом.
– Я думал о тебе, Эйлин, и о том, что можно предпринять в связи с этим делом, – без обиняков начал ее отец, когда они встретились в его домашнем кабинете. – Ты находишься на гибельном пути, тут ничего не скажешь. Я трепещу, когда думаю о твоей бессмертной душе. Мне хочется что-то сделать для тебя, дитя мое, пока еще не слишком поздно. Уже больше месяца я укорял себя мыслями о том, что, может быть, мы с твоей матерью что-то упустили, что-то сделали не так или не смогли сделать, раз уж ты оказалась в таком положении, как сейчас. Не стоит и говорить, что это бремя лежит на моей совести, дитя мое. Я больше не смогу высоко держать голову. О, какой стыд и позор! Только подумать, что я дожил до этого!
Эйлин была расстроена мыслью о том, что ей придется выслушать длинную проповедь, где речь пойдет о ее долге перед Богом и церковью, перед семьей, матерью и отцом. Она понимала, что все это по-своему важно, но Каупервуд со своим мировоззрением дал ей другой взгляд на жизнь. Они всесторонне обсуждали вопрос о семейных отношениях: о детях и родителях, мужьях и женах, братьях и сестрах. Либеральные взгляды Каупервуда основательно повлияли на ее образ мыслей. Она смотрела на вещи с этой бесстрастной и откровенной позиции: «Мои желания превыше всего остального». Он сожалел о мелких различиях характера, возникавших между людьми и приводивших к ссорам, пререканиям, враждебности и отчуждению, но с этим ничего нельзя было поделать. Люди перерастали друг друга. Их точки зрения изменялись в различной степени, что вело к переменам в отношениях. Некоторые имели моральные принципы, другие нет. Этому не было объяснения. Сам он не видел ничего плохого в половых отношениях, непорочных и восхитительных для тех, чьи души тянулись друг к другу. Эйлин в его объятиях, незамужняя, но любимая, для него была такой же чистой и добропорядочной, как любая другая женщина, – на самом деле гораздо чище и порядочнее большинства остальных. Человек существует в конкретных общественных условиях, где принят определенный порядок вещей. Для достижения успеха в таком обществе, для того, чтобы не оскорблять чужое мнение, сделать свой путь более простым и гладким, избегать ненужной критики и тому подобных вещей, необходимо было создать внешнее подобие, соответствующее общепринятым нравам. Но на этом необходимость заканчивалась. Не допускай промахов и неудач, никогда не попадайся с поличным, а если не повезло, молча борись за жизнь и не оправдывайся. Именно этим он и занимался в связи с нынешними финансовыми неприятностями; именно так он был готов поступить в тот день, когда их застигли с поличным. Примерно такие мысли окрашивали настроение Эйлин, когда она слушала речь своего отца.
– Но, отец, я люблю мистера Каупервуда, – возразила она. – Это почти то же самое, как если бы мы с ним были мужем и женой. Он женится на мне после того, как получит развод от миссис Каупервуд. Ты просто не понимаешь, как обстоят дела. Он очень любит меня, а я люблю его. Он нуждается во мне.
Батлер окинул ее странным недоумевающим взглядом.
– Ты говоришь о разводе, – начал он, думая о католической церкви и ее догмах. – Он разведется с женой, бросит детей, и все это ради тебя, не так ли? Он нуждается в тебе, верно? – язвительно добавил он. – А как насчет его жены и детей? Думаешь, они не нуждаются в нем? Что это за разговоры?
Эйлин дерзко вздернула подбородок.
– Тем не менее это правда, – заявила она. – Ты просто не понимаешь.
Батлер с трудом верил своим ушам. За всю жизнь еще никто не разговаривал с ним в подобном тоне. Это изумило и шокировало его. Он был искушен в тонкостях бизнеса и политики, но любовные дела оставались для него тайной за семью печатями. Он ничего не знал о них. Только подумать, что его дочь, да к тому же католичка, может так разговаривать с ним! Он не мог понять, откуда у нее взялись такие взгляды, если не от беспринципного, растленного влияния Каупервуда.
– Как долго ты придерживаешься таких убеждений, дитя мое? – внезапно спросил он спокойным и рассудительным тоном. – Откуда они у тебя? В этом доме ты определенно не могла слышать ничего подобного. Ты говоришь так, как будто сошла с ума.
– Не говори ерунды, отец! – сердито вспыхнула Эйлин, думая о том, как бесполезно говорить с ним о таких вещах. – Я больше не ребенок. Мне двадцать четыре года. Ты не можешь понять очевидные вещи. Мистер Каупервуд не любит свою жену. Он собирается развестись с ней, как только сможет это сделать, и жениться на мне. Я люблю его, он любит меня, и этим все сказано.
– Вот оно как! – воскликнул Батлер, исполненный суровой решимости втолковать дочери толику здравого смысла. – Значит, тебе безразлично, что будет с его женой и детьми? Полагаю, тебя не беспокоит и тот факт, что он скоро попадет за решетку. Ты будешь любить его в полосатой арестантской робе, надо думать, еще сильнее? (Старик выражался лучше и понятнее всего, когда говорил иронично.) Значит, ты получишь его в таком виде, если это вообще случится.
Негодование Эйлин мгновенно вспыхнуло ярким пламенем:
– Да, я знаю, – отрезала она. – Это тебе очень понравится. Мне известно, что ты творишь, и Фрэнк тоже все знает. Ты пытаешься упрятать его в тюрьму за то, чего он не делал, и все это ради меня! О да, я знаю. Но ты не можешь повредить ему. Не можешь! Он лучше и сильнее, чем ты думаешь, ты не сможешь одолеть его. Он снова окажется на свободе. Ты хочешь наказать его из-за меня, но ему наплевать на это. Я все равно выйду за него замуж. Я люблю его, поэтому я дождусь его и стану его женой, а ты можешь поступать так, как тебе угодно. Вот так!
– Значит, ты выйдешь за него замуж? – спросил Батлер, сбитый с толку и потрясенный больше прежнего. – Стало быть, ты дождешься его и станешь его женой? Ты отберешь его у жены и детей, с которыми, если бы он был хотя бы наполовину мужчиной, он должен оставаться в такое время, вместо того чтобы приплясывать вокруг тебя. Выйти за него замуж? Ты готова опозорить своих родителей и свою семью? Ты стоишь здесь и заявляешь об этом, хотя я воспитал тебя, заботился о тебе и сделал кое-что из тебя? Где бы ты была, если бы не я и твоя бедная, работящая мать, которая годами опекала тебя и мечтала о твоем будущем? Полагаю, ты умнее меня. Ты больше меня знаешь о мире, и тебе ни к чему слушать чужие мнения. Я воспитывал тебя, чтобы ты стала дамой из высшего общества, и вот что я получил в конце концов. Теперь скажи мне, что я ничего не понимаю и что ты любишь будущего осужденного преступника, грабителя, растратчика, банкрота, лживого…
– Отец! – выкрикнула Эйлин. – Я не собираюсь слушать такие речи. Все, что ты говоришь о нем, – неправда. Я не собираюсь здесь оставаться! – Она направилась к двери, но Батлер встал и с неожиданной резвостью остановил ее. Его лицо раскраснелось и пылало гневом.
– Но я еще не покончил с ним, – продолжал он, игнорируя ее попытку уйти и обращаясь прямо к ней, теперь вполне уверенный, что она как никто другой способна понять его. – Я доберусь до него, и ничто меня не остановит. В этой стране есть закон, и я поступлю с ним по закону. Я покажу ему, как шастать по чужим домам и похищать детей у родителей!
Он на некоторое время замолчал, чтобы перевести дух, а Эйлин смотрела на него с напряженным и бледным лицом. Ее отец мог выглядеть совершенно нелепо. По сравнению с Каупервудом и его взглядами он был невыносимо старомодным. Только подумать о том, что он говорит о человеке, который тайком пробрался в его дом и похитил ее, когда она сама была готова уйти с ним! Какая глупость! Но к чему спорить? Чего хорошего можно добиться, если пререкаться с ним здесь таким образом? Поэтому она решила промолчать и просто смотрела на отца. Но Батлер еще далеко не закончил. Он был слишком возбужденным, несмотря на то, что он сам старался обуздать себя.
– Это очень плохо, дочь, – тихо продолжил он, когда убедился в том, что она не желает отвечать. – Я позволил гневу одержать верх надо мной. Не об этом я собирался поговорить с тобой, когда пригласил тебя сюда. У меня на уме есть нечто другое. Я подумал, что тебе, наверное, на некоторое время стоит отправиться в Европу и заняться музыкой. Сейчас ты не вполне в себе. Тебе нужен отдых. Тебе будет полезно на какое-то время уехать из дома. Ты прекрасно проведешь время. Если хочешь, Нора поедет с тобой, и сестра Констанция, которая учила тебя. Полагаю, ты не будешь возражать против ее общества?
При упоминании поездки в Европу, сестры Констанции и уроков музыки, вброшенных ради придания новизны первоначальному предложению, Эйлин насторожилась, но вместе с тем горько улыбнулась про себя. Как нелепо и, в сущности, как бестактно это звучало со стороны ее отца, особенно после решительного осуждения ее связи с Каупервудом и всевозможных угроз в его адрес! Неужели у него вообще нет другого, более дипломатичного подхода к дочери? Это было так забавно! Но она снова воздержалась от иронии, так как видела и чувствовала, что все подобные аргументы будут тщетными.
– Лучше бы ты не говорил об этом, отец, – сказала она, несколько смягчившись после его объяснения. – Сейчас я не хочу ехать в Европу. Я не хочу покидать Филадельфию. Знаю, тебе не терпится отправить меня подальше, но я даже не могу думать об этом. Просто не могу.
Лицо Батлера снова омрачилось. Какой смысл в упрямстве, в упорном ее сопротивлении? Неужели она и впрямь думает, будто может превзойти его, ее отца, да к тому же в таком серьезном вопросе, как этот? Невероятно! Но он умерил свой гнев, насколько это было возможно, и продолжал довольно мягким тоном:
– Но это будет очень хорошо для тебя, Эйлин. Ведь ты не можешь оставаться здесь после… – Он помедлил, поскольку собирался сказать «после того, что произошло». Он знал, что она очень болезненно относится к случившемуся. Слежка за ней была немыслимым нарушением отцовской деликатности, и он понимал ее возмущение и даже до некоторой степени считал его оправданным. Тем не менее, что могло быть тяжелее ее собственного проступка? – После такой ошибки ты определенно не захочешь остаться здесь, – заключил он. – Ты не можешь оправдать смертный грех. Это против всех законов, Божьих и человеческих.
Он сказал это в надежде, что мысль о грехе наконец дойдет до Эйлин и она осознает всю безмерность своего безнравственного проступка. Но Эйлин была далека от этого.
– Ты не понимаешь меня, отец, – безнадежно повторила она. – Ты не можешь понять. У меня одно представление, у тебя другое. Не понимаю, как я сейчас могу заставить тебя понять это. Но если хочешь знать, я больше не верю в католическую церковь, вот и все.
В тот момент, когда Эйлин произнесла эти слова, она пожалела о них. Они сорвались у нее с языка. Лицо Батлера приобрело невыразимо печальное, безнадежное выражение.
– Ты не веришь церкви? – спросил он.
– Не совсем так, не так, как ты.
Он покачал головой.
– Господи спаси твою душу! – промолвил он. – Мне ясно, дочь, что с тобой произошло нечто ужасное. Этот человек растлил твою душу и тело. Нужно что-то делать. Я не хочу жестоко обходиться с тобой, но ты должна покинуть Филадельфию. Ты не можешь здесь оставаться, и я этого не позволю. Можешь уехать в Европу или к твоей тетушке в Нью-Орлеан, но ты должна куда-то уехать. Я не допущу твоего пребывания здесь, это слишком опасно. Уже завтра газеты могут раструбить об этом. Ты еще молода. Перед тобой вся жизнь. Я страшусь за твою душу, но пока ты жива и молода, ты еще можешь прийти в чувство. Мой долг быть твердым. Это моя обязанность перед тобой и церковью. Ты должна покончить с такой жизнью и оставить этого человека. Ты больше никогда его не увидишь; я этого не позволю. В нем нет ничего хорошего. Он не собирается жениться на тебе, а если бы и собирался, это было бы преступлением против Господа и человека. Нет-нет. Никогда! Он не будет верен тебе, нет, он не будет. Не такой он человек. – Батлер помедлил, раздосадованный до глубины души. – Ты должна уехать – это мое окончательное решение. Я желаю тебе добра, но хочу этого. Пойми, я действую в твоих интересах. Я люблю тебя, но мы обязаны так поступить. Мне будет жаль, что ты уезжаешь; я предпочел бы, чтобы ты осталась здесь. Никому не будет горше, чем мне, но так должно быть. А ты должна сделать так, чтобы все это показалось твоей матери обычным и естественным. Но тебе нужно уехать, слышишь? Ты обязана это сделать.
Он замолчал, печально, но твердо глядя на Эйлин из-под густых бровей. Она понимала, что он не отступится от своего. Это было самое торжественное, самое религиозное выражение его лица. Но она не ответила да и не могла этого сделать. Какой смысл? Она никуда не уедет. Она знала это и стояла перед ним, бледная и напряженная.
– Теперь собери одежду, которая тебе понадобится, – продолжал Батлер, не желающий понимать ее истинные чувства. – Подумай обо всем, что тебе понадобится. Скажи, куда ты хочешь отправиться, и будь готова.
– Но я не поеду, отец, – наконец ответила Эйлин с такой же серьезной торжественностью. – Я никуда не поеду! Я останусь в Филадельфии.
– Ты хочешь сказать, что сознательно прекословишь мне, когда я прошу тебя что-то сделать ради твоего же блага? Так, дочь моя?
– Да, – решительно ответила Эйлин. – Я никуда не поеду! Мне очень жаль, но я не поеду.
– Ты правда так думаешь, дочка? – печально, но сурово спросил Батлер.