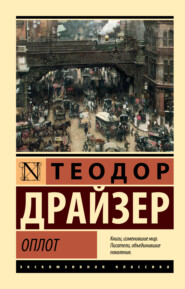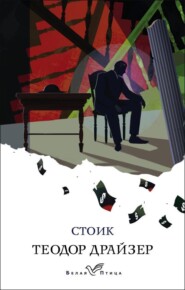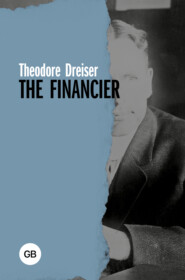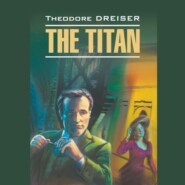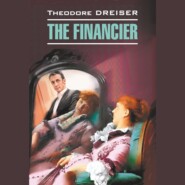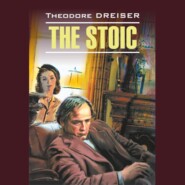По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галерея женщин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Рода… Я повернулся к ней. Она плакала.
– Забудь, – вот и все, что я мог посоветовать. – Ты ничего не в силах изменить, не так ли? Она такая, какая есть. Если ты собираешься рыдать обо всех несовершенствах мира, ты никогда не остановишься. Кроме того, ты испортишь макияж.
Но он был уже непоправимо испорчен.
Вернемся к Рейне. Как-то раз, недель за шесть до своего отъезда, они с приятельницей зашли в квартиру Роды за какой-то принадлежащей ей вещью. Роясь в коробке, где хранились их со Свеном письма, она начала перебирать их одно за другим. Пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Рейна стала рассказывать подруге о ссорах, которые сопровождали ее семейную жизнь, как она уходила от Свена три или четыре раза, а он всегда следовал за ней.
Потом, не смущаясь моим присутствием, Рейна попросила подругу прочитать письмо, которое она написала Свену во время одной из этих ссор. Подруга сказала, что письмо «крутое».
– Я и сама так считаю, – призналась Рейна. – Но я его тогда так и не отправила, потому что подумала, что, может быть, все это неправда. Хотя Свен всегда западал на такие штуки. Вот я и написала ему.
Против воли прислушиваясь к их болтовне, я увидел, как она бросила письмо обратно в коробку.
– Разве ты не возьмешь его с собой, Рейна?
– Конечно нет. Оно мне теперь без надобности.
– Вроде бы ты говорила, что скучала по Свену?
– Ну скучала – немного. Но письмо-то все равно не отправила. Прочти, если хочешь, а потом выброси в мусорную корзину. Ты, конечно, посмеешься надо мной, но я тогда писала, что думала.
Позже мне пришло в голову, что письмо может осветить какие-то потаенные уголки души автора, и я извлек его из корзины для мусора, куда оно было небрежно брошено. Предоставляю его на суд читателя.
Дорогой Свен,
сегодня такая прекрасная ночь, и я не могу уснуть, а просто наслаждаюсь ею и думаю о тебе. Кажется, за два года наша супружеская жизнь совсем развалилась, Свен. Жаль, конечно. И ты пытался что-то исправить, и я пыталась, но что ушло, так это наша настоящая любовь друг к другу, а ведь ни один живой человек не может быть счастлив без любви, правда? Я знаю, ты думал, что причина во мне, но ты должен понять, почему я бывала сердитой и раздражительной.
В последний раз, когда мы опять стали жить вместе, так это потому, что я думала, будто мне не наплевать на тебя. Желание быть с тобой я не могла объяснить, так странно это и жутко, что я непременно должна была заполучить тебя. А теперь я знаю, что скучала по тому счастливому человеку, каким ты был раньше, и нигде не могла найти его, и мне было ужасно грустно, и я не могла без тебя такого жить.
Я знаю, ты разочаровался во мне, но это к лучшему, не все люди созданы для брака, и ничего тут не поделаешь.
Когда-то не было женщины счастливее меня. Я была как сумасшедшая от твоей любви и думала, что так будет всегда. Уверена, ты чувствовал то же самое, но иногда жизнь идет как будто наоборот. Я всегда верила тебе, Свен, пока ты не начал таиться от меня и врать почем зря. Что бы там ни было, ты выбрал один путь, а я – другой. Может быть, дело в этом. А может, в том, что мы никогда не были по-настоящему вместе. Теперь ты поймал свой шанс, а я все еще ищу свой.
Почему один человек может заставить другого так страдать, если это не из-за ненависти или недомыслия? Когда я капризничала, в душе мне хотелось, чтобы ты меня обнял, и твои поцелуи я никогда не забуду. Но я скорее буду жить одна и вспоминать любовь, которая у меня была, чем вернусь к тебе, чтобы мы опять ненавидели друг друга.
Я знаю, тебе тоже тяжело. Не думай, Свен, что у меня нет сердца, хотя иногда это выглядит именно так. Я сочувствую тебе и помогла бы с радостью, если бы могла. Я знаю, что на самом деле ты лучше, чем думаешь о себе, и кто-то должен помочь тебе это осознать.
Я так рада, что твоя работа приносит тебе радость, а значит, нет причин, чтобы ты не достиг любой вершины, как и другие мужчины, которые смогли добиться того, чего хотели, и я надеюсь, так же будет с тобой.
На самом деле хорошо, что ты теперь свободен от семейной жизни, потому что на пути к твоей вершине больше нет препятствий. Мы еще молоды, и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто станет для тебя самым лучшим, тогда придет время вспомнить, что мы были правы, когда порвали друг с другом и позволили судьбе привести нас к настоящей любви.
Пожалуйста, Свен, постарайся понять меня, потому что лучше нам жить, словно мы никогда и не встречались, если нам не наплевать, что с нами будет дальше.
Объясни своим родителям, Свен, когда вернешься домой, почему все так вышло и что я всегда считала их за своих родных отца и мать, и передай им мое почтение. Я уверена, что они не станут меня осуждать, то есть надеюсь, что не станут.
Я уверена, Свен, что все несчастливые часы, которые ты провел со мной, будут забыты и я тоже начну новую жизнь с чистого листа прямо сегодня. Развод будет, когда я накоплю на него денег, и мы сможем вычеркнуть из жизни два года нашего горемычного брака.
Я написала это, чтобы все уложилось в голове, было тяжело, но я это сделала.
Так что прощай, Свен, это мои последние слова тебе. Пожалуйста, прости и забудь – это единственный путь для нас. Заканчиваю свое письмо искренними пожеланиями тебе светлого будущего, я буду уважать тебя как своего мужа до конца дней.
Пусть Бог простит нас, как всегда.
Рейна.
Через пять месяцев после отъезда Рейны из Лос-Анджелеса от Свена к Роде пришло письмо. На почтовом штемпеле можно было разобрать: Калгари, Канада, – но обратного адреса на конверте не было.
Дорогая Рода,
ты удивишься, наверное, получив от меня весточку, но я должен тебе тысячу, и вот она. Пожалуйста, ничего не говори Рейне. Я знаю, что ты не станешь, и спасибо тебе за это. Мне даже думать тяжко о прошлой жизни. После автомобильной аварии я был словно не в себе. Будто все вокруг ополчились против меня, и поэтому я все бросил. Но сейчас моя жизнь наладилось. Вот почему я посылаю тебе это письмо. А первый год был для меня тяжелым. Хотел бы я снова увидеть твою милую маленькую квартиру и поговорить с тобой. Я объяснил бы тебе свои чувства. Не думай обо мне слишком плохо. Рейне было плевать на меня, и когда я это понял, то больше не видел смысла с ней оставаться. Я желаю тебе удачи и надеюсь, что у Рейны все будет хорошо. Наверняка так оно и случится. Надеюсь, и у меня тоже.
Свен.
Оливия Бранд
Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город, – отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом, и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае.
Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец.
Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к каким и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать, и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)
Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных похождений Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что, даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости. Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери.
Но я забегаю вперед… Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Виллиджа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» – в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на восток.
Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены – друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Виллиджу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень… «Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна?» – с улыбкой подумал я.
Среди гостей был модный поэт – высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный красотой новой гостьи, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов.
Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще… впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она и правда была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остротам и шуткам, веселой болтовне о том о сем, обо всем на свете.
Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Виллидж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны, – что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.)
Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания.
После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ[5 - Индустриальные рабочие мира.], – между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, – всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь – редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти.
Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала? Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией – это очень интересные люди – собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, – и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям.
В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты, – странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаясь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и, во всяком случае, еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное – самые улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума.
И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек – по крайней мере, в Америке, – она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвальбы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.)
Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо при этом клубе, – комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь:
– Давайте зайдем сюда, прежде чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило.
Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере, по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические, меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон – крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда.
– Забудь, – вот и все, что я мог посоветовать. – Ты ничего не в силах изменить, не так ли? Она такая, какая есть. Если ты собираешься рыдать обо всех несовершенствах мира, ты никогда не остановишься. Кроме того, ты испортишь макияж.
Но он был уже непоправимо испорчен.
Вернемся к Рейне. Как-то раз, недель за шесть до своего отъезда, они с приятельницей зашли в квартиру Роды за какой-то принадлежащей ей вещью. Роясь в коробке, где хранились их со Свеном письма, она начала перебирать их одно за другим. Пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Рейна стала рассказывать подруге о ссорах, которые сопровождали ее семейную жизнь, как она уходила от Свена три или четыре раза, а он всегда следовал за ней.
Потом, не смущаясь моим присутствием, Рейна попросила подругу прочитать письмо, которое она написала Свену во время одной из этих ссор. Подруга сказала, что письмо «крутое».
– Я и сама так считаю, – призналась Рейна. – Но я его тогда так и не отправила, потому что подумала, что, может быть, все это неправда. Хотя Свен всегда западал на такие штуки. Вот я и написала ему.
Против воли прислушиваясь к их болтовне, я увидел, как она бросила письмо обратно в коробку.
– Разве ты не возьмешь его с собой, Рейна?
– Конечно нет. Оно мне теперь без надобности.
– Вроде бы ты говорила, что скучала по Свену?
– Ну скучала – немного. Но письмо-то все равно не отправила. Прочти, если хочешь, а потом выброси в мусорную корзину. Ты, конечно, посмеешься надо мной, но я тогда писала, что думала.
Позже мне пришло в голову, что письмо может осветить какие-то потаенные уголки души автора, и я извлек его из корзины для мусора, куда оно было небрежно брошено. Предоставляю его на суд читателя.
Дорогой Свен,
сегодня такая прекрасная ночь, и я не могу уснуть, а просто наслаждаюсь ею и думаю о тебе. Кажется, за два года наша супружеская жизнь совсем развалилась, Свен. Жаль, конечно. И ты пытался что-то исправить, и я пыталась, но что ушло, так это наша настоящая любовь друг к другу, а ведь ни один живой человек не может быть счастлив без любви, правда? Я знаю, ты думал, что причина во мне, но ты должен понять, почему я бывала сердитой и раздражительной.
В последний раз, когда мы опять стали жить вместе, так это потому, что я думала, будто мне не наплевать на тебя. Желание быть с тобой я не могла объяснить, так странно это и жутко, что я непременно должна была заполучить тебя. А теперь я знаю, что скучала по тому счастливому человеку, каким ты был раньше, и нигде не могла найти его, и мне было ужасно грустно, и я не могла без тебя такого жить.
Я знаю, ты разочаровался во мне, но это к лучшему, не все люди созданы для брака, и ничего тут не поделаешь.
Когда-то не было женщины счастливее меня. Я была как сумасшедшая от твоей любви и думала, что так будет всегда. Уверена, ты чувствовал то же самое, но иногда жизнь идет как будто наоборот. Я всегда верила тебе, Свен, пока ты не начал таиться от меня и врать почем зря. Что бы там ни было, ты выбрал один путь, а я – другой. Может быть, дело в этом. А может, в том, что мы никогда не были по-настоящему вместе. Теперь ты поймал свой шанс, а я все еще ищу свой.
Почему один человек может заставить другого так страдать, если это не из-за ненависти или недомыслия? Когда я капризничала, в душе мне хотелось, чтобы ты меня обнял, и твои поцелуи я никогда не забуду. Но я скорее буду жить одна и вспоминать любовь, которая у меня была, чем вернусь к тебе, чтобы мы опять ненавидели друг друга.
Я знаю, тебе тоже тяжело. Не думай, Свен, что у меня нет сердца, хотя иногда это выглядит именно так. Я сочувствую тебе и помогла бы с радостью, если бы могла. Я знаю, что на самом деле ты лучше, чем думаешь о себе, и кто-то должен помочь тебе это осознать.
Я так рада, что твоя работа приносит тебе радость, а значит, нет причин, чтобы ты не достиг любой вершины, как и другие мужчины, которые смогли добиться того, чего хотели, и я надеюсь, так же будет с тобой.
На самом деле хорошо, что ты теперь свободен от семейной жизни, потому что на пути к твоей вершине больше нет препятствий. Мы еще молоды, и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто станет для тебя самым лучшим, тогда придет время вспомнить, что мы были правы, когда порвали друг с другом и позволили судьбе привести нас к настоящей любви.
Пожалуйста, Свен, постарайся понять меня, потому что лучше нам жить, словно мы никогда и не встречались, если нам не наплевать, что с нами будет дальше.
Объясни своим родителям, Свен, когда вернешься домой, почему все так вышло и что я всегда считала их за своих родных отца и мать, и передай им мое почтение. Я уверена, что они не станут меня осуждать, то есть надеюсь, что не станут.
Я уверена, Свен, что все несчастливые часы, которые ты провел со мной, будут забыты и я тоже начну новую жизнь с чистого листа прямо сегодня. Развод будет, когда я накоплю на него денег, и мы сможем вычеркнуть из жизни два года нашего горемычного брака.
Я написала это, чтобы все уложилось в голове, было тяжело, но я это сделала.
Так что прощай, Свен, это мои последние слова тебе. Пожалуйста, прости и забудь – это единственный путь для нас. Заканчиваю свое письмо искренними пожеланиями тебе светлого будущего, я буду уважать тебя как своего мужа до конца дней.
Пусть Бог простит нас, как всегда.
Рейна.
Через пять месяцев после отъезда Рейны из Лос-Анджелеса от Свена к Роде пришло письмо. На почтовом штемпеле можно было разобрать: Калгари, Канада, – но обратного адреса на конверте не было.
Дорогая Рода,
ты удивишься, наверное, получив от меня весточку, но я должен тебе тысячу, и вот она. Пожалуйста, ничего не говори Рейне. Я знаю, что ты не станешь, и спасибо тебе за это. Мне даже думать тяжко о прошлой жизни. После автомобильной аварии я был словно не в себе. Будто все вокруг ополчились против меня, и поэтому я все бросил. Но сейчас моя жизнь наладилось. Вот почему я посылаю тебе это письмо. А первый год был для меня тяжелым. Хотел бы я снова увидеть твою милую маленькую квартиру и поговорить с тобой. Я объяснил бы тебе свои чувства. Не думай обо мне слишком плохо. Рейне было плевать на меня, и когда я это понял, то больше не видел смысла с ней оставаться. Я желаю тебе удачи и надеюсь, что у Рейны все будет хорошо. Наверняка так оно и случится. Надеюсь, и у меня тоже.
Свен.
Оливия Бранд
Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город, – отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом, и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае.
Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец.
Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к каким и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать, и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)
Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных похождений Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что, даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости. Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери.
Но я забегаю вперед… Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Виллиджа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» – в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на восток.
Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены – друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Виллиджу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень… «Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна?» – с улыбкой подумал я.
Среди гостей был модный поэт – высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный красотой новой гостьи, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов.
Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще… впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она и правда была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остротам и шуткам, веселой болтовне о том о сем, обо всем на свете.
Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Виллидж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны, – что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.)
Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания.
После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ[5 - Индустриальные рабочие мира.], – между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, – всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь – редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти.
Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала? Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией – это очень интересные люди – собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, – и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям.
В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты, – странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаясь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и, во всяком случае, еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное – самые улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума.
И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек – по крайней мере, в Америке, – она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвальбы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.)
Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо при этом клубе, – комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь:
– Давайте зайдем сюда, прежде чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило.
Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере, по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические, меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон – крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда.