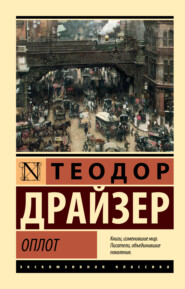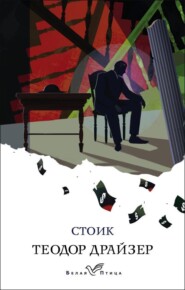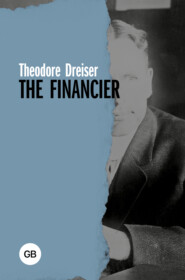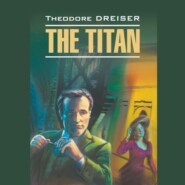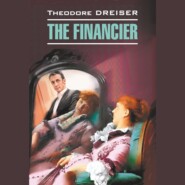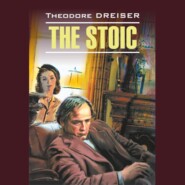По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галерея женщин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надеюсь, что так, – ответил я.
– Видите ли, за последнее время – вы этого, конечно, не знаете – я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание. – И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так».
– Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! – ответил я. – Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достопочтенный X. Б. Бранд уступил?
– Все сделано и улажено, – ответил он. – Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Ну да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженимся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты. – Джетро усмехнулся. – Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня.
Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой, – человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался.
…Между тем они поженились, и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в Верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книги, книги, книги. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро – на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виктрола. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную жизнь.
Я с самого начала заподозрил – и чувство меня не обмануло, – что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же?
Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов.
– Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться… ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? – На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала:
– Есть многое на свете, друг Горацио…
– Я так и думал, – ответил я.
В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему:
– Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя.
– Во-первых, – отвечал он, – вы видите, я занят – поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть!
Но вопреки всем моим сомнениям, они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройтись опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене.
Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Виллидже? Да кто они такие, завсегдатаи этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех – вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Виллиджа.
А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету! И вдруг – безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова… Легкая простуда, пустяки… Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу Св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер.
Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря, в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости.
Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неописуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала:
– Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной.
«И даже очень», – подумал я, но вслух сказал:
– Я понимаю, Оливия.
– Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала?
– Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной.
– Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет?
– Нет, Оливия, – отвечал я, – так не мог. Вы сами знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной… Я и теперь так считаю…
Она взяла мои руки в свои.
– Я понимаю, – сказала она, – все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне.
– Вы сделали для него все, – сказал я, – я уверен в этом.
– Потому-то мне и не хотелось бы уходить, – ответила она.
На другой день она была без сознания. Через день – то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла.
Дальше, как обычно, похоронная церемония – бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, – родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, – они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры – это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам.
– Два дня я терпел, – сказал он. – Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, – продолжал он, – находится высоко над городом, на склоне гор, оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место.
Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот – конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи… Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать… И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась, – он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов.
Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все преходяще в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека – этого представителя homo sapiens, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови – и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же, в конце концов, живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства – какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме!
Понятно, к чему привели эти настроения, – к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова Божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, – только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года!
Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем – о его работе, о его будущем. И конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводе – бог его знает, что это такое, – и печень слегка увеличена, так, по крайней мере, показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность.
– Знаете что, Джек, – сказал я, – вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы…
– Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет.
Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, – скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его.
Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но… Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред – об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же – бессознательное состояние.
– Удивительное дело, – рассказывал он, – как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд.
– Знаю, – сказал я.
– Он только о ней и говорил.
– Вот как.
Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами – их было трое – и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем налито? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?» То вдруг порывался встать и идти домой, – он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала… Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза:
– Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня?
– Конечно знаю, – ответил он. Глаза его на минуту прояснились. – Вы… – И он назвал мое имя. Это было прощание.
Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии.
– Как странно, – сказала мне его сестра. – Болезнь у него началась точь-в-точь как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил.
– Видите ли, за последнее время – вы этого, конечно, не знаете – я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание. – И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так».
– Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! – ответил я. – Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достопочтенный X. Б. Бранд уступил?
– Все сделано и улажено, – ответил он. – Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Ну да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженимся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты. – Джетро усмехнулся. – Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня.
Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой, – человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался.
…Между тем они поженились, и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в Верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книги, книги, книги. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро – на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виктрола. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную жизнь.
Я с самого начала заподозрил – и чувство меня не обмануло, – что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же?
Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов.
– Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться… ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? – На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала:
– Есть многое на свете, друг Горацио…
– Я так и думал, – ответил я.
В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему:
– Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя.
– Во-первых, – отвечал он, – вы видите, я занят – поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть!
Но вопреки всем моим сомнениям, они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройтись опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене.
Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Виллидже? Да кто они такие, завсегдатаи этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех – вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Виллиджа.
А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету! И вдруг – безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова… Легкая простуда, пустяки… Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу Св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер.
Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря, в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости.
Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неописуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала:
– Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной.
«И даже очень», – подумал я, но вслух сказал:
– Я понимаю, Оливия.
– Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала?
– Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной.
– Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет?
– Нет, Оливия, – отвечал я, – так не мог. Вы сами знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной… Я и теперь так считаю…
Она взяла мои руки в свои.
– Я понимаю, – сказала она, – все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне.
– Вы сделали для него все, – сказал я, – я уверен в этом.
– Потому-то мне и не хотелось бы уходить, – ответила она.
На другой день она была без сознания. Через день – то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла.
Дальше, как обычно, похоронная церемония – бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, – родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, – они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры – это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам.
– Два дня я терпел, – сказал он. – Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, – продолжал он, – находится высоко над городом, на склоне гор, оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место.
Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот – конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи… Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать… И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась, – он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов.
Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все преходяще в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека – этого представителя homo sapiens, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови – и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же, в конце концов, живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства – какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме!
Понятно, к чему привели эти настроения, – к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова Божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, – только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года!
Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем – о его работе, о его будущем. И конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводе – бог его знает, что это такое, – и печень слегка увеличена, так, по крайней мере, показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность.
– Знаете что, Джек, – сказал я, – вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы…
– Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет.
Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, – скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его.
Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но… Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред – об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же – бессознательное состояние.
– Удивительное дело, – рассказывал он, – как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд.
– Знаю, – сказал я.
– Он только о ней и говорил.
– Вот как.
Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами – их было трое – и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем налито? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?» То вдруг порывался встать и идти домой, – он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала… Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза:
– Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня?
– Конечно знаю, – ответил он. Глаза его на минуту прояснились. – Вы… – И он назвал мое имя. Это было прощание.
Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии.
– Как странно, – сказала мне его сестра. – Болезнь у него началась точь-в-точь как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил.