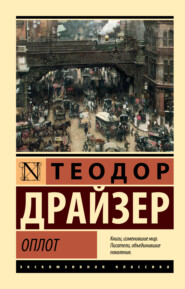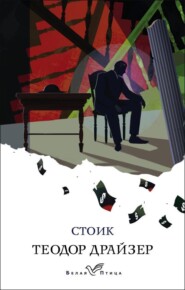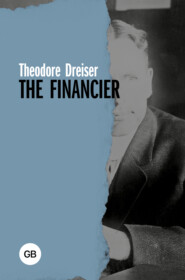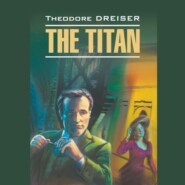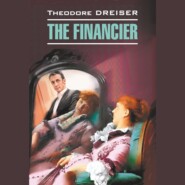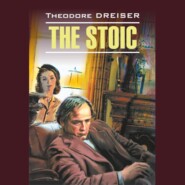По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Галерея женщин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через месяц или два я отправился в Париж, и, поскольку знакомых американцев там у меня было немного, Эллен была одной из первых, кого я начал разыскивать. И я встретился с ней после подобающей переписки на бульваре Рошешуар на Монмартре. И, как говорил мой приятель, Маккейл действительно оказался рядом. Увидев меня, Эллен, похоже, искренне обрадовалась. У нее была просто замечательная студия, большая, просторная, радостная, с прекрасными картинами и потрясающими тканями, в беспорядке покрывавшими стены, пол и стулья. Она находилась в одном из старых парижских двориков, где ворота, колокольчик и консьерж способствовали ощущению приватности. Помню, как после объявления моего имени она вышла на верхнюю площадку лестницы и крикнула мне оттуда. Поднимаясь, я глядел на нее. Она еще больше округлилась, стала еще мощнее, но все же оставалась очень привлекательной. Она улыбалась, и меня сразу же поразила веселая беззаботность, которой в Америке я у нее никогда не замечал. «Вот что значит развитие, – подумал я. – Теперь она набралась опыта, стала успешнее, а следовательно, сильнее». И все же прежнее очарование никуда не делось. Скорее ее манеры стали более смелыми, чем в юности. Короче говоря, я заметил совсем немного следов той простушки, с которой познакомился в Нью-Йорке.
Однако не меньше, чем сама Эллен, меня заинтересовала студия, вернее, ее содержимое. Очень милое помещение, с высокими окнами и небольшим балконом, выходящим на широкий чистый бульвар. И внутри, и снаружи царило ощущение старого, веселого, зажиточного Парижа тех лет, что предшествовали Великой войне[7 - Имеется в виду Первая мировая война (1914–1918)]. В отличие от первой небольшой мастерской в Нью-Йорке, где картины Эллен были скромно поставлены в угол, лицевой стороной к стене, здесь висели очень большие холсты – по крайней мере три из них восемь на пятнадцать.
Я сразу же заговорил о ее панелях в Филадельфии. «Ах да, – очень просто сказала она, – я продала их для рекламы около трех лет назад почти за бесценок. Одни из моих первых парижских работ. Приезжал мистер С. с намерением купить что-нибудь такое, что поразит американцев. Хотелось бы их вернуть. Это не совсем то, что я бы сделала теперь. Я предложила мистеру С. написать ему четыре новые панели, но он и слышать не хочет. Думает, я все переделаю, что, конечно, чистая правда».
Она засмеялась.
Тут мы сразу же перешли к новому течению в искусстве. Глядя на картины на стенах, я понимал, что она привержена не только художественному направлению как таковому, но и его величайшему и разностороннейшему апостолу и пророку Пикассо – тому самому, который оказал такое сильное влияние на Маккейла. Надо сказать, что в тот момент одной из самых заметных картин на стенах студии была, если ее можно так назвать, пирамидальная симфония – изображение синхронно танцующей пары, при котором каждая линия и угол оказывались частью одной или нескольких треугольных плоскостей пирамиды. Увидев, что я рассматриваю эту работу, она заговорила:
– О да, приехав сюда, я очень быстро обратилась к новому направлению. Джимми – помните Джимми Рейса? – так вот, Джимми всех этих художников не вынес и в том же году вернулся назад. Однако, когда мои первоначальные предубеждения испарились, я увидела, насколько это искусство лучше отражает реальность, насколько оно более энергично и жизненно. Конечно, сейчас оно притягивает тысячи шарлатанов, но, полагаю, не больше, чем старая манера в былые времена.
– А кого вы считаете главными представителями этого нового искусства? – спросил я, в то же время задумавшись о Джимми Рейсе и Кире Маккейле. Особенно меня интересовал Маккейл.
– Конечно, это Матисс и Пикассо, только в моем понимании они олицетворяют два различных подхода. Матисс видит декоративность и демонстрирует ее зрителю. Он возвращается к предмету в искусстве и показывает его с особенной выразительностью. Пикассо же преодолел влияние Матисса и пошел по собственному пути. Он почти все видит в форме кубов и пирамид.
Я посмотрел на другую «пирамидальную» картину, висевшую у нее на стене.
– Да, – продолжала она, – я последовательница Пикассо. Теперь я вижу все, как он, это точно. Уже через три месяца жизни здесь я поняла, насколько мелко то, что я делала раньше.
Мои мысли вернулись к Рейсу и его манере писать в традициях старой школы, манере, которая когда-то была так важна для Эллен. Но сейчас ни об этом, ни о нем не было произнесено ни слова. И поскольку меня пригласили на ужин, она сообщила, что по такому случаю приглашен также и некий Кир Маккейл, художник и друг, человек, чьими работами она восхищается. И так далее, и так далее. Очень быстро по общему направлению разговора я смог понять, что Маккейл для нее больше, чем друг, – нежно любимый мужчина, часть ее ежедневной жизни. У него есть студия на площади Пигаль, не очень далеко отсюда, рассказывала она. Он шотландец, ставший приверженцем новой школы еще до их знакомства. Его тоже очень интересовал Пикассо. Надо сказать, что они даже познакомились в мастерской этого художника. Потом она добавила, что Маккейл – яркая личность, такой сильный, простой, честный, немного резковатый, типичный шотландец, но художник до кончиков ногтей, я это пойму, если узнаю его ближе.
Вскоре пришел сам Маккейл. Невысокий, коренастый, сильный, несколько вызывающий. Все как она сказала. Типичный житель шотландских вересковых долин, широкоплечий, весьма решительный и напористый, лет тридцати пяти или сорока. Но какой резкий контраст с Ринном или Рейсом – этого человека совершенно не интересовало, что на нем надето и какое впечатление он может произвести на окружающих! И тогда, и потом мне казалось, что он слишком угрюм и догматичен, причем не намеренно, не из желания кого-то обидеть. В тот вечер он был резким и бескомпромиссным. А по тому, как он бросил свою трость и шляпу в угол, я понял, что он здесь свой человек – тот, для кого Эллен теперь живет и работает, так сказать, ее духовный и эмоциональный наставник. Куда бы он ни пошел, Эллен следила за ним нежным и внимательным взглядом, что я про себя и отметил. Мой лондонский приятель подготовил меня к такой ситуации, однако я настолько увлекся Маккейлом, что вскоре даже забыл про его шотландскую картавость. Из последовавшего разговора выяснилось, что он жил и работал во многих городах: в Париже, Риме, Мюнхене, Вене, Лондоне. Он любит шотландцев, но сказал, что жить с ними не может. У шотландцев нет ощущения искусства, нет широты духа. Англичан он объявил слишком эгоцентричными и реакционными. А вот Париж и континентальная Европа его вполне устраивали.
Зная его предшественников и видя, как Эллен ловит каждое его слово и, можно сказать, ходит перед ним на задних лапках, я внимательно его разглядывал. И я понял, что наконец и, вполне вероятно, очень надолго над ней взял верх человек, который вряд ли отнесется к ней слишком серьезно. Этого от него не дождешься. А Рейс и Ринн? Фьють! Оба бесследно исчезли. Повсюду присутствовал Кир. Приготовил ли он рамы для двух своих картин, которые давно нужно было вставить в рамы и отослать? Проконсультировался ли он с кем-то – имя я позабыл, – с кем собирался проконсультироваться? Мне обязательно нужно увидеть студию Кира. Она намного симпатичнее, чем у нее. В один из ближайших дней, если я еще пробуду в Париже, мы там поужинаем. Иногда они ели там, иногда здесь. Из этого я заключил, что, хотя они занимали разные студии, они не скрывали, что живут более или менее одной жизнью. Некоторые вещи Кира я заметил в студии Эллен, а позже обнаружил некоторые вещи Эллен у него. Завтракали они тоже то здесь, то там. Но несомненным для меня было одно: Маккейл на тот момент являлся хозяином этого разделенного дома, она по-настоящему, искренне и глубоко, его любила, а он руководил ее жизнью и настроением, как никто другой до него.
И все-таки, кроме того, я ощутил, что за его грубой, решительной манерой тоже скрывалось нежное чувство к ней, но все же не такое, как ее к нему. По крайней мере, оно не было столь очевидным. Кир был слишком молчалив, необщителен, закрыт. И несмотря на частые разговоры, которые мы с ним вели потом, иногда даже наедине, я так и не понял, была это просто нежная дружба с его стороны или все-таки любовь. Эллен очень милая девушка, сказал он. И хорошая. Покамест такая жизнь их вполне устраивает. Ей нравится думать, что она создает нечто выдающееся. В каком-то смысле она выражает себя с помощью средств, изобретенных, к сожалению, другими, но постепенно они становятся почти что ее собственными благодаря ее мягкому и богатому темпераменту, что придает индивидуальность всем ее работам. Так я увидел, что Кир не был скупым, хотя и не особенно щедрым на похвалу в адрес Эллен. Без сомнения, она ему очень нравилась. Они понимают друг друга, говорил он, и, кроме того, часто всюду бывают вместе. С его точки зрения, она чудесная, грандиозная, умная женщина.
Вскоре я понял, что больше всего меня привлекает в Кире его отношение к искусству. Как и говорил мой лондонский знакомый, Кир, решительно отказавшись от всех старых форм, даже от искусства новых ведущих художников, пытается найти что-то свое. И когда я бывал у него в студии – а я заходил к нему несколько раз без Эллен, – мне становилось ясно, что это правда. Там были натюрморты и пейзажи, как акварельные, так и написанные маслом, а также изображения фигур – удивительные попытки передать твердость, массу, плотность, часто совершенно исключив красоту. По его убеждению, что он неоднократно подчеркивал, картина не должна быть просто поверхностью; вдобавок к длине и ширине у нее есть глубина, или, если угодно, внутренняя крепость. И радость, которая неизбежно возникает, когда художнику удается ее выразить, может через настроение быть передана другому человеку. Признаюсь, в некоторых его вещах мне визуально передалась если не радость, то искренность его попыток. Некоторые картины Кира были довольно большие – примерно метр двадцать на полтора, но основная часть работ имела гораздо меньший размер, хотя во всех чувствовалось напряжение, переданное в основном в мрачных синеватых, серых и зеленых тонах; так что, глядя на них, ты начинал задумываться, куда подевался цвет, почему он ускользнул от художника. Действительно, все работы, как мне подумалось, несли на себе отпечаток бесконечного труда и упрямого воинственного настроения. Короче говоря, художник хотел побеждать, а не творить, он хотел заставить живопись исполнить его волю, выразить его ощущение реальности. Большинству картин – по крайней мере, я так это видел – не хватало легкости линий и композиции, широты, диапазона, радости цвета и формы, отличавших все вещи Эллен. В сущности, одной из особенностей, делавшей их техники совершенно различными, было мастерство Кира как живописца – живописца, умевшего передать прочность и глубину. Другая особенность принадлежала Эллен – любовь к линии и цвету, независимо от глубины или даже правды. И именно понимание мастерства Кира привело ее к такому преклонению перед ним. Короче говоря, позже я пришел к убеждению, что он мог рисовать лучше, чем она, хотя у него было меньше предметного воображения, изысканности, романтичности. И все-таки, понимая, что с точки зрения техники его работы лучше, я отдавал предпочтение холстам Эллен. Они были одновременно менее натуралистичными и более притягательными, иногда восхищая цветом и мыслью. Впрочем, когда несколько позже я в общих чертах высказал ей свое мнение, она не приняла моих слов всерьез. Картины Кира так глубоко и крепко выстроены, заметила она. Они такие настоящие. Естественно, он избегает почти с религиозной суровостью любого намека на бесплодную экстравагантность, которая так сильно портит работы других, но в этом-то и состоит его истинное величие, которое в один прекрасный день наверняка будет признано. Мощная живопись – вот к чему он стремится. Мощные вещи, возникающие из-под слоя красок. Тогда как в ее картинах нет настоящей глубины. Конечно, ей бы хотелось этого достигнуть, но до сих пор не удавалось. Я никогда не слышал, чтобы она так говорила о ком-нибудь другом, и поражался этой новой творческой скромности, если не самоотрицанию.
Той весной я довольно много виделся с ними обоими. Мы вместе гуляли по Парижу – Нотр-Дам, Сент-Шапель, Сент-Этьен-дю-Мон, церковь Мадлен, не говоря уж о некоторых более веселых и менее впечатляющих ресторанах и танцевальных залах. Что касалось жизни Эллен и Кира, то они существовали так, как им того хотелось. Приходили и уходили, когда считали нужным. Он приглашал или не приглашал ее принять участие в его делах, и она поступала так же. Он критиковал ее работы, иногда очень холодно, утверждая, что они слишком цветистые, слишком экзотические, что сама она слишком поддалась энтузиазму и манере того или иного футуристического лидера. Она же редко что-то говорила о его вещах, кроме того, что они хороши.
Однако, как я вскоре обнаружил, у этой пары было нечто, выходившее за рамки искусства, – физическое и, весьма вероятно, психологическое доминирование Маккейла над Эллен, причем совсем не против ее воли. В противоположность ее прошлому доминированию (в Америке) над Ринном и Рейсом, позволившему ей легко и, видимо, без колебаний бросить обоих. С Маккейлом дела обстояли иначе. Этот крепкий и, на мой взгляд, не особо располагающий к себе шотландец явно был для нее как свет в окошке. Насколько я ее знал, Эллен обладала ясным и образным видением мира, особенно когда речь шла о синтезе в искусстве. Тем не менее, когда рядом был Маккейл, в ее суждениях и высказываниях чувствовалась даже не робость, а скорее дипломатичность. Так, если в какой-то момент он начинал спорить, категорично и непреклонно, как он обычно умел, вместо того чтобы отвечать ему тем же, как, безусловно, она сделала бы в споре с Рейсом или со мной, она замолкала и переводила разговор в иную плоскость, что позволяло спору совершенно спокойно сойти на нет. Что касается других вещей – куда пойти пообедать, кого навестить или что посмотреть, в каком месте и в какое время встретиться или сколько времени чему-нибудь посвятить, – решал всегда Маккейл, а не Эллен. И в большинстве случаев было не важно, присутствует он при этом лично или нет.
И теперь я заметил или, скорее, почувствовал то, что заметил, когда впервые пришел в ее нью-йоркскую студию на Восьмой авеню. Была в Эллен какая-то домовитая женственность, озадачившая меня. Ибо как соединялась эта исключительная женственность с очень мощной и почти грубой натурой на стенах ее студии? Ведь эта натура была не только роскошной, богатой, цветущей – и вполне могла возникнуть из настроения, вызванного чувственностью, – ее картины, кроме того, казались свободными, многогранными, сильными. Они были более свободными, многогранными и, как я уже говорил, более красочными и образными, чем все, что создавал Маккейл. И вместе с тем ее удивительно мягкий, женский, даже чувственный голос и манера; тело, позволявшее ощутить едва заметное пульсирование плоти; глаза, руки, плечи, шея, щеки – все говорило о гармонии скорее физической, чем духовной. К тому же здесь, в парижской студии, среди ее работ я видел на ней наряды, которые подчеркивали ее чисто женскую привлекательность, – гладкие, ниспадающие, элегантные платья, даже передники, все из изысканнейших материалов. И духи, их едва уловимые ароматы вились вокруг. Я изучал Эллен не меньше, чем ее работы, но так и не смог связать одно с другим. Я легко мог соединить ее и Маккейла, потому что вне искусства они, в сущности, представляли собой мужское и женское начала. Но то, другое? Я долго размышлял над этой парой, после того как покинул Париж, и они никак не выходили у меня из головы.
А потом – года полтора спустя – из Парижа в Нью-Йорк приехала Эми Джин Мэтьюс, еще одна американская художница, писательница, поэтесса и любительница жизни, которая во время недавнего пребывания в Париже не раз встречалась с Эллен, Маккейлом и их друзьями. Теперь она привезла новости, вызвавшие у меня довольно смешанные чувства. Три полотна, представленные Эллен на последнем весеннем Салоне, привлекли большое внимание. Потрясающие сочетания фигур, цветов, драпировок и фонов, не привязанных к определенной местности, времени или климату, но навевающих сон о ее собственном экзотическом мире. И несомненно, выполненных более решительно и смело, чем все, что она делала раньше. Конечно, было очевидно, что она последовательница Пикассо, а также Матисса и других нео- и постимпрессионистов. Тем не менее в своих работах, как Ван Гог, Гоген и даже Матисс, она достигла того, что можно назвать собственной манерой: округлость, насыщенность, настроение, фантазия, целиком принадлежащие ей одной и явно говорившие о ее способностях и воображении. Поэтому в будущем от нее можно было ожидать поистине замечательных вещей. В этом критики были почти единодушны.
По словам мисс Мэтьюс, Эллен очень вдохновили такие отзывы, она сосредоточилась и всецело отдалась работе, но вдруг совершенно неожиданно все перевернулось, потеряло смысл, умерло, потому что Маккейл, ее доблестный шотландский друг, в последние шесть-восемь месяцев начал терять к ней интерес и перестал смотреть в ее сторону. Вернее, как рассказывали, у него появилась другая девушка – Кина Макса, польская танцовщица, недавно приехавшая в Париж и благодаря своему искусству заставившая о себе заговорить. Она была молода и настойчива. Ею восхищались в кафешантанах, и Эллен сама ее разыскала, чтобы написать портрет. С точки зрения дипломатической и полигамной это не сулило ничего хорошего, потому что таким образом Кина познакомилась с Киром, который в ту же секунду тоже захотел ее написать, хотя тогда об этом не сказал – но потом писал ее много, много раз. Короче говоря, к несчастью и отчаянию Эллен, Кине, похоже, удалось существенно изменить художественное мировосприятие Кира, и в результате, по крайней мере несколько последующих лет, он писал и ее, и других – вы не поверите – если не в манере, то в настроении, присущем Эллен. Что могло быть ужаснее? Что это такое на самом деле – любовь или гипноз? Или гипноз, который и есть любовь? Но суть в том, что Кина безумно влюбилась в Маккейла, а он в нее. Через несколько недель, по словам мисс Мэтьюс, они начали тайно встречаться; узнав об этом, Эллен Адамс впала в отчаяние. Ибо сразу же, следуя своей прямолинейной, предельно жестокой манере, Маккейл даже не сделал попытки скрыть это новое увлечение. Короче говоря, выложив Эллен всю правду, он исчез вместе с Киной, и некоторое время о нем никто не слышал. Потом он появился, только чтобы сказать, что влюблен, – и, без сомнения, исчез навсегда. Эллен осталась одна и ушла в себя. Моя знакомая мисс Мэтьюс сочинила теорию, по которой именно успех Эллен, а не что-либо иное, возможно более яркое очарование польской выскочки, заставил Кира так измениться. Я, впрочем, сомневаюсь. Не тот был у него характер и не те личные качества, чтобы перед лицом женщины легко признать свое поражение, а уж тем более в нем увериться. С другой стороны, если учесть несомненные доказательства его главенства над Эллен в прошлом и явную, крайне догматичную терпимость к ее жизнелюбивым настроениям в живописи, он вряд ли завидовал бы ее успеху. Во всяком случае, как мне казалось, он с большей вероятностью сожалел бы об этом. Если Кир и переменился, то, скорее всего, потому, что увлекся другой женщиной.
Но сам я не слышал ничего определенного ни об Эллен, ни о Маккейле. Прошло еще восемь месяцев. И вдруг письмо от нее. Датированное десятью днями ранее и посланное из Парижа. В нем Эллен довольно искусно выспрашивала о художественной жизни Америки – основных агентах по продаже картин, впечатлении, которое произвел у нас футуристический метод; узнавала, не мог бы я помочь в организации выставки ее картин. Она закончила много новых вещей и добилась больших успехов. Кстати, подумывает на какое-то время вернуться домой. Пожалуй, в ее жизни Парижа оказалось слишком много. В конце стояла приписка, что Маккейл сейчас на юге Франции. Более ни слова.
Я честно написал ей все, что знал о ситуации в Нью-Йорке. Французская революция в искусстве пока не добралась до Америки. Совсем нет. Потребуется время, чтобы американцы доросли до этой новой фазы. После чего семь месяцев от нее не было ни строчки. Потом еще одно письмо. На этот раз из Лондона. Около четырех месяцев назад она покинула Париж. В промежутке, после предыдущего письма ко мне, она вышла замуж – за англичанина – и переехала в Лондон. Маккейл… что ж, Маккейл оставил ее, увлеченный другой любовью.
Она, конечно, собиралась вернуться в Америку, но как раз тогда встретила мистера Недерби и теперь очень счастлива. Она рисует и готовит свою выставку в Лондоне. Если я надумаю приехать, то в любое время могу к ним заглянуть.
Сказать, что я был поражен, значит сильно приуменьшить мои эмоции, потому что после встречи с ней и Маккейлом в Париже я не сомневался, что она вряд ли обретет счастье с кем-то другим. Бывают определенные союзы, по крайней мере, если говорить о женщинах, которые ты интуитивно воспринимаешь как неизбежные. Есть властные, сильные мужчины, которые словно стальными крючками притягивают к себе чувственных, любящих их мужскую природу женщин. И не имеют ни малейшего значения существующие между ними незначительные разногласия или наличие у женщины неких талантов, отсутствующих у мужчины, или, наоборот, наличие каких-то особенностей у мужчины, которых нет у женщины или которых она ни в коем случае не может одобрить. Возможно, именно эти различия (и чем они больше, тем чаще и надежнее притяжение) как раз и связывают ту или иную пару. Как ни крути, в случае Маккейла и Эллен не оставалось никаких сомнений, что творчески и эмоционально она была его рабой. Безусловно, она не копировала его, как могла бы при данных обстоятельствах, но совершенно очевидно, что благодаря его силе, его глубоким и дерзким мыслям, а не чему-то другому она ощутила и сохранила в себе ту высшую творческую эмоциональность, которая проявлялась в великолепных полотнах, вызывавших мое восхищение. И ей было совершенно не важно, что собственные вещи он ставил выше. Для того чтобы создавать свои картины, Эллен требовалась почва в виде напряженной и даже тяжелой реальности, физической и духовной сущности Маккейла. Как художница она опиралась на него, словно на скалу, и с этой тяжелой, но надежной физической основы уходила в полет. К тому же она обожала его таким, каким он был, и это делало ее особенной, такой, какой была она. Я имею в виду, не больше и не меньше, его духовную самоидентификацию, развитие его творчества в сочетании с неоимпрессионистическим французским течением в искусстве и ее собственным красочным и оригинальным видением мира. Если мои психологические изыскания чего-то стоят, то я прав.
Но теперь она снова замужем, и после Ринна, Рейса и Маккейла я смог по-настоящему почувствовать силу оглушившего ее удара. Сейчас я вспоминал, как если бы она сама мысленно обрисовала, две светлые студии – одну на бульваре Рошешуар, другую на площади Пигаль, высокие окна, такие разные собрания картин, веселые приготовления то к завтраку в одной студии, то к ужину в другой, а может, в одном из живописных городских ресторанов. Эллен, молодая, похожая на француженку в своих очаровательных уличных костюмах, и Маккейл, крепкий, похожий на пастуха. Наверняка она сейчас переживает черную полосу в жизни, и резвая полячка, укравшая у нее любимого, маячит, как мрачный призрак, над пустыней ее некогда веселого мира.
А потом, не больше чем через год или месяцев через девять, от Эллен пришло еще одно письмо. Дела в Англии шли плохо как в творческом, так и во всех остальных смыслах. Конечно, причиной была война. Приходилось делать все, что угодно, только не рисовать, но единственное, что ее интересовало, было именно творчество. В остальном с ее прошлого письма ничего не изменилось, однако она едет в Америку, а если точнее, то будет здесь через месяц. Иностранный рынок и всю атмосферу так задавила война, что она хочет попробовать жить и работать в Нью-Йорке. Не знаю ли я какую-нибудь хорошую студию с подходящей атмосферой или в подходящем по атмосфере районе? (Я, конечно, порекомендовал Вашингтон-Сквер.) Не согласился бы я представить ее каким-нибудь интересным людям, которые могут дать ей советы по поводу местного искусства или, скорее, возможностей выставляться? Ее муж сейчас с ней не приедет, не может, но появится позже. (Это меня не слишком интересовало, поскольку я знал, что по своей воле она никогда не оставила бы Маккейла.)
Через месяц Эллен действительно приехала, и я увидел женщину, изменившуюся не столько физически, сколько духовно по сравнению с тем, какой я ее знал в Париже и Нью-Йорке. Интересно, что сейчас она была одета по последней моде, чего я не замечал в Париже, – полагаю, потому, что рядом не было Маккейла, который выказывал недовольство любыми украшениями или намеком на кокетство в ее платьях. Так или иначе, нынешние наряды Эллен свидетельствовали о желании подчеркнуть присущее ей очарование. И я над этим задумался.
Вскоре она сняла студию на 65-й улице, одну из нескольких, в здании, где на первом этаже, в подвале и в нескольких частных апартаментах под студиями располагался знаменитый в те годы ночной ресторан «Хили».
Все, кто знал довоенный Нью-Йорк, помнят, что здесь собирались актеры, художники, музыканты, литераторы, не считая бонвиванов, которые держали в этом районе такси, болтая между десятью вечера и четырьмя утра. Вдохновенные завывания флейт и скрипок, которые, хоть и слабо, слышались даже в студиях на верхних этажах, в том числе и у Эллен, должно быть, напоминали ей Париж. Так или иначе, но она поселилась здесь, и здесь, как я вскоре узнал, зайдя в гости, были собраны почти все ее лучшие работы парижского периода, не говоря о нескольких последних вещах – впрочем, на мой взгляд, не столь удачных, не таких красочных и не таких одухотворенных. Мы вместе пересмотрели их все, после чего я сказал ей, что ей достаточно просто сохранить созданное (может, даже этого уже не надо), чтобы получить заслуженное признание.
Она отметила, что одна из трудностей ее теперешнего положения состоит в том, что здесь, как и в Англии, фоном всякого искусства стала Великая война. Конечно, Америка еще не воевала, но результат был почти тот же. В Англии она вообще ничего не могла делать. Одна выставка, которую удалось организовать, не принесла ровным счетом ничего. Публику не интересовало искусство. Здесь, в Америке, все почти столь же безнадежно. Те, кто обычно покупал картины, теперь покупают «облигации свободы», художественных критиков и любителей живописи волнуют вести с фронта. Открывающиеся и закрывающиеся выставки не вызывают ни малейшего интереса. Организуются и проводятся аукционы, по бо?льшей части дорогие произведения страхуют, однако в конечном счете они возвращаются непроданными в аукционные залы. За хорошие картины больше нельзя получить денег, как нельзя прославиться, если не писать военные картины – окопные бои и авиационные налеты.
Тем не менее, как я заметил, Эллен довольно энергично взялась за дело: во-первых, ей нужно было организовать достойную выставку своих картин; во-вторых, вновь обрести интерес к Америке, а если получится, то и к жизни – случившаяся беда все никак ее не отпускала. Она усердно посещала всех основных агентов, занимавшихся выставками, но, по ее словам, не почувствовала с их стороны никакого энтузиазма. Слишком много проблем на фронте. Ей потребуются приличные деньги, чтобы выставить свои работы хотя бы на месяц, а цены на все остальное продолжают расти. К тому же, как она мне призналась, ее избранник не был богат. Это был союз «по любви», а «такие вещи, насколько я знаю, редко бывают связаны с деньгами». Я усомнился по поводу «союза по любви» да и в целом по поводу ее брака – зачем он ей понадобился? Ведь теперь она оказалась среди самого безумного искусства и самой богемной публики, какие можно было найти в тогдашнем Нью-Йорке. Более того, она пила, словно желая, как мне показалось, избавиться от душевных мучений. И иногда в таком неестественном возбуждении у нее вырывались слова об изменчивости жизни и даже искусства. Начинаешь свой путь, к примеру, молодой девушкой с вполне определенным представлением, чего тебе следует добиться в жизни и в искусстве, но есть у тебя способности или нет, есть у тебя энтузиазм или нет – ничто не гарантирует тебе успех или провал. И вот теперь война – как кардинально она перевернула или изменила все художественные ценности своего времени!
И однажды, только однажды, в приступе горечи она рассказала о своем несчастье – о длительных близких отношениях с Маккейлом. Ей казалось, или, скорее, она была уверена, что по темпераменту и чувствам они были очень близки, почти навечно соединены неразрывной связью. И только посмотрите! Оба они – не один Маккейл, благоразумно подчеркнула она, – пошли каждый своей дорогой. Но я-то знал, что она лукавит. Своей дорогой пошел Маккейл, а не Эллен. И, поступив так, вызвал у нее не только чувство растерянности, но и безнадежности, поскольку ее молодость почти прошла, да и в творчестве она так и не достигла прочного положения, о котором изначально мечтала.
И вот еще что. Я познакомился с англичанкой, знавшей Эллен и Маккейла в Париже, а также ее нового мужа в Англии. Их брак вызывал у нее презрительное недоумение. Почему Эллен выбрала этого Шерарда Недерби? Самый посредственный и несерьезный писака, критик, довольно безуспешно рассчитывавший когда-нибудь засиять в качестве… она едва могла себе представить, в качестве кого. Может, театрального критика? Но в его голове было полно феерических, диковинных идей, что значит быть настоящим художником! Он тоже бывал в Париже и знал Маккейла, и, без сомнения, тогда, как и сейчас, ему льстило занять его место и заполучить Эллен. Но она? О чем она думала? Отомстить Маккейлу? Попытаться забыться в компании и объятиях такого неуравновешенного и психически нездорового существа, как Недерби? Абсолютная нелепость! У него, конечно, знатное происхождение. Но происхождение – для нее – так мало значит. Все это никак не могло продолжаться. Ей, конечно, уже тошно, и она наверняка приехала сюда, чтобы избежать поджаривания на этой новой сковородке.
Эти критические суждения прояснили умственное и эмоциональное состояние Эллен, по моим наблюдениям беспокойное и суматошное. Но все-таки через различных знакомых, рекомендательные письма и тому подобное она добивалась и в конце концов, в общем, добилась хотя бы небольшого общественного интереса если не к ее искусству, то к ней самой и ее занятиям. Несколько критиков были приглашены к ней на чай. И она ухитрилась сделать свое имя известным другим. Я сам принудительно мобилизовал троих и привел посмотреть ее работы. Критики сомневались. Эллен вернулась, не получив полного и окончательного признания иностранной аудиторией, и здешняя публика не видела ее работ. Поэтому требуется время. Как я понял, она должна была приготовиться ждать.
Но меня поразило скорее ее настроение и отношение к себе и к жизни, чем творческие усилия. Хотя Эллен родилась в Америке, у меня сложилось впечатление, что она не может обрести твердую почву под ногами ни в стране, ни в собственной жизни. Несмотря на то что в творческом плане ею было создано очень много, она пребывала в чрезвычайно подавленном состоянии. Насколько я мог судить, она очень мало работала в мастерской. Вместо этого – что было совсем не похоже на ее настрой в парижский период, – казалось, она все время ищет встреч с мужчинами. Возможно, главной причиной было острое желание встретить на дорогах искусства человека сильного или выдающегося, а может, обладавшего обоими этими качествами и вновь попасть под его чары. (Ох уж эта неумирающая человеческая мечта!) Но все те, с кем она знакомилась, – писатели, профессионалы в различных областях, художники, критики, – никто не производил на нее впечатления. Наоборот, в течение восьми месяцев, проведенных ею здесь, я видел лишь лихорадочные поиски чего-то – и никакой творческой работы, никакой уверенности, что она останется здесь или что ей хотелось бы остаться, никакой веры в то, что в Европе ее ждет что-то стоящее, и даже никакого упоминания английского мужа. Один, лишь один-единственный раз, разглядывая ее эскизы, я наткнулся на рисунок высокого, приятного, но очень обычного с виду англичанина чиновничьего типа, в облике которого вроде бы проглядывала, пусть в незначительной степени, культура и утонченность. «А это кто?» – «Ах, это Шерард. Мистер Недерби, мой муж». – «Ну да, конечно». Так промелькнул ее муж – быстро и почти незаметно, – не слишком интересный предмет для разговора.
И наконец записка следующего содержания. Или, скорее, часть записки. «Боюсь, я окончательно потеряла связь с Америкой. Не могу ее больше выносить и возвращаюсь в Лондон. Поскольку мои планы неопределенны, оставляю бо?льшую часть картин Урсуле Дж. Но я ее предупредила, что Вы можете выбрать несколько из тех, что всегда были Вам интересны. Можете повесить у себя, если хотите. Я не могу взять их с собой и не хочу, чтобы они достались чужим людям, хотя некоторые все же придется оставить на хранение. Не могу пока дать Вам свой постоянный адрес, но буду писать». Я попытался до нее дозвониться, однако она уже уехала.
Потом полгода молчания. Между тем, следуя ее предложению, я отобрал десять самых интересных работ и повесил их у себя, как она и хотела. Затем письмо из Лондона. Она живет там, но на лето собирается в Швецию. И снова долгое молчание. Через год – снова письмо, в котором она спрашивает о картинах и просит меня оказать любезность и присмотреть за теми, что оставлены на хранение. Еще она добавила, что вернула себе девичью фамилию и теперь зовется Эллен Адамс. Прилагался и новый адрес.
Следующее письмо пришло через два года. Никаких существенных новостей. Она все еще в Лондоне. В порядке ли картины? (В порядке, за исключением платы за хранение.) Еще один год и еще одно письмо с новым адресом – парижским – и сообщение, что вскоре она организует пересылку картин туда. Но они так и не были отправлены. Другого своего знакомого, жившего в Филадельфии, она попросила забрать картины из хранилища и держать у себя. Но о тех, что висели у меня (самых лучших), она не спрашивала.
Тем временем я навестил Урсулу Дж., заботам которой Эллен поначалу оставила бо?льшую часть своих работ. Урсула была американским иллюстратором и училась в Париже, когда там жила Эллен. Она хорошо знала и ее, и Маккейла. После отъезда Эллен из Америки я заходил к Урсуле, но не стал обсуждать с ней нашу общую приятельницу. Урсула вела себя слишком сдержанно, чтобы я рискнул вдаваться в подробности личного характера. Но сейчас прошло столько времени и Эллен проявляла такое безразличие к своим картинам (десять оставались у меня, сто двадцать у Урсулы), что мне показалось, Урсула не против разговора. Почему Эллен так скоропалительно вернулась в Лондон? Почему она надолго оставила здесь свои картины? Почему такое потрясающее безразличие? Что теперь с нею сталось?
– Но разве вы не знаете? Разве вы никогда не видели Недерби?
– Нет.
– Но портрет ведь видели?
– Да.
– И как вам?
– Да, я понимаю. Но такое безразличие к карьере! И все картины брошены здесь! По-моему, они ей нужны.
– По-моему, тоже. Они прекрасны и должны сделать ей имя. Но не сделают. Они ей больше неинтересны, как неинтересна и она самой себе. Поэтому не сделают. Нужно верить в себя и в свою работу, чтобы это случилось, однако, боюсь, у Эллен больше нет такой веры. Они всего лишь призраки ее несчастного прошлого. За них некому заступиться.
– Но у нее же истинный талант художника. Те работы, что висят у меня, просто великолепны.
– Как и те, что здесь, у меня. Но Эллен с этим покончила. Разве что найдет другого мужчину – такого, как Маккейл. С ее стороны это была истинная любовь. И ничто ей его не заменит. Она этого и не хочет. А пока не захочет и не заменит, рисовать не будет.
– Но это же абсурд!
– Ничего подобного. Дело в том, что для Эллен искусство было дорогой к счастью. Она всегда умела рисовать. И сейчас может, причем даже лучше, чем раньше, но только не хочет. И не рисует. Единственная ее цель – счастье. А единственный способ его достичь – рисовать для любимого человека. Но она не может любить и рисовать без уважения, человеческого и художественного, а единственным человеком, которого она действительно уважала и творчески боготворила, был Маккейл. Он был ее жизнью, ее вдохновением и, думаю, до сих пор остался. Когда он ее бросил, для нее все кончилось. Без него ничто не имело смысла. По-видимому, и сейчас не имеет.
Однако не меньше, чем сама Эллен, меня заинтересовала студия, вернее, ее содержимое. Очень милое помещение, с высокими окнами и небольшим балконом, выходящим на широкий чистый бульвар. И внутри, и снаружи царило ощущение старого, веселого, зажиточного Парижа тех лет, что предшествовали Великой войне[7 - Имеется в виду Первая мировая война (1914–1918)]. В отличие от первой небольшой мастерской в Нью-Йорке, где картины Эллен были скромно поставлены в угол, лицевой стороной к стене, здесь висели очень большие холсты – по крайней мере три из них восемь на пятнадцать.
Я сразу же заговорил о ее панелях в Филадельфии. «Ах да, – очень просто сказала она, – я продала их для рекламы около трех лет назад почти за бесценок. Одни из моих первых парижских работ. Приезжал мистер С. с намерением купить что-нибудь такое, что поразит американцев. Хотелось бы их вернуть. Это не совсем то, что я бы сделала теперь. Я предложила мистеру С. написать ему четыре новые панели, но он и слышать не хочет. Думает, я все переделаю, что, конечно, чистая правда».
Она засмеялась.
Тут мы сразу же перешли к новому течению в искусстве. Глядя на картины на стенах, я понимал, что она привержена не только художественному направлению как таковому, но и его величайшему и разностороннейшему апостолу и пророку Пикассо – тому самому, который оказал такое сильное влияние на Маккейла. Надо сказать, что в тот момент одной из самых заметных картин на стенах студии была, если ее можно так назвать, пирамидальная симфония – изображение синхронно танцующей пары, при котором каждая линия и угол оказывались частью одной или нескольких треугольных плоскостей пирамиды. Увидев, что я рассматриваю эту работу, она заговорила:
– О да, приехав сюда, я очень быстро обратилась к новому направлению. Джимми – помните Джимми Рейса? – так вот, Джимми всех этих художников не вынес и в том же году вернулся назад. Однако, когда мои первоначальные предубеждения испарились, я увидела, насколько это искусство лучше отражает реальность, насколько оно более энергично и жизненно. Конечно, сейчас оно притягивает тысячи шарлатанов, но, полагаю, не больше, чем старая манера в былые времена.
– А кого вы считаете главными представителями этого нового искусства? – спросил я, в то же время задумавшись о Джимми Рейсе и Кире Маккейле. Особенно меня интересовал Маккейл.
– Конечно, это Матисс и Пикассо, только в моем понимании они олицетворяют два различных подхода. Матисс видит декоративность и демонстрирует ее зрителю. Он возвращается к предмету в искусстве и показывает его с особенной выразительностью. Пикассо же преодолел влияние Матисса и пошел по собственному пути. Он почти все видит в форме кубов и пирамид.
Я посмотрел на другую «пирамидальную» картину, висевшую у нее на стене.
– Да, – продолжала она, – я последовательница Пикассо. Теперь я вижу все, как он, это точно. Уже через три месяца жизни здесь я поняла, насколько мелко то, что я делала раньше.
Мои мысли вернулись к Рейсу и его манере писать в традициях старой школы, манере, которая когда-то была так важна для Эллен. Но сейчас ни об этом, ни о нем не было произнесено ни слова. И поскольку меня пригласили на ужин, она сообщила, что по такому случаю приглашен также и некий Кир Маккейл, художник и друг, человек, чьими работами она восхищается. И так далее, и так далее. Очень быстро по общему направлению разговора я смог понять, что Маккейл для нее больше, чем друг, – нежно любимый мужчина, часть ее ежедневной жизни. У него есть студия на площади Пигаль, не очень далеко отсюда, рассказывала она. Он шотландец, ставший приверженцем новой школы еще до их знакомства. Его тоже очень интересовал Пикассо. Надо сказать, что они даже познакомились в мастерской этого художника. Потом она добавила, что Маккейл – яркая личность, такой сильный, простой, честный, немного резковатый, типичный шотландец, но художник до кончиков ногтей, я это пойму, если узнаю его ближе.
Вскоре пришел сам Маккейл. Невысокий, коренастый, сильный, несколько вызывающий. Все как она сказала. Типичный житель шотландских вересковых долин, широкоплечий, весьма решительный и напористый, лет тридцати пяти или сорока. Но какой резкий контраст с Ринном или Рейсом – этого человека совершенно не интересовало, что на нем надето и какое впечатление он может произвести на окружающих! И тогда, и потом мне казалось, что он слишком угрюм и догматичен, причем не намеренно, не из желания кого-то обидеть. В тот вечер он был резким и бескомпромиссным. А по тому, как он бросил свою трость и шляпу в угол, я понял, что он здесь свой человек – тот, для кого Эллен теперь живет и работает, так сказать, ее духовный и эмоциональный наставник. Куда бы он ни пошел, Эллен следила за ним нежным и внимательным взглядом, что я про себя и отметил. Мой лондонский приятель подготовил меня к такой ситуации, однако я настолько увлекся Маккейлом, что вскоре даже забыл про его шотландскую картавость. Из последовавшего разговора выяснилось, что он жил и работал во многих городах: в Париже, Риме, Мюнхене, Вене, Лондоне. Он любит шотландцев, но сказал, что жить с ними не может. У шотландцев нет ощущения искусства, нет широты духа. Англичан он объявил слишком эгоцентричными и реакционными. А вот Париж и континентальная Европа его вполне устраивали.
Зная его предшественников и видя, как Эллен ловит каждое его слово и, можно сказать, ходит перед ним на задних лапках, я внимательно его разглядывал. И я понял, что наконец и, вполне вероятно, очень надолго над ней взял верх человек, который вряд ли отнесется к ней слишком серьезно. Этого от него не дождешься. А Рейс и Ринн? Фьють! Оба бесследно исчезли. Повсюду присутствовал Кир. Приготовил ли он рамы для двух своих картин, которые давно нужно было вставить в рамы и отослать? Проконсультировался ли он с кем-то – имя я позабыл, – с кем собирался проконсультироваться? Мне обязательно нужно увидеть студию Кира. Она намного симпатичнее, чем у нее. В один из ближайших дней, если я еще пробуду в Париже, мы там поужинаем. Иногда они ели там, иногда здесь. Из этого я заключил, что, хотя они занимали разные студии, они не скрывали, что живут более или менее одной жизнью. Некоторые вещи Кира я заметил в студии Эллен, а позже обнаружил некоторые вещи Эллен у него. Завтракали они тоже то здесь, то там. Но несомненным для меня было одно: Маккейл на тот момент являлся хозяином этого разделенного дома, она по-настоящему, искренне и глубоко, его любила, а он руководил ее жизнью и настроением, как никто другой до него.
И все-таки, кроме того, я ощутил, что за его грубой, решительной манерой тоже скрывалось нежное чувство к ней, но все же не такое, как ее к нему. По крайней мере, оно не было столь очевидным. Кир был слишком молчалив, необщителен, закрыт. И несмотря на частые разговоры, которые мы с ним вели потом, иногда даже наедине, я так и не понял, была это просто нежная дружба с его стороны или все-таки любовь. Эллен очень милая девушка, сказал он. И хорошая. Покамест такая жизнь их вполне устраивает. Ей нравится думать, что она создает нечто выдающееся. В каком-то смысле она выражает себя с помощью средств, изобретенных, к сожалению, другими, но постепенно они становятся почти что ее собственными благодаря ее мягкому и богатому темпераменту, что придает индивидуальность всем ее работам. Так я увидел, что Кир не был скупым, хотя и не особенно щедрым на похвалу в адрес Эллен. Без сомнения, она ему очень нравилась. Они понимают друг друга, говорил он, и, кроме того, часто всюду бывают вместе. С его точки зрения, она чудесная, грандиозная, умная женщина.
Вскоре я понял, что больше всего меня привлекает в Кире его отношение к искусству. Как и говорил мой лондонский знакомый, Кир, решительно отказавшись от всех старых форм, даже от искусства новых ведущих художников, пытается найти что-то свое. И когда я бывал у него в студии – а я заходил к нему несколько раз без Эллен, – мне становилось ясно, что это правда. Там были натюрморты и пейзажи, как акварельные, так и написанные маслом, а также изображения фигур – удивительные попытки передать твердость, массу, плотность, часто совершенно исключив красоту. По его убеждению, что он неоднократно подчеркивал, картина не должна быть просто поверхностью; вдобавок к длине и ширине у нее есть глубина, или, если угодно, внутренняя крепость. И радость, которая неизбежно возникает, когда художнику удается ее выразить, может через настроение быть передана другому человеку. Признаюсь, в некоторых его вещах мне визуально передалась если не радость, то искренность его попыток. Некоторые картины Кира были довольно большие – примерно метр двадцать на полтора, но основная часть работ имела гораздо меньший размер, хотя во всех чувствовалось напряжение, переданное в основном в мрачных синеватых, серых и зеленых тонах; так что, глядя на них, ты начинал задумываться, куда подевался цвет, почему он ускользнул от художника. Действительно, все работы, как мне подумалось, несли на себе отпечаток бесконечного труда и упрямого воинственного настроения. Короче говоря, художник хотел побеждать, а не творить, он хотел заставить живопись исполнить его волю, выразить его ощущение реальности. Большинству картин – по крайней мере, я так это видел – не хватало легкости линий и композиции, широты, диапазона, радости цвета и формы, отличавших все вещи Эллен. В сущности, одной из особенностей, делавшей их техники совершенно различными, было мастерство Кира как живописца – живописца, умевшего передать прочность и глубину. Другая особенность принадлежала Эллен – любовь к линии и цвету, независимо от глубины или даже правды. И именно понимание мастерства Кира привело ее к такому преклонению перед ним. Короче говоря, позже я пришел к убеждению, что он мог рисовать лучше, чем она, хотя у него было меньше предметного воображения, изысканности, романтичности. И все-таки, понимая, что с точки зрения техники его работы лучше, я отдавал предпочтение холстам Эллен. Они были одновременно менее натуралистичными и более притягательными, иногда восхищая цветом и мыслью. Впрочем, когда несколько позже я в общих чертах высказал ей свое мнение, она не приняла моих слов всерьез. Картины Кира так глубоко и крепко выстроены, заметила она. Они такие настоящие. Естественно, он избегает почти с религиозной суровостью любого намека на бесплодную экстравагантность, которая так сильно портит работы других, но в этом-то и состоит его истинное величие, которое в один прекрасный день наверняка будет признано. Мощная живопись – вот к чему он стремится. Мощные вещи, возникающие из-под слоя красок. Тогда как в ее картинах нет настоящей глубины. Конечно, ей бы хотелось этого достигнуть, но до сих пор не удавалось. Я никогда не слышал, чтобы она так говорила о ком-нибудь другом, и поражался этой новой творческой скромности, если не самоотрицанию.
Той весной я довольно много виделся с ними обоими. Мы вместе гуляли по Парижу – Нотр-Дам, Сент-Шапель, Сент-Этьен-дю-Мон, церковь Мадлен, не говоря уж о некоторых более веселых и менее впечатляющих ресторанах и танцевальных залах. Что касалось жизни Эллен и Кира, то они существовали так, как им того хотелось. Приходили и уходили, когда считали нужным. Он приглашал или не приглашал ее принять участие в его делах, и она поступала так же. Он критиковал ее работы, иногда очень холодно, утверждая, что они слишком цветистые, слишком экзотические, что сама она слишком поддалась энтузиазму и манере того или иного футуристического лидера. Она же редко что-то говорила о его вещах, кроме того, что они хороши.
Однако, как я вскоре обнаружил, у этой пары было нечто, выходившее за рамки искусства, – физическое и, весьма вероятно, психологическое доминирование Маккейла над Эллен, причем совсем не против ее воли. В противоположность ее прошлому доминированию (в Америке) над Ринном и Рейсом, позволившему ей легко и, видимо, без колебаний бросить обоих. С Маккейлом дела обстояли иначе. Этот крепкий и, на мой взгляд, не особо располагающий к себе шотландец явно был для нее как свет в окошке. Насколько я ее знал, Эллен обладала ясным и образным видением мира, особенно когда речь шла о синтезе в искусстве. Тем не менее, когда рядом был Маккейл, в ее суждениях и высказываниях чувствовалась даже не робость, а скорее дипломатичность. Так, если в какой-то момент он начинал спорить, категорично и непреклонно, как он обычно умел, вместо того чтобы отвечать ему тем же, как, безусловно, она сделала бы в споре с Рейсом или со мной, она замолкала и переводила разговор в иную плоскость, что позволяло спору совершенно спокойно сойти на нет. Что касается других вещей – куда пойти пообедать, кого навестить или что посмотреть, в каком месте и в какое время встретиться или сколько времени чему-нибудь посвятить, – решал всегда Маккейл, а не Эллен. И в большинстве случаев было не важно, присутствует он при этом лично или нет.
И теперь я заметил или, скорее, почувствовал то, что заметил, когда впервые пришел в ее нью-йоркскую студию на Восьмой авеню. Была в Эллен какая-то домовитая женственность, озадачившая меня. Ибо как соединялась эта исключительная женственность с очень мощной и почти грубой натурой на стенах ее студии? Ведь эта натура была не только роскошной, богатой, цветущей – и вполне могла возникнуть из настроения, вызванного чувственностью, – ее картины, кроме того, казались свободными, многогранными, сильными. Они были более свободными, многогранными и, как я уже говорил, более красочными и образными, чем все, что создавал Маккейл. И вместе с тем ее удивительно мягкий, женский, даже чувственный голос и манера; тело, позволявшее ощутить едва заметное пульсирование плоти; глаза, руки, плечи, шея, щеки – все говорило о гармонии скорее физической, чем духовной. К тому же здесь, в парижской студии, среди ее работ я видел на ней наряды, которые подчеркивали ее чисто женскую привлекательность, – гладкие, ниспадающие, элегантные платья, даже передники, все из изысканнейших материалов. И духи, их едва уловимые ароматы вились вокруг. Я изучал Эллен не меньше, чем ее работы, но так и не смог связать одно с другим. Я легко мог соединить ее и Маккейла, потому что вне искусства они, в сущности, представляли собой мужское и женское начала. Но то, другое? Я долго размышлял над этой парой, после того как покинул Париж, и они никак не выходили у меня из головы.
А потом – года полтора спустя – из Парижа в Нью-Йорк приехала Эми Джин Мэтьюс, еще одна американская художница, писательница, поэтесса и любительница жизни, которая во время недавнего пребывания в Париже не раз встречалась с Эллен, Маккейлом и их друзьями. Теперь она привезла новости, вызвавшие у меня довольно смешанные чувства. Три полотна, представленные Эллен на последнем весеннем Салоне, привлекли большое внимание. Потрясающие сочетания фигур, цветов, драпировок и фонов, не привязанных к определенной местности, времени или климату, но навевающих сон о ее собственном экзотическом мире. И несомненно, выполненных более решительно и смело, чем все, что она делала раньше. Конечно, было очевидно, что она последовательница Пикассо, а также Матисса и других нео- и постимпрессионистов. Тем не менее в своих работах, как Ван Гог, Гоген и даже Матисс, она достигла того, что можно назвать собственной манерой: округлость, насыщенность, настроение, фантазия, целиком принадлежащие ей одной и явно говорившие о ее способностях и воображении. Поэтому в будущем от нее можно было ожидать поистине замечательных вещей. В этом критики были почти единодушны.
По словам мисс Мэтьюс, Эллен очень вдохновили такие отзывы, она сосредоточилась и всецело отдалась работе, но вдруг совершенно неожиданно все перевернулось, потеряло смысл, умерло, потому что Маккейл, ее доблестный шотландский друг, в последние шесть-восемь месяцев начал терять к ней интерес и перестал смотреть в ее сторону. Вернее, как рассказывали, у него появилась другая девушка – Кина Макса, польская танцовщица, недавно приехавшая в Париж и благодаря своему искусству заставившая о себе заговорить. Она была молода и настойчива. Ею восхищались в кафешантанах, и Эллен сама ее разыскала, чтобы написать портрет. С точки зрения дипломатической и полигамной это не сулило ничего хорошего, потому что таким образом Кина познакомилась с Киром, который в ту же секунду тоже захотел ее написать, хотя тогда об этом не сказал – но потом писал ее много, много раз. Короче говоря, к несчастью и отчаянию Эллен, Кине, похоже, удалось существенно изменить художественное мировосприятие Кира, и в результате, по крайней мере несколько последующих лет, он писал и ее, и других – вы не поверите – если не в манере, то в настроении, присущем Эллен. Что могло быть ужаснее? Что это такое на самом деле – любовь или гипноз? Или гипноз, который и есть любовь? Но суть в том, что Кина безумно влюбилась в Маккейла, а он в нее. Через несколько недель, по словам мисс Мэтьюс, они начали тайно встречаться; узнав об этом, Эллен Адамс впала в отчаяние. Ибо сразу же, следуя своей прямолинейной, предельно жестокой манере, Маккейл даже не сделал попытки скрыть это новое увлечение. Короче говоря, выложив Эллен всю правду, он исчез вместе с Киной, и некоторое время о нем никто не слышал. Потом он появился, только чтобы сказать, что влюблен, – и, без сомнения, исчез навсегда. Эллен осталась одна и ушла в себя. Моя знакомая мисс Мэтьюс сочинила теорию, по которой именно успех Эллен, а не что-либо иное, возможно более яркое очарование польской выскочки, заставил Кира так измениться. Я, впрочем, сомневаюсь. Не тот был у него характер и не те личные качества, чтобы перед лицом женщины легко признать свое поражение, а уж тем более в нем увериться. С другой стороны, если учесть несомненные доказательства его главенства над Эллен в прошлом и явную, крайне догматичную терпимость к ее жизнелюбивым настроениям в живописи, он вряд ли завидовал бы ее успеху. Во всяком случае, как мне казалось, он с большей вероятностью сожалел бы об этом. Если Кир и переменился, то, скорее всего, потому, что увлекся другой женщиной.
Но сам я не слышал ничего определенного ни об Эллен, ни о Маккейле. Прошло еще восемь месяцев. И вдруг письмо от нее. Датированное десятью днями ранее и посланное из Парижа. В нем Эллен довольно искусно выспрашивала о художественной жизни Америки – основных агентах по продаже картин, впечатлении, которое произвел у нас футуристический метод; узнавала, не мог бы я помочь в организации выставки ее картин. Она закончила много новых вещей и добилась больших успехов. Кстати, подумывает на какое-то время вернуться домой. Пожалуй, в ее жизни Парижа оказалось слишком много. В конце стояла приписка, что Маккейл сейчас на юге Франции. Более ни слова.
Я честно написал ей все, что знал о ситуации в Нью-Йорке. Французская революция в искусстве пока не добралась до Америки. Совсем нет. Потребуется время, чтобы американцы доросли до этой новой фазы. После чего семь месяцев от нее не было ни строчки. Потом еще одно письмо. На этот раз из Лондона. Около четырех месяцев назад она покинула Париж. В промежутке, после предыдущего письма ко мне, она вышла замуж – за англичанина – и переехала в Лондон. Маккейл… что ж, Маккейл оставил ее, увлеченный другой любовью.
Она, конечно, собиралась вернуться в Америку, но как раз тогда встретила мистера Недерби и теперь очень счастлива. Она рисует и готовит свою выставку в Лондоне. Если я надумаю приехать, то в любое время могу к ним заглянуть.
Сказать, что я был поражен, значит сильно приуменьшить мои эмоции, потому что после встречи с ней и Маккейлом в Париже я не сомневался, что она вряд ли обретет счастье с кем-то другим. Бывают определенные союзы, по крайней мере, если говорить о женщинах, которые ты интуитивно воспринимаешь как неизбежные. Есть властные, сильные мужчины, которые словно стальными крючками притягивают к себе чувственных, любящих их мужскую природу женщин. И не имеют ни малейшего значения существующие между ними незначительные разногласия или наличие у женщины неких талантов, отсутствующих у мужчины, или, наоборот, наличие каких-то особенностей у мужчины, которых нет у женщины или которых она ни в коем случае не может одобрить. Возможно, именно эти различия (и чем они больше, тем чаще и надежнее притяжение) как раз и связывают ту или иную пару. Как ни крути, в случае Маккейла и Эллен не оставалось никаких сомнений, что творчески и эмоционально она была его рабой. Безусловно, она не копировала его, как могла бы при данных обстоятельствах, но совершенно очевидно, что благодаря его силе, его глубоким и дерзким мыслям, а не чему-то другому она ощутила и сохранила в себе ту высшую творческую эмоциональность, которая проявлялась в великолепных полотнах, вызывавших мое восхищение. И ей было совершенно не важно, что собственные вещи он ставил выше. Для того чтобы создавать свои картины, Эллен требовалась почва в виде напряженной и даже тяжелой реальности, физической и духовной сущности Маккейла. Как художница она опиралась на него, словно на скалу, и с этой тяжелой, но надежной физической основы уходила в полет. К тому же она обожала его таким, каким он был, и это делало ее особенной, такой, какой была она. Я имею в виду, не больше и не меньше, его духовную самоидентификацию, развитие его творчества в сочетании с неоимпрессионистическим французским течением в искусстве и ее собственным красочным и оригинальным видением мира. Если мои психологические изыскания чего-то стоят, то я прав.
Но теперь она снова замужем, и после Ринна, Рейса и Маккейла я смог по-настоящему почувствовать силу оглушившего ее удара. Сейчас я вспоминал, как если бы она сама мысленно обрисовала, две светлые студии – одну на бульваре Рошешуар, другую на площади Пигаль, высокие окна, такие разные собрания картин, веселые приготовления то к завтраку в одной студии, то к ужину в другой, а может, в одном из живописных городских ресторанов. Эллен, молодая, похожая на француженку в своих очаровательных уличных костюмах, и Маккейл, крепкий, похожий на пастуха. Наверняка она сейчас переживает черную полосу в жизни, и резвая полячка, укравшая у нее любимого, маячит, как мрачный призрак, над пустыней ее некогда веселого мира.
А потом, не больше чем через год или месяцев через девять, от Эллен пришло еще одно письмо. Дела в Англии шли плохо как в творческом, так и во всех остальных смыслах. Конечно, причиной была война. Приходилось делать все, что угодно, только не рисовать, но единственное, что ее интересовало, было именно творчество. В остальном с ее прошлого письма ничего не изменилось, однако она едет в Америку, а если точнее, то будет здесь через месяц. Иностранный рынок и всю атмосферу так задавила война, что она хочет попробовать жить и работать в Нью-Йорке. Не знаю ли я какую-нибудь хорошую студию с подходящей атмосферой или в подходящем по атмосфере районе? (Я, конечно, порекомендовал Вашингтон-Сквер.) Не согласился бы я представить ее каким-нибудь интересным людям, которые могут дать ей советы по поводу местного искусства или, скорее, возможностей выставляться? Ее муж сейчас с ней не приедет, не может, но появится позже. (Это меня не слишком интересовало, поскольку я знал, что по своей воле она никогда не оставила бы Маккейла.)
Через месяц Эллен действительно приехала, и я увидел женщину, изменившуюся не столько физически, сколько духовно по сравнению с тем, какой я ее знал в Париже и Нью-Йорке. Интересно, что сейчас она была одета по последней моде, чего я не замечал в Париже, – полагаю, потому, что рядом не было Маккейла, который выказывал недовольство любыми украшениями или намеком на кокетство в ее платьях. Так или иначе, нынешние наряды Эллен свидетельствовали о желании подчеркнуть присущее ей очарование. И я над этим задумался.
Вскоре она сняла студию на 65-й улице, одну из нескольких, в здании, где на первом этаже, в подвале и в нескольких частных апартаментах под студиями располагался знаменитый в те годы ночной ресторан «Хили».
Все, кто знал довоенный Нью-Йорк, помнят, что здесь собирались актеры, художники, музыканты, литераторы, не считая бонвиванов, которые держали в этом районе такси, болтая между десятью вечера и четырьмя утра. Вдохновенные завывания флейт и скрипок, которые, хоть и слабо, слышались даже в студиях на верхних этажах, в том числе и у Эллен, должно быть, напоминали ей Париж. Так или иначе, но она поселилась здесь, и здесь, как я вскоре узнал, зайдя в гости, были собраны почти все ее лучшие работы парижского периода, не говоря о нескольких последних вещах – впрочем, на мой взгляд, не столь удачных, не таких красочных и не таких одухотворенных. Мы вместе пересмотрели их все, после чего я сказал ей, что ей достаточно просто сохранить созданное (может, даже этого уже не надо), чтобы получить заслуженное признание.
Она отметила, что одна из трудностей ее теперешнего положения состоит в том, что здесь, как и в Англии, фоном всякого искусства стала Великая война. Конечно, Америка еще не воевала, но результат был почти тот же. В Англии она вообще ничего не могла делать. Одна выставка, которую удалось организовать, не принесла ровным счетом ничего. Публику не интересовало искусство. Здесь, в Америке, все почти столь же безнадежно. Те, кто обычно покупал картины, теперь покупают «облигации свободы», художественных критиков и любителей живописи волнуют вести с фронта. Открывающиеся и закрывающиеся выставки не вызывают ни малейшего интереса. Организуются и проводятся аукционы, по бо?льшей части дорогие произведения страхуют, однако в конечном счете они возвращаются непроданными в аукционные залы. За хорошие картины больше нельзя получить денег, как нельзя прославиться, если не писать военные картины – окопные бои и авиационные налеты.
Тем не менее, как я заметил, Эллен довольно энергично взялась за дело: во-первых, ей нужно было организовать достойную выставку своих картин; во-вторых, вновь обрести интерес к Америке, а если получится, то и к жизни – случившаяся беда все никак ее не отпускала. Она усердно посещала всех основных агентов, занимавшихся выставками, но, по ее словам, не почувствовала с их стороны никакого энтузиазма. Слишком много проблем на фронте. Ей потребуются приличные деньги, чтобы выставить свои работы хотя бы на месяц, а цены на все остальное продолжают расти. К тому же, как она мне призналась, ее избранник не был богат. Это был союз «по любви», а «такие вещи, насколько я знаю, редко бывают связаны с деньгами». Я усомнился по поводу «союза по любви» да и в целом по поводу ее брака – зачем он ей понадобился? Ведь теперь она оказалась среди самого безумного искусства и самой богемной публики, какие можно было найти в тогдашнем Нью-Йорке. Более того, она пила, словно желая, как мне показалось, избавиться от душевных мучений. И иногда в таком неестественном возбуждении у нее вырывались слова об изменчивости жизни и даже искусства. Начинаешь свой путь, к примеру, молодой девушкой с вполне определенным представлением, чего тебе следует добиться в жизни и в искусстве, но есть у тебя способности или нет, есть у тебя энтузиазм или нет – ничто не гарантирует тебе успех или провал. И вот теперь война – как кардинально она перевернула или изменила все художественные ценности своего времени!
И однажды, только однажды, в приступе горечи она рассказала о своем несчастье – о длительных близких отношениях с Маккейлом. Ей казалось, или, скорее, она была уверена, что по темпераменту и чувствам они были очень близки, почти навечно соединены неразрывной связью. И только посмотрите! Оба они – не один Маккейл, благоразумно подчеркнула она, – пошли каждый своей дорогой. Но я-то знал, что она лукавит. Своей дорогой пошел Маккейл, а не Эллен. И, поступив так, вызвал у нее не только чувство растерянности, но и безнадежности, поскольку ее молодость почти прошла, да и в творчестве она так и не достигла прочного положения, о котором изначально мечтала.
И вот еще что. Я познакомился с англичанкой, знавшей Эллен и Маккейла в Париже, а также ее нового мужа в Англии. Их брак вызывал у нее презрительное недоумение. Почему Эллен выбрала этого Шерарда Недерби? Самый посредственный и несерьезный писака, критик, довольно безуспешно рассчитывавший когда-нибудь засиять в качестве… она едва могла себе представить, в качестве кого. Может, театрального критика? Но в его голове было полно феерических, диковинных идей, что значит быть настоящим художником! Он тоже бывал в Париже и знал Маккейла, и, без сомнения, тогда, как и сейчас, ему льстило занять его место и заполучить Эллен. Но она? О чем она думала? Отомстить Маккейлу? Попытаться забыться в компании и объятиях такого неуравновешенного и психически нездорового существа, как Недерби? Абсолютная нелепость! У него, конечно, знатное происхождение. Но происхождение – для нее – так мало значит. Все это никак не могло продолжаться. Ей, конечно, уже тошно, и она наверняка приехала сюда, чтобы избежать поджаривания на этой новой сковородке.
Эти критические суждения прояснили умственное и эмоциональное состояние Эллен, по моим наблюдениям беспокойное и суматошное. Но все-таки через различных знакомых, рекомендательные письма и тому подобное она добивалась и в конце концов, в общем, добилась хотя бы небольшого общественного интереса если не к ее искусству, то к ней самой и ее занятиям. Несколько критиков были приглашены к ней на чай. И она ухитрилась сделать свое имя известным другим. Я сам принудительно мобилизовал троих и привел посмотреть ее работы. Критики сомневались. Эллен вернулась, не получив полного и окончательного признания иностранной аудиторией, и здешняя публика не видела ее работ. Поэтому требуется время. Как я понял, она должна была приготовиться ждать.
Но меня поразило скорее ее настроение и отношение к себе и к жизни, чем творческие усилия. Хотя Эллен родилась в Америке, у меня сложилось впечатление, что она не может обрести твердую почву под ногами ни в стране, ни в собственной жизни. Несмотря на то что в творческом плане ею было создано очень много, она пребывала в чрезвычайно подавленном состоянии. Насколько я мог судить, она очень мало работала в мастерской. Вместо этого – что было совсем не похоже на ее настрой в парижский период, – казалось, она все время ищет встреч с мужчинами. Возможно, главной причиной было острое желание встретить на дорогах искусства человека сильного или выдающегося, а может, обладавшего обоими этими качествами и вновь попасть под его чары. (Ох уж эта неумирающая человеческая мечта!) Но все те, с кем она знакомилась, – писатели, профессионалы в различных областях, художники, критики, – никто не производил на нее впечатления. Наоборот, в течение восьми месяцев, проведенных ею здесь, я видел лишь лихорадочные поиски чего-то – и никакой творческой работы, никакой уверенности, что она останется здесь или что ей хотелось бы остаться, никакой веры в то, что в Европе ее ждет что-то стоящее, и даже никакого упоминания английского мужа. Один, лишь один-единственный раз, разглядывая ее эскизы, я наткнулся на рисунок высокого, приятного, но очень обычного с виду англичанина чиновничьего типа, в облике которого вроде бы проглядывала, пусть в незначительной степени, культура и утонченность. «А это кто?» – «Ах, это Шерард. Мистер Недерби, мой муж». – «Ну да, конечно». Так промелькнул ее муж – быстро и почти незаметно, – не слишком интересный предмет для разговора.
И наконец записка следующего содержания. Или, скорее, часть записки. «Боюсь, я окончательно потеряла связь с Америкой. Не могу ее больше выносить и возвращаюсь в Лондон. Поскольку мои планы неопределенны, оставляю бо?льшую часть картин Урсуле Дж. Но я ее предупредила, что Вы можете выбрать несколько из тех, что всегда были Вам интересны. Можете повесить у себя, если хотите. Я не могу взять их с собой и не хочу, чтобы они достались чужим людям, хотя некоторые все же придется оставить на хранение. Не могу пока дать Вам свой постоянный адрес, но буду писать». Я попытался до нее дозвониться, однако она уже уехала.
Потом полгода молчания. Между тем, следуя ее предложению, я отобрал десять самых интересных работ и повесил их у себя, как она и хотела. Затем письмо из Лондона. Она живет там, но на лето собирается в Швецию. И снова долгое молчание. Через год – снова письмо, в котором она спрашивает о картинах и просит меня оказать любезность и присмотреть за теми, что оставлены на хранение. Еще она добавила, что вернула себе девичью фамилию и теперь зовется Эллен Адамс. Прилагался и новый адрес.
Следующее письмо пришло через два года. Никаких существенных новостей. Она все еще в Лондоне. В порядке ли картины? (В порядке, за исключением платы за хранение.) Еще один год и еще одно письмо с новым адресом – парижским – и сообщение, что вскоре она организует пересылку картин туда. Но они так и не были отправлены. Другого своего знакомого, жившего в Филадельфии, она попросила забрать картины из хранилища и держать у себя. Но о тех, что висели у меня (самых лучших), она не спрашивала.
Тем временем я навестил Урсулу Дж., заботам которой Эллен поначалу оставила бо?льшую часть своих работ. Урсула была американским иллюстратором и училась в Париже, когда там жила Эллен. Она хорошо знала и ее, и Маккейла. После отъезда Эллен из Америки я заходил к Урсуле, но не стал обсуждать с ней нашу общую приятельницу. Урсула вела себя слишком сдержанно, чтобы я рискнул вдаваться в подробности личного характера. Но сейчас прошло столько времени и Эллен проявляла такое безразличие к своим картинам (десять оставались у меня, сто двадцать у Урсулы), что мне показалось, Урсула не против разговора. Почему Эллен так скоропалительно вернулась в Лондон? Почему она надолго оставила здесь свои картины? Почему такое потрясающее безразличие? Что теперь с нею сталось?
– Но разве вы не знаете? Разве вы никогда не видели Недерби?
– Нет.
– Но портрет ведь видели?
– Да.
– И как вам?
– Да, я понимаю. Но такое безразличие к карьере! И все картины брошены здесь! По-моему, они ей нужны.
– По-моему, тоже. Они прекрасны и должны сделать ей имя. Но не сделают. Они ей больше неинтересны, как неинтересна и она самой себе. Поэтому не сделают. Нужно верить в себя и в свою работу, чтобы это случилось, однако, боюсь, у Эллен больше нет такой веры. Они всего лишь призраки ее несчастного прошлого. За них некому заступиться.
– Но у нее же истинный талант художника. Те работы, что висят у меня, просто великолепны.
– Как и те, что здесь, у меня. Но Эллен с этим покончила. Разве что найдет другого мужчину – такого, как Маккейл. С ее стороны это была истинная любовь. И ничто ей его не заменит. Она этого и не хочет. А пока не захочет и не заменит, рисовать не будет.
– Но это же абсурд!
– Ничего подобного. Дело в том, что для Эллен искусство было дорогой к счастью. Она всегда умела рисовать. И сейчас может, причем даже лучше, чем раньше, но только не хочет. И не рисует. Единственная ее цель – счастье. А единственный способ его достичь – рисовать для любимого человека. Но она не может любить и рисовать без уважения, человеческого и художественного, а единственным человеком, которого она действительно уважала и творчески боготворила, был Маккейл. Он был ее жизнью, ее вдохновением и, думаю, до сих пор остался. Когда он ее бросил, для нее все кончилось. Без него ничто не имело смысла. По-видимому, и сейчас не имеет.