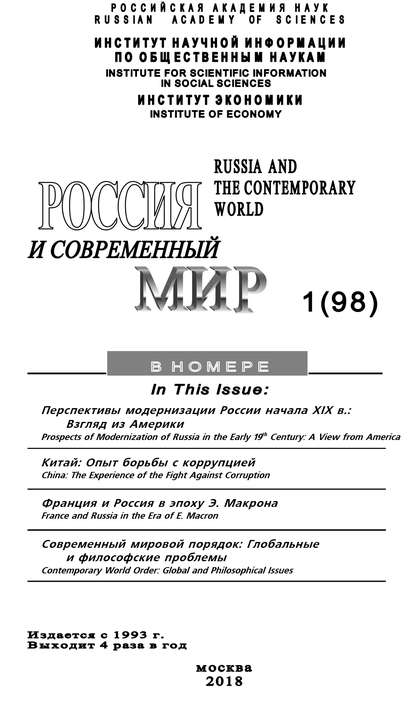По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия и современный мир №1 / 2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В литературе существуют различные точки зрения на А.И. Герцена как общественного деятеля. Некоторые авторы склонны считать его умеренным либералом, ставившим реалистичные цели и предпочитавшим мирные средства их достижения. В их представлениях Герцен был противником террора и других видов политического насилия. Подобных взглядов придерживаются И. Берлин [3], В. Страда [56], Е.Н. Дрыжакова [37, с. 137–139], Л.П. Громова [36, с. 89]. Критическое отношение к радикальным идеям позднего Герцена отмечает и Е.Л. Рудницкая [55, с. 17]. После смерти Герцена в 1870 г. эта точка зрения довольно прочно утвердилась в общественных кругах. Ситуация начала меняться в период юбилеев 1900 и 1912 гг., когда многие политические деятели включились в борьбу за использование его наследия в своих интересах [48]. Среди них был и В.И. Ленин, который в статье «Памяти Герцена», написанной в 1912 г. к 100-летию со дня его рождения, представил мыслителя предшественником большевизма, подчеркивая революционный характер его деятельности и публицистики [43]. Позже эта концепция легла в основу работ советских историков, посвященных Герцену (см.: [1, с. 181]).
Тема насилия была одной из основных тем, волнующих Герцена. В «Былом и думах» он писал, что уже в юношеские годы заинтересовался историей Французской революции. Узнав некоторые подробности из разговоров с гувернанткой и учителем французского языка, а также из немногих доступных ему книг, Герцен встал на сторону якобинцев, оправдывая применение ими жестоких насильственных мер. С одним из своих друзей юный Герцен даже прервал всякие отношения после того как тот отказался признать справедливость казни Людовика XVI, назвав его помазанником божьим [8, с. 64, 79, 161]. В последующие годы заметное влияние на Герцена оказали французские социалисты, такие как П. Балланш, В. Консидеран, П. Леру, которые отвергали насильственный путь развития общества. Однако их влияние не стало определяющим: в начале 1840-х годов в спорах о Французской революции, разгоревшихся в кругу западников, он вместе с В.Г. Белинским занял крайнюю позицию, защищая якобинцев от жиронды, за которую выступали Т.Н. Грановский и В.П. Боткин [2, с. 484; 47, с. 278–279; 10, с. 242; 10, с. 123]. В эти годы Герцен утверждал, что исторический прогресс без насилия невозможен: «Без крови не развяжутся эти узлы. Отходящее начало судорожно выдерживает свое место и, лишенное всяких чувств, готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя» [10, с. 309].
В дневнике, который он вел в 1842–1845 гг., содержатся записи об истории революций. В одной из них Герцен рассуждает, например, о том, что убийство короля нельзя рассматривать отдельно от преступлений королевской власти. Не отрицая того, что король заслуживает сострадания, он добавляет, что люди равны, в том числе и в праве на сочувствие: «Да, жалостно прощанье Карла I с детьми. А разве все погибающие в Спилберге, Сибири, Бобруйске, Динабурге, Петропавловской крепости бездетны? Да, может, они и не прощались с ними; да, может, их дети пошли по миру. Люди до сих пор не могут поверить, что они не токмо перед богом, но и перед людьми равны» [10, с. 293].
Через несколько лет, в 1848 г., Герцен столкнулся с живыми наследниками якобинцев, которые активно участвовали в начавшихся европейских революциях. Они, как и множество других сил, были вовлечены в политическую борьбу, сопровождающуюся в условиях революции ростом насилия. Однако Герцен занял в те годы несколько иную позицию. Он подчеркивал, что никого не защищает и не обвиняет. Революция представлялась ему природным явлением, где нет места ни морали, ни праву; революцию со всеми ее кровавыми ужасами и несправедливостями, как и любой природный катаклизм, можно лишь, по его словам, воспринимать как данность. «Мы видим, – писал он, – куда несется поток; доказывать юридически водопаду, чтоб он не разливался, не топил бы чужих берегов, ни к чему не ведет» [19, с. 216].
Герцена абсолютно не убеждали аргументы о праве на восстание, на которое часто ссылались защитники революций. Могло даже сложиться впечатление, что он вообще не поддерживал ни одну из сторон, занимая позицию ироничного и стороннего наблюдателя: «Борьба началась; кто победит, нетрудно предсказать; рано или поздно, per fas et nefas (правдами и неправдами – лат.), победит новое начало. Таков путь истории. Вопрос тут не в праве, не в справедливости – а в силе и в современности» [19, с. 66]. Из-за подобных рассуждений некоторые современники воспринимали Герцена (например, немецкий журналист Р. Зольгер) как разочаровавшегося в прежних идеалах скептика [63; 38, с. 73–77].
Герцену, однако, никогда не удавалось последовательно сохранять позицию нейтрального наблюдателя. Многие его высказывания того периода свидетельствуют, что право на революционное насилие остается для него сложной, мучительной проблемой.
Большое впечатление на Герцена произвели парижские события 22–26 июня 1848 г., когда рабочие подняли восстание, которое вскоре было подавлено правительственными войсками. После этих дней, симпатизировавший рабочим и крайне левым лидерам Герцен, как «социалистический Иеремия» (цит. по: [44, c. 554]), оплакивал неудачи революции и закат европейской цивилизации. Но в отличие от ветхозаветного пророка Герцен свои надежды на спасение возлагал не на Божью милость, а на силу сопротивления в гражданской войне и иноземное вмешательство. Он понял, что правительства до последнего будут отстаивать статус-кво силой и что достичь успеха возможно лишь путем насилия и разрушения. «Париж расстреливал без суда… Что выйдет из этой крови? – спрашивал Герцен в статье “После грозы”, – кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, – и это прекрасно, а потому – да здравствует хаос и разрушение! Vive la mort! И да водружится будущее» [32, с. 48].
Наиболее вероятными кандидатами на роль разрушителей старой Франции и всей европейской цивилизации в целом Герцен считал европейский пролетариат и Русскую армию. Он писал своим московским друзьям: «…Дай бог, чтоб русские взяли Париж, – пора окончить эту тупую Европу, пора в ней же расчистить место новому миру. Итак, милости просим!» [27, с. 81].
Эти отчаянные призывы с энтузиазмом воспринял анархист Э. Кёрдеруа (E. Coeurderoy), написавший под влиянием Герцена книгу «Ура!!! Или революция казаков». В ней он приветствовал крушение старого мира, гибнущего под ударами гражданской войны или внешнего вторжения. «Запад не сдастся добровольно! В таком случае, не все ли мне равно, откуда явится и как будет зваться тот народ-меченосец, который при свете факелов погрузит Европу во власть анархии? Не все ли мне равно, будет ли это мой брат в Адаме, во Христе или в Мятеже? Разве война за счастье человечества не есть долг всех наций?» [39]. Книга Кёрдеруа вышла в 1854 г., он отправил ее Герцену, сопроводив письмом. Герцен отвечал доброжелательно, но отметил, что не во всем согласен с автором: на тот момент взгляды его стали куда более умеренными, чем прежде [28; 11, с. 60–65]. Уже в 1849 г. Герцен убедился, что сила не на стороне революционеров и что никакого общего восстания не произойдет, как и не будет никакого вмешательства извне. Герцен наблюдал за тем, как французское правительство все более жестко действует против радикалов, не встречая серьезного сопротивления. Настрой его статей все больше менялся: теперь он осознал, что преимуществами, которые дают право сильного, могут воспользоваться лишь контрреволюционные верхи. В этот период народ представлялся Герцену скорее безропотной жертвой властей, которая, подобно Лаокоону, запечатленному в скульптуре, терпит мучения, насланные на него богиней Афиной: «У меня сжимается сердце при виде того, что происходит вокруг изо дня в день. Это даже не борьба: представь себе растрепанную, пьяную, полуголую женщину, всю в синяках от жестоких побоев своего грубияна-мужа, представь себе, что она даже не протестует, что она терпит это унижение, а тот не унимается, – вот такой Лаокооновой группой выглядит столица Вселенной» [24, с. 273]. Гражданская война, так же как и любая другая война, в чем теперь убедился Герцен, – это «свирепое отвратительное доказательство безумия людского, обобщенный разбой, оправданное убийство, апофеоз насилия…» [19, c. 130].
Эти новые идеи Герцена наиболее полно выразились в статье «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император Римский», которая позже в качестве заключительной главы вошла в его книгу «С того берега». Впервые статья была опубликована 18 марта 1850 г. в газете «Voix du Peuple». Ее появление было вызвано нашумевшей «Речью о ситуации в Европе» известного консерватора Д. Кортеса в законодательном собрании в Мадриде 30 января того же года. В ней он обрисовал угрожающее положение дел в поглощенной революцией Европе. Своей речью он стремился склонить кортесы предоставить кредит правительству Б. Мурильо. Сложившаяся ситуация, утверждал он, требует не только напряжения всех сил европейской католической цивилизации, но и дополнительных финансовых вложений [49].
Кортес пессимистично отзывался о современной Европе, и Герцен был полностью согласен с ним, повторяя его утверждение: «Европа в той форме, в которой она находится теперь, – разрушается» [32, с. 137]. Но если Кортес полагал, что старый порядок можно спасти, призывая к решительным мерам, то Герцен настаивал, что, несмотря на временные успехи реакции, неодолимые силы мировой истории приведут к падению современных государств и торжеству социализма и мешать этому бесполезно и аморально; нельзя «убить ребенка, чтоб прокормить отходящего старика, чтоб возвратить ему на минуту утраченные силы» [32, с. 138]. Современная ситуация напоминала Герцену эпоху поздней Римской империи, а борьба с социализмом – гонения на христианство, которое, вопреки всему, сумело стать доминирующей общественной силой к концу Античности. Европейские консерваторы уподоблялись Герценом императору Юлиану – гонителю христиан, защитнику обреченного старого мира, потерпевшему неудачу.
Кортес выделял два социальных института, чье финансирование нельзя сокращать. Это армия и церковь; спасение старого порядка невозможно без священника и солдата, которые, по словам испанского консерватора, воплощали самоотречение и дисциплину [61, p. 323–324]. Герцен уделил особое внимание этой риторической формуле из речи оппонента. Если о священнике он отзывался как о безвредном «живом мертвеце», то солдат, считал он, таит в себе большую опасность. Герцен сравнивал его с палачом, называя «невинным убийцей, обреченным на злодеяние обществом» [32, с. 139].
Статья была воспринята публикой как радикальный пацифистский манифест: «…Черт знает, какого шума я наделал несколькими строками», – писал сам автор о произведенном эффекте [22, с. 307]. Консервативная газета «La Patrie» потребовала от прокурора республики запретить публикацию статьи из-за нападок на армию и систему правосудия. Однако это лишь подогрело спрос на номер газеты «Voix du Peuple» со статьей Герцена, и весь ее тираж в 40 тыс. экземпляров был распродан [32, с. 142; 62, с. 110; 23, с. 281].
Другим объектом критики Герцена стала концепция «gouvernement fort» (сильного правительства – фр.), ставшая лозунгом консервативных политических сил во Франции в 1848–1849 гг. Противники революции считали, что для законности восстановления и порядка в стране необходимо принимать самые решительные меры: ссылать в заморские территории, сажать в тюрьму, а в иных случаях и казнить. Радикально настроенные политики, на которых были направлены эти меры, активно протестовали против новой политики властей, активно выступали против концепции «сильного правительства», служившей этим мерам оправданием [54]. Среди них был и Герцен, который писал: «Gouvernement fort … не нормальное состояние, не status quo, а кризис, переворот, осадное положение, suspension des droits de l'homme (отмена прав человека – фр.] 93 года» [32, с. 147]. Эти слова были навеяны речью П.Н. Жерди (P.N. Gerdy) в Палате депутатов. Ее главный смысл заключался в том, что «сильное правительство», прибегнувшее к террору против собственного народа, породит лишь хаос и анархию в стране, но никак не мир и порядок [там же]. Герцен разочаровался в террористических методах. Якобинский террор из символа народной мести, каким он представлялся ему ранее, стал теперь в глазах Герцена примером государственного произвола и насилия.
То, чего опасался Герцен, произошло: революции 1848–1849 гг. завершились, и консервативные правительства вышли из нее победителями. Герцен больше не верил в поступательное социально-политическое развитие Запада и с начала 1850-х годов все больше внимания стал уделять России. Он был воодушевлен перспективой реформ в стране, намеревался выразить поддержку ее властям и умерить собственные политические требования. Казалось, Герцен был уже готов сделать выбор между радикализмом и умеренной политической программой. И тем не менее его как «неисправимого социалиста» [26, с. 273] никогда не оставляло в полной мере убеждение, что применение насилия в некоторых случаях неизбежно. Вместе с тем он осознавал, что радикализм образца 1848 г. в новой ситуации был уже неуместен.
Однако в определенных кругах Герцена продолжили воспринимать как революционера. Его обвиняли в безответственности и жестокости, что стало общим местом в статьях и письмах консервативно мыслящих. Так, Шедо-Ферроти (барон Ф.И. Фиркс) писал, что Герцен проповедует «междоусобную войну» [50, с. 36], сходные оценки встречаем у Б.Н. Чичерина [61], Ю.Н. Голицына [59, с. 486; 19], И.С. Аксакова [35, с. 2]. Руководствуясь теми же соображениями, П.А. Вяземский иронизировал по поводу «военного» псевдонима «Искандер», который Герцен взял в честь Александра Македонского [5].
В ответ на подобные обвинения Герцен требовал указать, где и когда они с Огаревым «проповедовали убийство» [6]. Действительно, он избегал в своих статьях в «Колоколе» и в «Полярной звезде» утверждений об оправданности насилия в политике. Он признавал, что насилие в революции приводит к смерти, страданию и разрушениям [11, с. 222]. Он также писал, что сам с отвращением относится «к крови» [20, с. 239, 241; 29, с. 191] и что по мере развития цивилизации насильственные меры становятся все менее эффективными [32, с. 180]. Однако может наступить момент, когда революция будет неизбежной и оправданной. Герцен был убежден, что ее ожидаемый итог – политическая свобода и справедливое социальное устройство («земля и воля») – может иметь в некоторых случаях столь высокую цену, что может оправдать значительные издержки. «Страшна и пугачевщина, но, скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено», – писал он [34, с. 84].
Его газета «Колокол» еще осенью 1858 г. поместила два «письма» из России, в которых в той или иной форме содержались намеки на желательность революции в стране. В обоих письмах Герцен обвинялся в излишней мягкости и вере в способность власти к реформам [46; 52; 4]. Издатель не счел нужным отвечать по существу, ограничившись указанием на то, что его прежние «радикальные» взгляды, по сути, остаются без изменений [6]. Обращаясь к консервативным критикам, он писал, что не является автором этих писем и «есть значительная разница между помещением корреспонденции и собственной статьей» [17].
В 1860 г. в «Колоколе» вышло сходное с предыдущими по направлению, но гораздо более радикальное «Письмо из провинции», подписанное «Русский человек». Вопрос о его авторстве вызвал разногласия среди исследователей. М.К. Лемке утверждал, что автором «письма» был Н.Г. Чернышевский [42, с. 167]. Он основывался на ценных, но ныне недоступных источниках – воспоминаниях, а также на устных свидетельствах и личном архиве А.А. Слепцова, организатора первой «Земли и воли», которому якобы Чернышевский читал свою статью перед отправкой в Лондон.
Б.Н. Козьмин убедительно показал, что Чернышевский не мог быть автором «письма» [40]. Другим кандидатом на авторство был Н.А. Добролюбов, в его пользу говорят характерные политические идеи и общий настрой статьи. Можно согласиться и с Е.Н. Дрыжаковой, что наиболее вероятным автором является близкий по взглядам к Добролюбову Н.А. Серно-Соловьевич, «очень интересный гость из Петербурга» [25, с. 22], посетивший Герцена в Лондоне незадолго до публикации «письма» [39, с. 124]. Вне зависимости от того, кто написал «письмо», можно утверждать, что в нем нашли выражение взгляды представителей круга радикально настроенной столичной молодежи.
«Русский человек» в своем послании к редактору рассуждает о готовящейся отмене крепостного права и в очередной раз критикует веру Герцена в Александра II и его правительство. В России, пишет он, набирает силу тяжелый и затяжной конфликт между крестьянством и другими сословиями. Этот конфликт может быть разрешен только силовыми методами. По мнению «Русского человека», другого выхода нет, так как крепостные, испытывающие тяжкий гнет со стороны помещиков, находятся в отчаянном положении, а образованная публика не в состоянии помочь простому народу, так как слишком свысока к нему относится и не осознает его проблем. Царская власть, которая должна проводить реформы, не желает и не способна осуществить преобразования в интересах народа. Насильственный переворот представлялся автору наиболее целесообразным, так как он может обеспечить прочные основания для будущего порядка, а любые права, предоставленные императором, не гарантированы, ибо «то, что дается, то легко и отнимается». Напротив, права, завоеванные в ходе революции, могут служить прочной основой нового политического и социального порядка [51, с. 533]. В настоящее время, пишет «Русский человек», крестьяне от отчаянья готовы «взяться за топоры» [51, с. 535], и он приветствует эту решимость: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! (…) Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш Колокол благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь!» [там же].
Как известно из переписки Герцена, он высоко ценил автора «Письма из провинции» и ставил его смелость и деятельный характер в пример собственному сыну [20, с. 25]. Публичная позиция Герцена, впрочем, была более критической. Статья была радикальной даже по меркам «Колокола», и, чтобы смягчить ее смысл, Герцен снабдил ее редакторским предисловием, в котором оспорил самые резкие тезисы автора. Он признавал автора единомышленником, пусть и представляющим одно «из крайних выражений [их общего]… направления» [18, с. 239]. Отвечая «Русскому человеку», Герцен писал, что насилие является самым крайним средством, «ultima ratio» [там же]. Следует сказать, что это не противоречило взглядам и его оппонента, который также считал насилие крайней мерой, но в отличие от Герцена утверждал, что других возможностей для улучшения положения дел в России не осталось. Анализируя на примере присланной статьи причины распространения идеи политического насилия, Герцен писал, что чаще всего оно – следствие невозможности уничтожить несправедливые и устаревшие социальные и политические институты иным способом. В других случаях насильственные действия порождают чувство гнева и стремление угнетенных отомстить бывшим угнетателям и не имеют никакой практической цели. «Кровавые перевороты», – отмечал Герцен, – «…бывают иногда необходимы, ими отделывается общественный организм от старых болезней, от удушающих наростов; они бывают роковым последствием вековых ошибок, наконец, делом мести, племенной ненависти…» [18, с. 240].
Герцен считал, что в России нет социально-психологических и политических условий для немедленного восстания, к которому призывал «Русский человек», однако он не исключал их формирования в будущем. Предсказывая революцию, Герцен избегал призывов к насилию. Он подчеркивал отсутствие у русских революционеров единства целей и четкой организации и предупреждал, что затеянная ими революция будет обречена. Необходимо, по его словам, разработать конкретную программу и создать четко выстроенную организацию [18, с. 242]. Герцен не считал себя вправе определять за каждого, является ли нравственным использование насилия в том или ином случае. Он оставлял выбор читателю: «Тогда рассуждать нельзя, тут каждый должен поступать, как его совесть велит, как его любовь велит… но, наверное, и тогда не из Лондона звать к топорам» [18, с. 243].
После публикации ответа редакции вопрос, однако, оказался далеко не исчерпан. Прокламация «Молодая Россия», появившаяся в апреле 1862 г., заставила Герцена снова вернуться к теме допустимости насилия. Прокламация произвела большое впечатление на публику не только своим воинственным тоном, но и временем своего появления – незадолго до петербургских пожаров, что вызвало подозрение у некоторых, посчитавших это делом рук поджигателей, вдохновившихся «Молодой Россией» [41].
Автор прокламации – бывший студент П.Н. Заичневский, называя Герцена своим учителем, теперь с сожалением отмечал, что тот отошел от своих ранних радикальных идей и его «революционный задор» угас. Заичневскому были близки взгляды прежнего «Герцена, приветствовавшего революцию, Герцена, упрекавшего Ледрю-Роллена и Луи Блана в непоследовательности, в том, что они, имея возможности, не захватили диктатуры в свои руки, не повели Францию по пути кровавых реформ для доставления торжества рабочим» [45, с. 63]. Автор объяснял изменение взглядов Герцена неудачным опытом 1848–1849 гг., которому он придавал якобы неоправданно большое значение.
Заичневский считал, что революционеры 1848 г. проиграли из-за своей нерешительности, он был уверен, что ошибок предшественников «Молодая Россия» повторять не будет. Автор прокламации не считал насильственные меры необходимыми и надеялся, что они не понадобятся, но признавал, что насилие потребуется, если революционерам будет оказано большое сопротивление. «В этом последнем случае с полною верою в себя и в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: “В топоры” и тогда… тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против; кто против, тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми способами» [45, с. 68].
В своей ответной статье «Молодая и старая Россия» Герцен заметил, что если он и «отстал» в своих убеждениях от авторов прокламации, то «сердцем» он вместе с ними [15, с. 204]. Защищаясь от критики «Молодой России», Герцен писал, что был неверно понят: он не исключал необходимости в насильственных переворотах, но лишь утратил «любовь к ним» [11, с. 221]. Заключительные слова этой статьи содержат его страстный призыв: «…Будьте готовы. Придет роковой день, станьте грудью, лягте костьми, но не зовите его как желанный день» [11, с. 225].
Иногда, когда Герцен писал о защите прав и интересов «народа», сложная логика определения цены и последствий протеста отступала на второй план. Так, Герцен одобрительно отозвался о крестьянине, который «убил своего помещика, вступившись за честь своей невесты… И превосходно сделал» – таков был вердикт Герцена [33]. Эти слова цитировал Ленин, чтобы доказать, что издатель «Колокола» был не либералом, но настоящим революционером [43, с. 260]. Ситуация, описанная в заметке, буквально повторяет сюжет знакового для Герцена «Вильгельма Телля». У Шиллера Телль оправдывает и спасает лесничего Баумгартера, который зарубил топором австрийского наместника, пытавшегося изнасиловать его жену – метафорический смысл самозащиты швейцарских кантонов от власти Священной Римской империи [58, с. 8–17]. На Герцена могло оказать влияние и «Путешествие из Петербурга в Москву», где А.Н. Радищев оправдывает сходный поступок своего персонажа [53, с. 271–276]. Можно предположить, что значение высказываний Герцена, так же как и в двух других случаях, выходило за рамки конкретных примеров. Когда, по убеждению Герцена, под угрозой оказывается привычный уклад жизни, и тем более сама жизнь, весь «народ» приобретает право защищаться любыми возможными способами. В период окончательного разочарования Герцена в крестьянской реформе, который пришелся на 1861–1862 гг., «Колокол» публиковал материалы в защиту идеи крестьянского восстания против властей и помещиков. Оно должно было стать новой «народной войной», такой же, как в 1812 г., когда простые люди защищали себя и свою землю от посягательств внешнего врага [31, с. 225].
Начавшееся в 1863 г. восстание в Польше Герцен тоже расценил как акт самозащиты. Его подняла законно стремящаяся к независимости польская нация вследствие агрессии со стороны Российской империи. Герцен описывал столкновение русских войск и восставших поляков как экзистенциальную борьбу за жизнь. Любые средства, которые могли в ней выбрать поляки, считал он, были оправданны [30, с. 41]. Однако читающая публика в России в своем большинстве разделяла совсем другие взгляды. Ее кумиром стал виленский губернатор М.Н. Муравьев – генерал от инфантерии, с особой жестокостью подавивший восстание. Герцен называл Муравьева «вешателем» и «палачом» [9, с. 260], казнящим «людей, лошадей, волов, усадьбы, поля и леса» [7, с. 222]. Поражение польского восстания привело к новому пересмотру Герценом своих взглядов. Польское дело заставило его забыть, что политические революции бесполезны и что теперь наступила эпоха социальных переворотов, которые в силу своей природы должны происходить мирно [12, c. 58].
Самым значительным произведением позднего периода творчества Герцена стали его письма «К старому товарищу», где он выступил с критикой радикальных взглядов «старого товарища» Бакунина, а также Огарева, который в то время с ним сблизился [21, с. 138]. В этих письмах Герцен писал о своем осознании того, что насилие ведет лишь к разрушению и никак не содействует формированию нового. Он утверждал, что потерял веру «в прежние революционные пути» [13, с. 586], но сохранил убежденность в способности социальных переворотов изменить мир к лучшему [18, с. 221]. Причину прежних заблуждений Герцен искал в пережитом им опыте в 1848 г.: «Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси, – звал, даже не очень думая, чем она заменится» [16, с. 586].
В письмах содержится также его оценка современного положения Российской империи. В конце 1860-х годов Герцен считал, что распространение прогрессивных идей и сотрудничество с властями в настоящий момент принесет больше пользы, так как социалистическое движение, несмотря на свои справедливые идеи, слабее правительства, оно лишено «единства убеждений» и «сосредоточенных сил», поэтому проиграет ему в открытом столкновении [13, с. 588]. Но в будущем, если соотношение сил изменится «…надобно в тиши собирать полки и не грозить. Угроза при бессилии вредна», – писал Герцен [13, с. 582].
Позиция Герцена о применении насилия в политике никогда не была однозначной. В его публицистике разных лет можно обнаружить и неоякобинские взгляды и пацифизм, поддержку революции и ее порицание. Однако вышесказанное не означает, что в статьях Герцена речь идет исключительно об инструментарии политической борьбы, его наследие и по сей день сохраняет определенную теоретическую автономность и самодостаточность.
Библиография
1. Базилева З.П. «Колокол» Герцена (1857–1867 гг.). М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1949. 296 с.
2. Белинский В.Г. Письмо В.П. Боткину от 8 сентября 1841 г. // Собрание сочинений: в 9 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 9. С. 478–486.
3. Берлин И. Герцен и Бакунин о свободе личности // История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 85–126.
4. Бушканец Е.Г. О двух «письмах» в редакцию «Колокола» // Литературное наследство. Т. 63. М.: Издательство АН СССР, 1956. С. 662–667.
5. Вяземский П.А. Своим пером тупым и бурным // Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского: в 12 т. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1896. Т. 12. С. 166–167.
6. Герцен А.И. «Le Nord» // Собрание сочинений: в 30 т. Издательство АН СССР, 1960. Т. 19. С. 67.
7. Герцен А.И. Адресоложество // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1959. Т. 17. С. 259–260.
8. Герцен А.И. Былое и думы // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1956. Т. 8. 519 с.
9. Герцен А.И. Былое и думы // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1957. Т. 11. 809 с.
10. Герцен А.И. Дневник // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1954. Т. 2. С. 199–413.
11. Герцен А.И. Журналисты и террористы // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1959. Т. 16. С. 220–226.
12. Герцен А.И. Иркутск и Петербург (5 марта и 4 апреля 1866 г.) // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1960. Т. 19. С. 58–65.
13. Герцен А.И. К старому товарищу // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1960. Т. 20. Кн. 2. С. 575–593.
14. Герцен А.И. Концы и начала // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1959. Т. 16. С. 129–198.
15. Герцен А.И. Молодая и старая Россия // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1959. Т. 16. С. 199–205.
16. Герцен А.И. Нас упрекают. М.: Издательство АН СССР, 1958. Т. 13. С. 361–363.
17. Герцен А.И. Опять объяснение // Собрание сочинений: в 30 т. М.: Издательство АН СССР, 1958. Т. 14. С. 61.