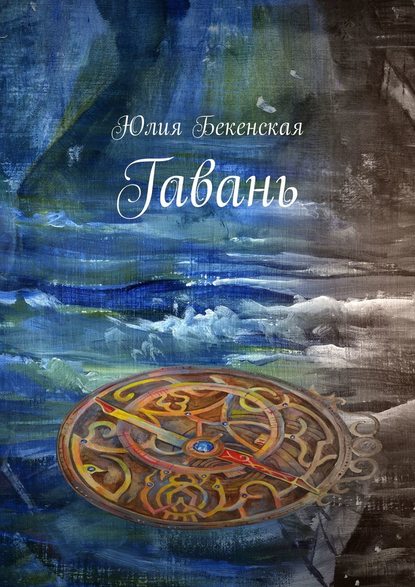По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гавань
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И протянул пухлую руку. Взгляд был пустой, ухмылка – наглая. Головошея и прочее тулово – округлое, как у пингвина. Ильич читал его биографию, как по нотам.
…Увидел зимнее утро. Как крепкого краснощекого школьника тащит в школу бабушка, груженная портфелем, мешком со сменкой и лыжами для физкультуры. Семенит юрким буксиром, тянет баржу, а баржа, то есть любимый внучек, басовито ревет, огрызаясь, и толстые щеки горят, как снегириная грудь. Оскальзывается в валенках с калошами, тормозит у ледяных луж. Бабушка ждет: пусть порезвится маленький. А в школе, размотав с внучоночка шарф, снявши с него заячью ушанку и теплую, добытую по блату дубленку, проводит кровинушку до гардероба и долго будет махать ему вслед.
В школе он будет огребать поджопники по крепкой заднице, позже пыхтеть, давя массой и зажимая обидчика в угол. Еще позже – зажимать в углу тихих девочек, тех, кто не может дать сдачи, и чувствовать себя невозможно крутым.
Звать его будут «жиртрест», «мясо» и «красный». Он научится ставить подножки, выворачивать чужие портфели и орать на училок басом: «А че сразу я?!».
Школа выпустит его с троечным аттестатом и перекрестится. А он выйдет в большой и прекрасный мир и получится… это.
– Дай, – повторило это, окатив Ильича пивным духом.
Дело было швах. И численный перевес на чужой стороне: за краснорожим маячили двое.
В коробке не было ничего ценного. Но то была его, Ильича, коробка. И он тащил ее от самого дома.
В третий раз говорить не стали – пихнули в лоб пятерней, и Ильич повалился на спину. Коробка прикрыла его, как прижизненное надгробие.
– Вот жук навозный, – заржал жирный. – Сам лежит, а коробку не отпускает. Давай-ка, дедуля, посмотрим, что у тебя…
– Сссуки, – прошипел Ильич, – совести нету!..
– Еще лается, – сказал второй и пнул его в бок.
Коробка, подхваченная толстым, взлетела наверх.
Ильич, скрючившись, перекатился на бок.
В рот набился песок, «ухо» – слуховой аппарат – захрипело и отключилось.
– Ну-ка, что там дед тащит?..
Толстый вытащил нож и взрезал картонное брюхо, наплевав на веревки, которые можно было аккуратно развязать.
Даже не подумали убежать: поверженный пенсионер не представлял угрозы.
Троица заинтересованно нагнулась над коробкой.
И тут…
Краснорожий схватился за голову. Морда сделалась совсем багровой, как будто вот-вот лопнет. Второй свалился на колени, а третий согнулся пополам – его вырвало.
Если бы Ильич не знал, что в коробке лежит продуктовый набор, то подумал бы, что там – нервно-паралитический газ или что-то совсем безобразное, вроде расчлененного тела.
Почти ослепший от песка, налезшего в глаза, он нетвердо поднялся.
Эти глянули него, как на привидение, и поползли в кусты.
Ни черта Ильич не понял, ничего не слышал, но знал одно: убираться отсюда надо как можно скорее.
Дошкандыбал до коробки, глянул опасливо. Все на месте: тут тебе и кофе, и печенье буржуйское. Увидел, как кусты ходуном ходят: то ли выворачивало отморозков там, то ли припадок случился.
Ничего не понял Ильич в безухой своей тишине.
Присел на камень, дух перевести.
И услышал.
Да не ухом – ухо-то в кармане лежало, песком забитое.
Как бы душой услышал, кому сказать – решили бы, что дед спятил.
Будто бы плач: тихий, тоскливый.
Будто бы от воды.
И никого вокруг. Только камыш качается да чайка под небом летит.
А плач не стихает – чуть не слезы на глаза наворачиваются.
Неизвестно зачем достал из коробки печенье буржуйское, да на камень у воды положил. Что бы там ни плакало, что бы ни мерещилось, долг – он платежом красен.
Взял коробку и потащился к Боцману на рандеву. На барже ребята рукастые, может, и «ухо» починят.
Прочапал несколько шагов по песку – и слышит, плач будто и прекратился. Словно толкнул кто – обернулся Ильич.
Все по-прежнему: вода рябит, чайка летит.
А печенья на камне и нету.
***
Боцман шуровал на камбузе. Николай наблюдал за ним из кубрика через раздаточное окошко.
На камбузе гремело и лязгало. В царстве Ядвиги Боцман был медведем в посудной лавке: что-то ронял, чем-то шпарился, что-то рассыпал. Чайник, и тот не сдавался без боя – плевался, шипел и свистел.
Звуки и сдержанный мат сообщали о ходе сражения. Хорошо, Ядвига не слышит – у себя сидит. И Кокос с ней, слава богу, иначе Боцман ему уши уже оттоптал бы со своей бегемотовой грацией.
Наконец, в окошке показалась боцманские лапы с двумя кружками: алюминиевой – скромной такой, на пол-литра, и маленькой эмалированной с мухомором, словно похищенной из младшей группы детского сада. В кружках плескалась черная жижа.
Боцман возник в кубрике, и тут же в помещении стало тесно. Плюхнулся на диванчик, от чего Коля на своей стороне приподнялся на пару вершков, водрузил кружки на стол. Коле, естественно, достались мухоморы, а Боцман стал сыпать в свою рафинад: раз кусок, два, три… на восьмом Николай сбился со счета.
Пить такую патоку – это ж зубы сведет. Коля вообще без сахара пьет. Но тут уж у каждого свой вкус, как говорится.
– Ща! – сказал Боцман, – у меня тут, – и метнулся к куртке, висевшей на гвозде возле двери.
Зарылся в широкие карманы и извлек банку. На стол нес ее, как хоругвь, торжественно и вдохновенно. Водрузил перед собой и расплылся в счастливой улыбке:
– Тетушка Борджиа подогнала. Уважает!..