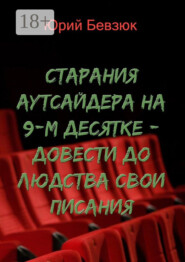По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневник школьника 56—57 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отца еще долго вспоминали в Рыбном порту по работе, он стремился верно служить стране, одной женщине, ее детям – потомству, в конечном счете. Это были черты величия – но вот описание мелочности, сравнимой по неразумию с той самой корыстью Тараса Бульбы, из-за которой он лишился жизни, возвратившись при погоне подбирать утерянную люльку, – дешевенькую курительную трубку из древесного корневища
Вот случай, когда ничтожный повод имеет тяжелые, далеко идущие последствия. Таковым для меня в конце 5-го – начале 6-го класса явилась книга Натана Рыбака «Переяславская Рада». Отец, начавший ревностно собирать библиотечку, эту пухлую пропагандистскую книгу очень ценил. И надо было мне отдать ее красивой однокласснице Алле Блиновой (отчасти похожей на блондинку, с которой возвращался домой после неудачной попытки побега). Она была и старше года на два, тогда после войны много детей пошли в школу переростками из-за оккупации, да и увлекались необоснованным оставлением на второй год (чего не избежал и Ельцин, сидевший в школе 12 лет) – Великая эпоха с мелочностью – по причине бедности – сочеталась, как уже сказано. Не помню, с разрешения отца дал Алле ту книгу или без оного, но отец вскоре о ней вспомнил …А у меня не хватало духу затребовать книгу назад – я робел расцветавшей женственности Аллы, считал мелочностью востребовать книгу – у какой-нибудь ровесницы, может быть, и спросил: сказывалась неблагоприятность неравенства возрастов (через год скажется еще больше моим конфликтом с переростками Левченко и Кравченко, но уже не с такими удручающими последствиями – в конце концов, я тогда, познав интриганство и предательство, морально победил). А Натан Рыбак мне дорого обошелся. Отец каждый день, только придет с работы, с порога: «Принес книгу?» А я все стыжусь книгу затребовать. Нашла коса на камень! Тогда впервые проявилась вся моего характера непреклонность и вся мелочность отцовского, повлекшая драматические последствия уже вскоре. Наконец, то ли он погнал, то ли я сам пошел на Поселковую, где в обшарпанных, но многочисленных бараках почти под Змеинкой жила Алла Блинова (из-за книги я ее фамилию в числе немногих одноклассников на всю жизньзапомнил!) Убогость тех бараков бросилась мне в глаза даже по сравнению с двумя другими, ближайшими скоплениями бараков, мимо которых приходилось часто ходить, – на Кипарисовой и Запорожской. Но зайти к Блиновой я и там не решился, подумав, что книги там просто может и не быть, отдала кому-то в свою очередь, и я, совсем понапрасну, унижусь перед Аллой и кто там еще будет в комнате. Удивительно, что эта простая мысль не пришла к отцу, – куда уж там ему было понять, что у меня уже появилась стыдливость перед противоположным полом, боязнь проявить мелочность, скаредность. В годы его детства таких ситуаций и не могло быть – книг попросту не было! Ну нет книги – не доводить же 6-классника до невроза!
И вскоре появился невроз Нечто вроде частичного аутизма: не мог начать «отвечать» урок, если фраза начиналась с твердой согласной – те, дэ-до, пэ, рэ и т.д., – это произошло в начале 6-го класса или немного погодя, к ноябрю, как раз в разгар травли меня отцом из-за пресловутой книги. Жизнь моя школьная сильно осложнилась, мне приходилось заранее придумывать начало фразы с гласной – о, а, и, е, э – но все равно при заминке опять эти п-п-п-проклятые т-т-твердые согласные и совсем замолкаю А к шестому классу мне уже было что сказать, начало честолюбие пробуждаться в связи с половым созреванием, и надо же! В обычном разговоре, в спокойных, непринужденных условиях никакого заикания не было. Только на уроках. Может быть, сказалось сотрясение мозга почти за год, перед новым, 52-м годом? Тогда мы в полутьме коридора (в 3-ю смену) носились по коридору на переменке, столкнулись, – и я отлетел на радиатор парового отопления, ударился переносицей, потерял «сознание», кое-как довели до парты, там очнулся, но, идя домой, чувствовал тошноту и рвоту. Но могла ли та травма сказаться заиканием чуть не через год? Вряд ли, почти год прошел – скорее взросление, в неблагоприятных обстоятельствах долгой удрученности, на фоне морального террора в семье. Встревоженный отец отвел меня в поликлинику к невропатологу, красивой женщине (похожей на Александру Коллонтай), участливо меня расспросила, сказав: «А ты пессимист!» – «А что это такое?» – «Ну, видишь все в черном цвете»…
Нет добра без худа – в порядке компенсации я приналег на задачки, к новому году искрой проскочило умение их решать сначала по геометрии, потом и по другим предметам, требующим применение математики. Лестно решить одному из класса задачку, это давало уверенность и «отвечать», кроме того, во втором полугодии вообще происходит сближение с учителями, непринужденностъпоявляется Да и готовиться поневоле пришлось к «ответам» лучше, чтобы не запинаться.
А с началом весны 53-го произошло событие чрезвычайное: 5 марта умер Сталин! Помню сплошной гуд по Чуркину – кроме заводов, будивших на работу, в обед, и с него, после работы, включили, наверное, мощные сирены ПВО. Скорби особой не припомню и печали, но смерть Сталина означала вскоре массовый прием в комсомол всех старше 14-ти лет, и тут акции мои поднялись: я разъяснял всем, кто спросит, где какая страна, кто там премьер-министр или президент, какие партии, какая форма правления. А принималось много, только в нашем 6-м (а их было до пяти-шести!) не меньше десятка, подал заявление и я, хотя и не хватало до 14-ти более полугода. Какое это было священнодействие – заполнение «анкеты вступающего в ВЛКСМ»! подумать только – приобщаешься к миру взрослых, к славной организации, в которой состояли Павел Корчагин (Николай Островский), молодогвардейцы, многие прочие герои!
…Большая толпа теснилась перед дверью, где принимали в комсомол на школьном комитете, все, особенно девчонки, страшно волновались и наперебой спрашивали меня по уставу, политике, международному положению. Я мог ответить на любой вопрос, задававшийся на комитете. То же повторилось и в еще большей тесноте перед дверью бюро райкома комсомола. Я уже считал себя членом комсомола, бойко ответив на заданные мне вопросы, но меня-то как раз не приняли. Я ответил на все вопросы, но кто-то из членов бюро спросил: «Юра, а в каком месяце ты родился?» Пришлось сказать правду, и меня не приняли – не хватало возраста слишком много, более полугода. Не понять сегодня глубину моего отчаяния, не передать словами! Подобного не было ни до, ни после. С горя я накупил по копейке полные карманы коробков со спичками, сковыривал серку с их головок в дуло «поджиги», трамбовал, потом газетный пыж, кусочек свинца сверху – и раз за разом бухал, целясь в консервную банку, уединившись в овражек, впадавший в основной чуркинский распадок слева, если вниз со стороны улицы Олега Кошевого, где сейчас шоссе по Калинина взбегает на взлобок Окатовой площади. Через лет 6 на месте того овражка, уже засыпанного, была как раз времянка и наш огород – большой шлаколитой дом стоял на твердом мыску между овражками, срезанном бульдозером.
В комсомол меня не приняли, затем последовало «боевое лето 53-го», уже неоднократно описанное, в 7-й класс я пошел как-то вдруг выросшим, раздавшемся в плечах, окрепшим – меньше чем за год я физически превзошел своих однолеток, но в классе было до пяти переростков годами тремя-четырьмя старше, то есть в возрасте, когда Аркадий Голиков (Гайдар) уже полком командовал Первым учеником с 6-го класса считался Левченко Павлик, коему было лет уже 17. На родительском собрании классная как-то сказала, а отец потом рассказал «Паша Левченко такой аккуратист!» (с тех пор у меня к аккуратности определенное презрение, хотя, конечно, в том нет плохого, напротив). В 6-м классе ему еще не трудно было первенствовать, тем более что где-то на западе уже прошел 6-ой класс, но не успел сдать экзамены. Но уже к концу 6-го я стал поджимать его, а в 7-м уже явно оттеснил на второе место по всем предметам, за исключением скучной алгебры, по которой первенствовал тоже не Паша, а Кочетков, на полгода моложе меня и ростом не вышедший, но бойкий, сын капитана 1-го ранга. Этот Кочетков вскоре, то ли перед новым годом в декабре, но не позже января 54-го проявил и реакцию, и наблюдательность, и высокие моральные качества – он один выступил в мою защиту, когда я подвергся неожиданной (для себя – Кочетков кое-что заметил) обструкции вплоть до организации избиения со стороны великовозрастных. Нелады мои с ними начались еще с сентября – я стремился поприсутствовать на комсомольских собраниях, считая к тому же этих переростков недостойными быть в комсомоле из-за мещанской склонности к пересудам, сплетням и резонно полагая, что на их собраниях особых секретов быть не может. Они ж меня гнали вместо того, чтобы приветствовать мою тяготу к комсомолу, воспринимая комсомол лишь как средство выделиться, поважничать перед одноклассниками, -то есть противоположно его демократическому духу организатора молодежи. Я уже тогда все это понимал и негодовал, видя их полнейшее равнодушие и непонимание этой роли комсомола. Зато малейшее проявление полового их сильно интересовали. …В первой своей попытке воспоминаний я об этом последнем даже не упомянул, считая малосущественным. От того мое тогдашнее описание попытки избиения меня переростками неполно, к тому же выпадает важный персонаж, притом относящийся к потом так и не встреченному прогрессивному женскому типу, – и, главное, отношение той уже девушки ко мне меня тогдашнего характеризует, – что совсем было упущено в 1956 году, хотя прошло всего менее трех лет… Это пример того, что кое-что важное вблизи не видится – только по прошествии лет многих…
К началу 7-го к «старому» составу класса прилилась свежая и я бы сказал, прогрессивная струя – это упомянутый Кочетков, для своего возраста даже маленький но развитый – умственно и морально, и девушка, может быть слишком даже развившаяся. Она могла быть и моих лет, и не более года старше, тоже из семьи, наверное, военных, которых судьбина через год погнала дальше, возможно, ближе к центрам страны. Забыл и имя ее и фамилию – польская на «…ская» и весьма редкая, что-то вроде «Целиковская», но не так, еще откровеннее – не могу вспомнить, хоть убей*. Уже фамилия ее редкая и странная вызвала усмешки вышеупомянутых переростков, но еще более ее, как бы поточнее сказать, слишком нескрываемая влюбленность в меня чуть ли не с первых чисел сентября. Я был совершенно не готов к этому вдруг свалившемуся на меня предпочтению почти уже развившейся девушки. Она была даже симпатична, но не совсем в моем тогдашнем вкусе – позднее, возможно, признал бы ее даже красивой, во всяком случае, оригинальны были тонкие черты ее треугольной формы, с высоким и широким лбом, лица каштановолосой шатенки со светло-карими глазами, – за всю последующую жизнь не встретил более женщину или девушку такого типа, еще более редкого чем тот, к коему относилась моя вторая (и последняя) жена Людмила – на нее похожих я дважды встретил в 90-е, а уж способность к типизации женщин у меня развилась!
*Пучкова! Вспомнил с полгода назад, наткнувшись на эту фамилию в какой-то книге
Были еще подобные влюбленности в меня: в 21 Тани Румянцевой, которая будет описана, в 65—66 аж двух девушек из студенческой группы на истфаке ДВГУ, о коих упомяну, – те уже вполне могли обрести реальность, если бы отвечали моим предпочтениям. Так что свое счастье я упустил – или оно уплыло! – слишком рано, когда не могло еще осуществиться
Я был, словом, не столько польщен, сколько озадачен. Девочка почему-то сильно влюбилась в меня, стремилась сесть за одну парту, просила другую девочку пересесть, льнула ко мне на переменах, совершенно не умея скрыть своих чувств, абсолютно безразличная к пересудам. А я по отсутствию опыта и отвлекаемый пробудившимся честолюбием, совершенно не мог ее редкое чувство оценить. И качества! Конечно, там играли гены – в той девочке, она чувствовала, возможно, что уже не встретит подобного мне, хотя моя наружность к оригинальным не относится, разве тогда уже рост и сила, да определенная смазливость, которая у девушки тяги не могла вызвать …она учуяла, возможно, что-то во мне нечто необычное
Я не только не мог тогда, будучи совершенным «телком», оценить свалившееся на меня неожиданное счастье, но даже смущался им, тем более что великовозрастные Павлик Левченко и сверстница его Кравченко, угловатая некрасивая девица с бельмом на одном глазу, высмеивали всячески увлечённость девушки мною. Их фамилии запомнил, а любившей меня не помню!
Мне мало утешения, что и она, возможно, не встретила потом мне подобного…
И вот к декабрю (черновик писался 4 года назад, так что примем декабрь) дошло до того, что против меня составился заговор, о котором никак не подозревал… Мы ходили во вторую смену, темнеет в декабре рано, на последних уроках включали свет. Конечно, этим баловались, выключали внезапно, и вот как-то раз сразу вслед за выключением света, как закончился урок, я, еще сидевший за партой, ощутил тяжелый в затылок удар – так мог меня наградить только Максим (Максименко), годом всего старше меня, но кряжистее, более массивной комплекции, вечный обитатель «Камчатки», последних то есть парт. Свет тут же включился, и меня еще кто-то слегкапо плечу ударил – только прикоснулся едва – этого я успел увидать: Гена Тарасенко, который был со мной на ноге приятельской …я несколько раз у него на дому бывал, – на северном, к Мальцевской, склоне Двухгорбовой, выше шоссе нынешнего Гена был парень покладистый, на два с небольшим года старше меня, учился неважно, я помогал ему решать задачи. У него было бельмо на одном глазу, был он высок, кудлат и похож в моем представлении на Алексея Пешкова (писателя Максима Горького) в молодости Он тоже – из-за своего роста – был вечный обитатель «Камчатки», только на крайнем от двери ряде, а крепко приложившийся к моему затылку Максим (я еще успел инстинктивно подать вперед голову, сработала моментальная реакция) сидел на среднем ряде. В крайнем от окон ряде на последней парте сидела «одноглазая» (тоже с бельмом) великовозрастная девица Кравченко, на первой парте того же ряда, прямо у учительского стола, сидел столь же великовозрастный (17 лет!) Павлик Левченко, заслоняя от учителя сидящих за ним на четыре года младше.
Как только свет включился, маленький Кочетков закричал от двери:
«Это Левченко подстроил!» Он, видимо, заметил, как тот шушукался с экзекуторами, и не побоялся крикнуть, причем с негодованием – он ко мне не слишком-то льнул, даже конкурент я был ему по алгебре: нисколько не убоялся тех дядей, из которых Максим был тяжелее его вдвое! К этому амбалу Максименко у меня не возникло никаких из-за его тупости враждебных чувств, Гену Тарасенко я сразу простил, понимая его несамостоятельность (у меня тогда и мысли не возникло, что и в Гене, хотя он пользовался моей помощью, мог быть мотив зависти и, главное, что мне – «пацану» – было выказано половое предпочтение; кстати, не «положил» это и на Левченко, когда писал в 56 свои первые воспоминания), – еще менее могло мне тогда придти в голову, что и Максима и Тараса Левченко мог попросту подкупить? Словом, малой ценой всего лишь одного, хота и увесистого удара по затылку, не повлекшего никаких последствий, я получил ранний опыт интриганства по отношению ко мне, наемничества со стороны Максима, предательства со стороны Тараса – и бескорыстное проявление благородства маленького Кочеткова, имени которого даже не запомнил. Ошеломленный ударом, я в числе последних из класса покинул в тот вечер школу, а на следующий день негодование против Левченко помешало расспросить Кочеткова подробности подстрекательства великовозрастного Левченко против меня. Очевидно, он сам выключил свет, сразу Максим ударил меня – и сразу они смылись, а Кочетков, сидевший на первой парте среднего ряда, встал-вскочил раньше меня и увидел Павлика у выключателя – и немедленно разоблачил его. Тарас же «прикоснулся» ко мне уже при включенном свете, и я видел его, но сразу понял «формальность» его прикосновения. «Мстить» Максиму я и не думал, хотя к тому времени имел уже опыт успешных ударов – никто ведь из шпаны летом прошедшим не устоял! Но я уже чувствовал, что такому амбалу нужен особо сильный удар, а упадет – может разбиться насмерть. Я уже после осеннего удара по Карасю – не со всей силы, кстати, – уже познал силу своего кулака (об этом, кажется, в воспоминаниях 56-го года распространяюсь) … Я не то что подумал, а чувствовал, что с Максимом одним ударом может не ограничиться и сам мог пострадать, словом, не пошел на эксцесс, да это было бы ниже моего достоинства. А Павлику спустить я не мог. В полдень следующего дня я подскочил к нему в толпе собравшихся перед входом в школу – там была узкая, шириной метров с 8, бровка ровная между школьным крыльцом (которого не запомнил, как ни странно и широкой лестницей, выложенной из песчаникового дикого камня, спускавшейся на площадку пошире, где играли и в футбол, а в глухом конце была стенка из бревен, подпиравшая склон, – на тех бревнах вывешивались мишени, и десятиклассники со ста метров стреляли по ним из малокалиберок, а мы, младшеклассники, потом кусочки смятого свинца выковыривали) … Перед этой лестницей вниз из дикого камня я подскочил к Павлику, изобразил пару боксерских выпадов – причем оба раза он трусливо уклонился, будучи женоподобным по натуре, – если б я хотел ударить, он, конечно бы, не успел уклониться Он был тремя годами старше, конечно, сильнее меня, только 14-летнего, и ростом выше среднего, но тонок, узок в плечах. Его лицо красноватое, узковатое, голубоглазое, красивое даже – с изящными чертами, маленьким ртом* (*Как у бюста Цицерона на обложке сборника его речей, изданных в начале 50-х) – побледнело, он растерялся, струсил, – чем я и удовлетворился вполне. Он учился последний год – по окончании семилетки поступил в мореходную школу и стал, как вроде бы слышал, неплохим судовым механиком, но, думаю, при своих способностях интригана, не замедлил вскоре пробраться во власть, – о чем у меня лишь предположения. Возможно, все же, женоподобие в характере помешало.
Между тем, этого противостояния с комсомольцами-переростками могло и не быть. Я уже был тогда комсомольцем! В августе 53-го я был принят заочно в комсомол, по анкете, в которой месяц рождения не указывался – комсомольцем я стал все же за два месяца до 14-ти, но лишь в январе 54-го сообщили, и я, наконец, получил комсомольский билет…
В 7-м классе с самого начала я встретил, наконец, душевное понимание от классной руководительницы – по русскому и литературе – и не запомнил даже ее ни имени-отчества, ни фамилии! Ее женственная, материнская душевность, участливость помогла мне совладать с заиканием и вообще очень благотворно повлияла на меня: она была первым настоящим педагогом, встретившимся мне в школе. Невысокая, соразмерно круглого лица с нежным румянцем, полненькая, она относилась к типу женской красоты, увековеченного русским художником начала 19-го века, автора картины «Девушка за пяльцами», Кипренским. К постоянному нежному румянцу на чрезвычайно бархатистой, нежной кожи лица, прибавить изящно очерченные губы и чуть курносый носик. Она, наконец-то сразу разглядела во мне открытость, способности – только тогда еще не по ее предмету, русскому! – и, главное, она сразу же верно определила во мне главную черту: «Ты натура увлекающаяся!)», не раз говорила она в 7-м и повторяла в 8-м, когда я был избран секретарем комитета комсомола школы, встретившись в коридоре – уже не преподавала у нас, вместо нее была по русскому и литературе Татьяна Ильинична Ткалич, тоже ко мне участливая, но гораздо сдержаннее, и при ней я, получив в начале 8-го за диктант двойку, за неделю подогнал русский, а в 9-м прочно занял первое место и по литературе во всех 9-х классах, – она даже читала дважды мои сочинения в других девятых, но я тогда думал, что это она мой секретарский авторитет набивает, будучи женой второго секретаря райкома партии Андрея Петровича Ткалича, который неоднократно приходил в школу и всегда крепко мне рукуж жал. Об этом я неоднократно писал в своих прежних воспоминаниях, растянувшихся на 20 лет, и теперь мне трудно вспомнить, где что писал: извлекать из дневников прежних лет муторно, а пропустить важное не хочется. Но начатые систематические воспоминания в 2001-м, продолженные перепиской дневника 1956—57 гг., в котором попытка воспоминаний в 56-м здесь «на плаву», правда, осложненные комментариями в квадратных скобках от современности, то есть от осени позапрошлого года. Можно бы вычеркнуть повторения, но оставляю, так как есть возможность сравнить точки зрения и лексикон мой тогдашние и нынешние
Из всех этих наплывающих друг на друга описаний видно, что из отроческого кризиса я стал выходить в 7-м классе, начал же к новому году 53-му еще в 6-м классе, когда еще одна учительница повлияла на меня своей женственностью – математики и тоже, забыв начисто ее инициалы, запомнил навечно образ. Эта особого внимания ко мне не проявляла, но своей женственностью – высокая, стройная, высокогрудая, слегка с веснушками на матовом, тоже округлом лице она так повлияла на меня, что я вдруг стал понимать всю планиметрию – без ее, правда, особых разъяснений, по учебнику разобрался. Ее, впрочем, описал немного больше года назад, извиняюсь за повторения, памятуя, впрочем, что они – «мать ученья», – в данном случае, изучения навыков выхода из кризиса…
Напоследок из той баснословно ранней поры самого конца 1952-го я приберег воспоминания светлые, и при том окрашенные настоящим светом от полной луны. То ли перед новым 53-м годом, то ли в самом начале января. Был бы под рукой вековой справочник стояний луны, то по пребыванию ее в зените можно уточнить. Тогда – и единственный раз! – увлекались в классе новогодними пожеланиями. Получил и я несколько треугольных конвертиков с такими пожеланиями аккуратными девичьими почерками. Самое красивое и теплое было от Грицук Аллы. Отец у нее был китаец, одаривший ее пышными черными волосами и чуть заметной раскосостью черных красивых глаз и, наверное, исключительно нежной бархатистой, нежно-оливковой кожей с постоянным румянцем на щеках. Алла была самая яркая, самая привлекательная в классе, но тоже года на два старше меня. Она сидела на первой парте среднего ряда, к выходу. Я же с краю к проходу на первом ряду от двери на 3-й парте, так что всегда мог видеть несколько сзади эти ее пунцовые щеки, слегка выдающиеся книзу, что только добавляло оригинальности к ее красивому, так сказать, русско-китайскому лицу. Она же никогда не оглядывалась и никак две четверти не проявляла своего расположения ко мне – впрочем, как и я к ней, – только вот это пожелание под новый год. Самое красивое с голубенькими цветочками и виньетками, поэтому пошел проводить ее со спутницей верхом мимо «вышки». Там наверху был по широкой седловине широкий же проход на золотороговскую сторону, на северо-запад. Там где-то посередине Запорожской Алла и жила. Я провожал ее почти до дома, потом немного возвратились назад. Это провожание навсегда врезалась в память. Она была с подругой, не помню уж с кем. Мы учились во вторую смену, был конец декабря (да, ведь с занятий еще шли – в январе каникулы), луна светила ярко, усиленная только что выпавшим неглубоким снегом, как бы удвоявшем лунное свечение. Алла была особенно красива, мы долго стояли, держась за руки, ее маленькие руки были в варежках. Очень неохотно мы расставались, она с подругой пошла на свою Запорожскую, там были самые хулиганские – теперь бы назвали бандитские – улицы, но по бандитизму сразу после войны, в 1946-м, был нанесен такой удар, что даже слово исчезло. Там ее сразу после 7-го класса ухватил хулиган, вскоре севший в тюрьму, и дальнейшая судьба Аллы мне не известна, да и не интересовался. Она была очень умна, сдержанна, в учебе, правда, не блистала, за исключением английского – она произносила лучше всех и получала заслуженные пятерки и похвалы от учительницы
Да, к ее облику припоминается: у нее были ярко-красные губы бантиком, изящные, как бы раздувающиеся ноздри, ну и неописуемые формы расцветающей девушки 15-ти лет с маленькими руками и ступнями. А ресницы! Длинные, черные без всякой сурьмы и как-то дивно загнутые на концах. Словом, в ней соединились все прелести обеих больших рас. Грустно от осознания того, как давно эти прелести цвели… Но вспоминаются слова поэта начала 19 века:
Не говори с печалию «их нет», —
но с благодарностию – «были!»
Жуковский
Те пожелания я долго хранил, как дорогую память о тех «баснословных годах»: /«Я знал ее еще тогда,/ В те баснословные года,/ Как перед утренним лучом,/ Первоначальных лет звезда/ Восходит в небе голубом». Тютчев.
Алла училась со мной год в 7-м классе, но тогда «политика» весной 53-го, «горячее (боевое для меня!) лето 53-го», – противостояние, с приземисто-кряжистым Писанко Генкой вдвоём, – нас звали, только тот знаменитый фильм вышел!: «Дон Кихот и Санчо Пансо», – двухгорбовско-окатовской шпане вдвоём – и тоже «политические» дрязги в начале 7-го класса перешибли у меня половое, и уже не помню внутриклассное, кроме описанных неладов с переростками, а в 8-м классе внутриклассное целиком было вытеснено общешкольным комсомольским и даже районным (городским, краевым). Но те пожелания, те голубенькие цветочки и виньетки на тетрадном в клеточку листочке от Аллы Грицук я долго хранил, как память о самом светлом между людьми. К сожалению, они затерялись то ли еще на крыше шлаколитого дома, то ли уже в Совгавани в 70-е, в ветхом сарайчике…
Вторая половина учебного года 1953-54-го вспоминается слабо, но есть в семейном альбоме фотокарточка всего класса, на ней видно, как я возвышаюсь сбоку над всем классом, видна уже ширина плеч, и бедность – в одной рубахе
Нет, ничего больше не вспоминается, учебный год закончил хорошо, мало было и четверок, имел похвальный лист и книгу в подарок. Отец от меня «отвалил»… Ну а с конца мая 56-го моей памяти надежный помощник дневник, в котором ретроспективой моих первых воспоминаний лето 54-го в колхозе, в котором оказался чистым случаем и взяли меня лишь потому, что был покрупнее и покрепче даже большинства будущих девятиклассников. То есть не спрашивали, какой я окончил класс, просто фамилию-имя записали
То случайное посещение школы в конце июня, когда 9-10-е классы собирались в колхоз, – определило мою судьбу…
Дневник я вел почти без перерывов аж до 1965-го года, и они сохранились, к моему нынешнему счастью. Иначе чем бы сейчас занимался? Конечное, многое мог бы и вспомнить, но не в тех подробностях, в которых-то и значение дневника
Последнее время что-то постороннее, устаревшее, оторвавшееся от грозно нависшего, непонятного будущего, уже не читается. Пишется же не всегда. Сегодня вот, 20.02.2006 расписался, зато вчера ни строчки, а позавчера листа 3, не больше (а сегодня до половины 4-го как-никак 7 листов). Приносимые племянником Сашей – спасибо ему – злободневные книжки, пополняя кое в чем фактами, много уступают моему пониманию событий, – может быть доживу до воспоминаний и начала 2000-х. В такие моменты, когда ничего не читается, листаю сохранившиеся тома «Исторической энциклопедии» – разрозненные и при покупке, но восполнили значительную утрату 9-ти томов «Всемирной истории» (4 очень важные, о становлении Руси, Польши, Украины, перед пожаром позапрошлогодним спустил сюда вниз) … А «Исторической энциклопедии» осенью 2004-го не поднял на верх все имевшиеся (до десятка). Оказывается, Георг Вашингтон, один из основателей в 70-80-х годах 18-го столетия Соединенных Штатов Америки тоже вел дневник – с 16-ти лет, как и я, – и по конец жизни. 4 тома его дневников изданы в конце 18 века. Они – о прошлом. Мои же – о будущем. Мои дневники о событиях не столь грандиозных, но, смею думать, задену я жизнь, проникну её тайны глубже
.
Того требует время, того требует вплотную подступивший кризис всего рода людского, благоприятное разрешение которого требует глубокого понимания природы человека и особенно общества. А на чем можно глубже понять природу человека, как не на себе самом, а общества – на своих взаимоотношениях с другими людьми, – и на изучении, конечно, истории, географии, всех смежных наук. Важнейшая из них история. Историк должен иметь верное представление буквально обо всех науках, не исключая и точных, – даже в них он должен разбираться даже глубже, чем их творцы, – в их общем взаимодействии…
…Итак, дальше в воспоминаниях мне в помощь сильную мой же собственный юношеский дневник, который, в силу его теперь важности особой, идет основным текстом. Стараюсь ничего в нем не менять, не улучшать с высоты приобретенного опыта в словесности. Разве что внес бы изменение в текст уже тогда, если б переписывал …А комментарий от себя нынешнего даю в прямоугольных скобках […].
1956 год
25 мая. Сегодня – последний день занятий в школе. Итак, 9 лет я отучился. Остается совсем немного и школа будет закончена. В этом году я бездельничал в смысле учебы, но сделал кое-что по комсомольской работе и самообразованию. Несмотря на то, что по математике*, литературе и английскому у меня 4-ки, чувствую, знания есть, только надо собраться и выработать силу воли. Вот чего у меня нет! Особенно ослабла моя воля в последнее время оттого, что не работаю. Но скоро будет много работы: сдавать экзамены, писать комсомольские характеристики 10-класникам, отправка в колхозы, сборы в поход и т. д. Ближайшая задача – написать нормы поведения и план работы над собой и своим образованием. Работа трудная, но нужная. Но это не сейчас – необходимо сначала подумать и серьезно подумать! Прежде всего, необходимо подвести итоги последних двух лет
Время это даром не прошло и пришлось сделать немало. Прежде всего – 2 года почти работы секретарем комитета ВЛКСМ школы, членом райкома комсомола, 2 раза по месяцу работы в колхозе, причем в прошлом году руководителем шефского отряда школьников в колхозе им. Сталина в Чкаловке, Чкаловского р-на. В прошлом году изучил политэкономию
*«Наш математик», громадного роста, с большой головой в черных, несмотря на лет не менее 50-ти, коротко стриженых кудрях, умевший так громко гаркнуть на расшумевшийся класс – что месяца два царила на его уроках полнейшая тишина – упорно не желал ставить мне пятерки, балуя щедро ими девочек, которые все без исключения списывали у меня решения трудных задачек – и со всех шести девятых классов! Лишь в десятом он стал пятерки мне ставить – и в «аттестате зрелости» по всей математике проставил
[месяц после занятий в школе конспектировал, как потом оказалось, самым интенсивным, ленинским способом «по памяти», прочитав параграф и закрыв книгу, учебник для вузов под редакцией Д. Шепилова, да, того самого, «примкнувшего» к «антипартийной группе» Молотова, Маленков и Кагановича – в квадратных скобках везде в последующем приписка из современности, спустя почти 50 лет, первая 19 окт. 2004 г.],
познакомился с основными произведениями Маркса-Энгельса-Ленина, с частью основных произведений западноевропейских классиков 19-го века. Но главное, конечно, то, что больше узнал людей, стал мало-мальски разбираться в характерах; научился анализировать свои и чужие поступки, отдавать себя всего делу, когда нужно; говорить правду и поступать справедливо
[тогда не выделил – не вполне понимал всего значения этих двух слов!]
Но очень, очень много не сделал. Во-первых, недостаточно работал над укреплением воли, внимательности к людям, умением направлять все силы на дело, нравится оно или нет, не выработал достаточно принципиальности к себе и другим, и мало, мало, мало требователен к себе. Мало точности, мало сосредоточенности, не хватает выдержки и терпимости. Сильно еще честолюбие, правда, в замаскированных формах, нет безразличия к личным побуждениям, невозмутимости, когда говорят плохо или хорошо о тебе. Не могу подавлять отвращения к некоторым людям, когда это необходимо. Не могу отвлечься, когда это нужно, забыть промах или ошибку, если они (упадочные мысли и самобичевание) мешают делу. Не могу (а это очень вредно), забывать о предстоящих трудностях, побороть вялость и апатию перед трудным делом
Все эти недостатки сводятся к одному – недостаточна сила воли, над ее укреплением и надо крепко поработать
Ближайшие задачи:
– 26-го начать подготовку к экзамену по геометрии,
с 6 до 10 и с 14 до 17.
– С 18 до 21 читать «Историю Англии в эпоху империализма»;
[это поверх экзаменов]
В 21 – 22 прогулка или в кино. 27-го тот же режим.
Вечером сегодня подумать над правилами поведения и набросать черновик. Сегодня же сказать А. П. [Александра Павловна Бевз, немного больше года директриса школы, «англичанка»] о походе и окончательном укомплектовании группы.
26 мая.