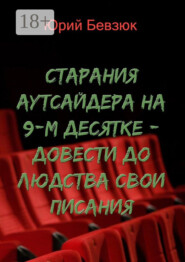По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневник школьника 56—57 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Партиец наш Григорий Петрович на выездах на работу бывал редко и сразу исчезал, но вечерами я с ним ходил по селу покупать огурцы, за хлебом, когда медлили с подвозом. Раз вечером он организовал рыбалку в илистой узкой речушке – пидсакой, то есть прямоугольной рамой из прутьев, с натянутой в виде большого сачка делью. Уж поело нас на закате комарьё, голая широкая спина с веснушками Григ. Петр, аж вспухла, но он был весел. И все мы, всего четверо, держались стойко, хотя были искусаны комарами, замёрзли и продрогли. Рыбёшек было всего несколько, но попалось в пидсаку с ведро крупных раков да несколько перловиц; варить улов было поздно. Спали мы, добравшись до постелей, «без задних ног». А утром каждому из отряда, разумеется, и тем, кто не ловил, как же иначе, досталось по два жирных рака, вкус у них как у чилимов.
Работали мы сначала на прополках, сборках всяких поблизости от села, потом нас стали возить газиком на покосы. Я любил эти поездки по равнине, степь была мне, привыкшему к обрывистому побережью и лесистым сопкам, внове, и я любил, когда машина несётся по грунтовой дороге, тёплый ветер бьёт в лицо, мотает наши шевелюры [увы!], мы в кузове подпрыгивающего на колдобинах газика, ребята и девчата, держимся, чтобы не вывалиться из низких бортов, друг за друга. Однажды нас бросили на прорыв: надо было срочно убрать большую площадь скошенного и уже сухого сена, приближались дожди. Бригадир сказал, что нужно одного на тракторные грабли, четверых на конные, остальные сгребать валки вручную в неудобных для техники местах, по овражкам, низинкам и т. п. Я не медля напросился на тракторные грабли,
хотя видел впервые этот агрегат. Ничего хитрого: толстые изогнутые прутья щёткой такой метров 10 шириной, колёса по бокам, сиденье железное посреди, рычаг под ногой, на который нажимать, поравнявшись с уже готовым валком. Надо было нажимать так, чтобы валки оставались ровные, а трактор бегал быстро, поле было не слишком ровное, с кочками местами – чувствуешь себя как на гарцующем жеребце. Сначала то раньше сброшу валок, то позже, но вскоре наловчился и валки пошли ровные, претензий не было. Колхозники, посадившие меня, чтобы подменить своего на время, не торопились подменять. И мне пришлось прыгать на железном седле граблей часа 3, не меньше. Жара стояла адская, тряска, попадал и выхлоп от трактора, так что я скорее отравился этим выхлопом в конце концов, стало подташнивать – умотался, словом, так, что на обратном пути в забытьё проваливался, как-то держался в кузове подпрыгивающего газика, и приходил в себя, когда тугой, горячий, сухой ветер бил в лицо… Мне, конечно, хотелось выделиться, и это удалось: в тот год всё удавалось…
На копнении сухого клевера нашей паре, где закопёрщиком был я, удалось побить все колхозные рекорды. Опять надвигалось ненастье, снова требовался ударный труд, поле было не охватить глазом, клевер вырос густой и высокий, был скошен, высох и сгребён в валки, широкие, высокие и частые. Быстро набиралась копна, метров через 10 вторая и т. д. Вилы я держал в руках лет с 10-ти, много навоза повыбрасывал с подстилочной соломой вверх от сарая, каждый день надо было убирать за коровой или через день-два, – мать погоняла, эта работа была на мне, на отце – косьба. По весне растаскивали вверх по склону к Двухгорбовой навозную кучу, накопившуюся с зимы по немаленькому огороду с братишкой Сашей, первые годы ему было всего 8, а мне уже 10, ручонки у него тонкие, специально носилки отец сделал такие, что я держал короткие ручки, братец длинные, он вверху, я внизу по склону. Он упорнее меня был, несмотря на малость лет, часто меня даже погонял, давай, мол, скорее. Так что и сила в руках у меня при такой тренировке была. И у напарника моего Толи Васько. У них, как у многих на Чуркине, тоже корова была. Он старался взять навильник не меньше, мы быстро продвигались по необъятному полю и вдвоём уставили копнами чуть не его половину, другую убрали человек 10. Мужики с лошадьми едва успевали за нами таскать копны на стога, и вскоре большая часть конного парка работала за нами. Так мы поставили 208 копен, по 4 с половиной дневных нормы, учётчица сказала: «Никогда у нас мужики так не копнили!» …Что ж, они, верно, были поумнее, но мы могли ещё больше, если б Толя часто не закуривал, он был двумя годами старше, 17, то есть ему уже было, и дымил во всю. Я же бросил годам к 12-ти, прокурив 3 года, впрочем, курил мало и бросил сразу, как мне показалось, что кольнуло в сердце во время перебежки. В тот вечер [трудовая] слава летела впереди нашего газика Мы были уже отмечены в колхозной стенгазете у правления колхоза, которое было наискосок через широкую дорогу. На ужине дежурные девочки отвалили нам двойную порцию мяса, а учётчица, нестарая ещё симпатичная женщина, специально пришла, чтобы сказать, что никто ещё так не копнил у них
Понятно, при таких выкладках мне было не особенно до девочек, с Макаровой были сидения у костра в самом начале, а смутно ощущал, нужно что-то дальше, а что? И она, похоже, чувствовала то же: вскоре мы перестали ходить к костру вместе. Тогда вообще старшие девочки главенствовали, их с пяток было. А девятиклассницы будущие не выделялись, они все маленькие были, как на подбор, и худенькие, и Ольга выделялась меньше всех, она совсем ребёнком казалась, но с ними я стал по вечерам прогуливаться – они приглашали. Прогулки были вполне невинные, шли мы по узкому асфальту в сторону центра Чкаловки с километр
Света Билько обычно брала меня под руку, я ту, что рядом, иногда ещё какой-нибудь парень присоединялся. И вот однажды на обратном пути рядом со мной оказалась Ольга, к которой я был тогда еще вполне спокоен. Кто-то из девочек взял меня под руку, я её, – а она вдруг резко отдёрнула свою руку и покраснела. Это было вполне невинно, я удивился, другие не отдёргивали. И я тогда не столько понял, сколько ощутил, что она не такая, как другие. [Признаюсь, перевожу с тогдашнего языка своего на нынешний, тогда же написал высокопарно]: Известно, что подобное поведение женщин заставляет обращать на них внимание [откуда бы тогда известно?], так и случилось со мной, я заинтересовался Ольгой, просто обратил на неё внимание. Никакого чувства и даже тени его у меня к ней тогда не было. Просто увидел, что она скромна и миловидна Но немного позднее узнал, что она не только скромна, но и постоять за себя может. Нас продержали в колхозе 20 дней, а потом оставили ещё на недельку, видно, понравилась наша работа. Мы, ребята, были только рады, я особенно, мне было гораздо лучше, чем дома, а вот девчонки успели соскучиться по мамам и некоторые были очень огорчены и чуть не плакали. У Ольги на глазах выступили слёзы, она покраснела – я теперь наблюдал за ней, так как вдобавок к тому, что повела себя недотрогой, заметил, что её охаживают, по меньшей мере, двое, и только её, – больше никакую! Чувствовалось, что она вот-вот расплачется, вот какое она была ещё дитя, хотя старше меня месяца на два. Ну, ребята, увидев, что девчонки распустили нюни, стали над ними подтрунивать, особенно старался я. Это вдруг разозлило Ольгу и она дрожащим голосом крикнула: «Замолчи!! Ты… хвастун!» Запомнила укор мне Светы Билько и отплатила за насмешки над их огорчением. Я смутился, не ожидал от девчонки такой смелости (именно девчонка была, грудок совсем не видно, а уже через год еще какие!) и замолк. С тех пор я вообще ни над кем не насмехаюсь [зато и не терплю малейшей насмешки над собой по сей день, что даже граничит с потерей чувства юмора: я понимаю юмор, но умный, т.е. тонкий. Что ж, ещё Маяковский сказал: «Для веселия планета наша мало оборудована»]. Признаться, этот выкрик её меня уязвил, я считал, что не противен ей. [Может и был, тогда я ещё не знал, что мудрые греки говорили в таких случаях: «Мне твой смех неприятен»]. Так она преподала мне урок, извлёк, вернее [раз не известно заранее, приятно твоё подтрунивание другому или нет – лучше вовсе воздержаться]
…И до конца колхоза я мало ею интересовался, пока кто-то не сказал мне, что за ней «бегают» сразу двое: Сокол Толя и Осипюк Валерий. Я стал смотреть на неё ещё внимательней, и всё равно чувства не было ещё, слабый какой-то намёк, и лишь в вагоне поезда на пути домой что-то возникло
Когда еду в поезде, у меня обычно грустное, мечтательное настроение, вспоминаю светлое, а больше создаю его в мечтаниях. Но тогда к этому примешалось новое
У окна вагона возле прохода прямо перед моими глазами часто стояла Ольга, рядом с нею Сокол, а немного поодаль неизменно Осипюк. Сокол был красивый парень небольшого роста, черты лица тонкие, с красивыми тёмно-серыми глазами, нежный румянец, русый чубчик. Фигура ладная, крепкая, несмотря на малый рост: он был несомненно красивее всех парней. Но за всей этой изящностью скрывалось скотское отношение к девушкам. Он сильно матерился, цинично отзывался о девочках, именно о них, а не о девушках постарше, своих сверстницах – он шел в 10-й, и был для них мелковат, говорил всякие пакости о девятиклассницах, далёкие от того, что действительно даже могло быть. [А я уже тогда сочувствовал женскому полу, понимая, что несёт основную тяжесть рождения и воспитания детей, всю ответственность – и ещё когда разума нет и быть не может. А Сокол был на 2 года или почти старше, но тогда мне, конечно, и в голову не могло придти, что его, такого красавчика, могли уже развратить сами женщины или окружение]
Осипюк тоже был небольшой паренёк, но красотой отнюдь не брал: и без того лобастый, главным образом из-за узкого лица, сходящего клином к подбородку, он ещё назад волосы старательно зачёсывал, видимо, чтобы казаться умнее. К тому же он был мало что курнос, а даже какой-то утиный был к него нос, был он не то что губаст, а изрез губ неизящный. Говорил он нарочито замедленно, баском и часто на его лице появлялось выражение напущенной важности. Он мне положительно не нравился – к Соколу я несколько снисходил из-за красоты, – а этот был ещё вреден и тоже не стеснялся ввернуть мат даже при девочках. Ни того, ни другого я не уважал, но относился к обоим дружелюбно, как и ко всем, кто меня не задевал
Так мы приехали домой. Через несколько дней на меня напала страшная тоска по ребятам, по коллективу, особенно по девчатам. Уже к троим я имел чувство: к Кузнецовой, к Макаровой и Шапоткиной, в таком порядке я их встречал после колхоза. К первой возникло чувство, потому что она жила в одном из трёх четырёхэтажек, стоявших в ряд справа, как идёшь к Мальцевской переправе, уже близко от бухты, там живут военные. Кузнецова Рита была немного угловатая девушка, с красивыми зелёными глазами на смуглом нежной бархатной кожи лице. Лицо её было не совсем правильным, но особенной красоты, вела себя очень выдержанно, пытался в колхозе её вначале охаживать брюнетистый кучерявый нагловатый красавец Шевченко, называл шутливо «дочкой» (а она таковой не казалась вовсе), но как-то быстро отвалил, а потом не заметно было, чтобы кто-то за ней ухлёстывал. К ней и подступиться было нелегко [после колхоза когда встречались], ходила быстро, не останавливаясь. Раз увидел у их дома на пути к Мальцевской переправе, другой – и тяга к ней возникла, – но идёт всегда озабоченная …не предпринял ничего, чтобы сблизиться – поздоровались только и разошлись
А Ольга встретилась в овраге, по которому я ходил чуть не каждый день, с коровой на верёвочке, неподалёку от их дома. Редко там ходили, мало кто встречался, потому и любил ходить тем оврагом. И не разминуться там, узкая тропка вдоль ручейка, и не уйти ей с коровой на короткой верёвочке. Она заметно как-то взволновалась, покраснела, досадливо улыбнулась, поздоровалась. Я почувствовал, она застыдилась – увидел её с коровой, и прошел, лишь поздоровавшись, мимо, да и знал, опытный сам пастух, что не надо волновать корову, отвлекать от пастьбы
[Та картина в овраге внезапно, как въявь, с такой болью вдруг припомнилась мне, так тяжело стало раз ночью лет через 25, – что не только не мог снова заснуть, но встал, оделся и среди ночи вышел из зимовья на лунное морозное безмолвие… И потом не раз являлась, особенно когда увидел её через 45 дет шестидесятилетней, и лишь совсем недавно стало «и не грустно, и не больно» (Шефнер)]
Чувство моё немедленно перекинулось на Ольгу, но уже начинался учебный год, и меня охватили надолго более сильные и настоятельные эмоции
Восьмой год моей учёбы в школе начинался для меня по-новому. Меня обуял сильнейший позыв честолюбия. Я страшно хотел, чтобы меня куда-нибудь избрали. Верхом моего честолюбия было избрание комсоргом [класса]. Меня и избрали, ни у кого не было сомнений, само собой разумелось в классе, и моё честолюбие было удовлетворено, как будто вполне. Но через неделю общешкольное комсомольское собрание, я вылезаю на трибуну после отчёта Вали Безручко, преодолев страх выступления перед четвертью тысячи человек, не помню уж что тогда мог сказать – обычное в таких случаях, – наверное, казёнщину какую-нибудь. Я выступал как комсорг класса, не более – подтвердить своё избрание, а, может на что-то еще закидывал. Вкус, недаром говорят, приходит во время еды. И меня избрали в комитет, а на следующий день директор Бутовец Владимир Петрович предложили меня секретарём! Этого не ожидал, ведь прежние секретари казались какими-то полубогами, а тут я сам! Но, честно сказать, оглянувшись на 2 года назад, некого больше было: комитет тогда подобрался на удивление слабым, малоинициативным, каждого нужно было погонять, с каждого спрашивать. Это был результат года бездействия Вали Безручко. Лишь на следующий год подобрался сильный комитет, после года моих почти одиноких усилий. То есть работал, конечно, и актив, но только под моим нажимом
[Избранием секретарём я, можно сказать, был ошарашен. Идя домой оврагом как раз мимо дома Шапоткиных, я испытал тягостное чувство, сменившееся, правда, быстро желанием соответствовать этой так внезапно свалившейся на меня избранности]
Об Ольге, проходя мимо её дома, даже не вспомнил. На следующее утро, идя в школу тем же оврагом, я боялся, что никто не будет меня слушать, приходить на мои вызовы, я почти не имел опыта общественной работы, почти никого не знал. А организация была большая, очень большая, самая крупная школьная в крае, потому что и школа была самая крупная. Но у меня было желание общественной работы, чувство долга и гордость. Сначала работать было трудно. Состав комитета был малоинициативен, многое приходилось делать самому, никто не помогал: ни райком, ни парторганизация, ни учительская комсомольская организация. Варились, так сказать, в «собственном соку». Дисциплина была слабая, успеваемость у комсомольцев очень плохая, в 1-й четверти всего 60%, комсорги не работали, посещаемость собраний была низкая, даже сводные отчёты комсорги приносили неохотно, их приходилось понукать (не всех, конечно, но большинство, а их было 13). Я сам отставал по учёбе, сделал 7 ошибок в диктанте, получил двойку, в 1-й четверти имел тройки по русскому и английскому. Тяжело было: требовал от других, а сам получил пару двоек Правда, и времени для занятий оставалось мало. Но главной трудностью на первых порах, вместо помощи, оказался наш директор, Владимир Петрович Бутовец, человек ещё молодой, лет 30—35, но на вид больше: обрюзг, очень пополнел, второй подбородок, зубы крошились, запах гнили от них или тошнотворный сен-сена. Он был вял, безволен, нетребователен, главное, нечуток. Первое и второе видно было сразу, а третье я узнал сразу вскоре после своего избрания, буквально на другой день. Он попросил зайти после уроков для «беседы». Я пришёл, он попросил подождать, жду. Проходит час, он вышел, просит подождать ещё немного. Это «немного» оказалось ещё 2 часа к уже отсиженному! Так я и ушёл, не дождавшись, постучать же не мог в его дверь: у меня закипал гнев, – ушел часов в 17. [по пути домой такие филиппики проносились в моей голове, они-то, пожалуй, и подогнали так быстро мой русский: буквально через неделю после двойки за диктант получил пятёрку: просто заучил быстро правила – правда, та двойка не соответствовала уровню моих знаний, просто очень невнимателен был на том диктанте, в плохом состоянии из-за насунувшегося ненастья: и зная, как правильно, – писал неправильно!]
Так же резко я улучшил речь. На самой первой встрече с активом в актовом зале я вдруг снова не смог начать говорить перед группой человек в 30, хотя только неделю назад без запинки оттарабанил всему комсомольскому собранию, в 300 человек. Ненастье надвигалось, потемнело вдруг, голова отупела, страх появился перед выступлением. Вообще моё состояние сильно зависит от погоды, как себя помню, лет с 4-х. Кое-что всё же сказал, но домой пришёл в тягостном состоянии, лёг на кровать почти в отчаянии, но собрался, решил взять себя в руки, подавлять волнение. Но отвлёкся от Бутовца. К нему у меня появилось презрение, я стал почти игнорировать его, ограничиваясь проформой: допустим, план работы комитета, который он истребовал через школьную секретаршу-машинистку, я, ею отпечатанный, – ею же отсылал. [Она такая молоденькая, худенькая, бледненькая, незаметная была, но всегда быстро отстукивала, что просил*: планы, отчёты в райком, выговоры и прочие взыскания комсомольцам, которые тут же вывешивались на общее обозрение. Словом, я действовал строго по уставу комсомола и в соответствии с обязательствами, которые брали члены комсомола на себя, вступая в организацию; по уставу комсомола я не обязан был директору подчиняться. Я чувствовал, что обязан ему помогать в учебно-воспитательной, культурной и общественно-политической работе, – я и помогал, вернее, тянул её, понукая актив]
*8 мая 2020 …Тогда так не считал …но опыт жизненный, за лет 65-тилетней далью, сквозь дымку времени почти что нереальную, – неравнодушие ея ко мне усматривает …её был младше я – на лет так пять хотя
Прежде всего, я за неделю учёбу свою подтянул, одновременно комитет, поставив на вид нерадивым некоторым его членам. Надо сказать, все они были неплохие ребята, все неглупы, доводам внимали, были даже и способные – Козлова Лида, миловидная, с большим выпуклым лбом, сформировавшаяся девушка из 9-го класса; Болюх Света, она ещё и комсоргом в своём классе была, симпатичная блондинка и тоже очень сформированная уже [не только груди, но и всё остальное. Понятно, в дневнике однообразнее и, разумеется, совсем без нынешних вольностей, – но и в разнообразии описывания одного и того же или близкого, – я «настропалился» к тому времени, как-никак сотни две характеристик комсомольцам двух выпусков из школы к тому времени написал] Заметил, что чем способнее, умнее и красивее были девушки, тем ленивее на комсомольскую работу, но поскольку умницы-то быстро усекли мою линию, и комитет был в моих руках, – слушались. Единственно, Лариса Пацигор из 8-в класса, в работе комитета участия почти не принимала, она была отличница, лучше всех у неё были отметки из всех пяти 8-х классов (пять было и девятых и три 10-к), самая красивая в школе, не исключая и мою Ольгу, лицо тонкое, смугловатое слегка, нежное, глаза внимательные, тёмно-карие, шейка тонкая, вся стройненькая тогда [как некий буддистский божок была спокойна и невозмутима]. Она сразу как-то поставила себя независимо, не вызывающе, но твёрдо, и, главное, я был неравнодушен к её красоте, впрочем, и она выполняла в точности свои обязанности комсорга в своём классе. Она твёрдо шла на медаль, но в 10-м её уже не было в нашей школе
Другие комсорги. В 10-а была Галя Слободчикова. Работала она неважно, училась посредственно, круглолицая, в очках, доброе выражение лица и полностью сформировавшаяся, взрослая уже [как бы теперь не преминул сказать цинично, «вполне готовая»]
В 10-б комсоргом была Степанова Лариса, которая была одновременно и членом учкома, училась хорошо, работала тоже неплохо. Она была поменьше Слободчиковой [и не имела её пышных форм], занималась ещё спортом, коньками и велосипедом, участвовала в районных соревнованиях. В 10-м комсоргом была Сергеева Нели, лицо её было особенное – бледное, но не болезненно, с характерным, нервным изрезом ноздрей [как у норовистой лошадки]. Она тоже красивая, стройная была, потому, наверное, работала неряшливо, неаккуратно приносила мне отчёты по членским взносам и планы работы.
Итак, подтянув себя в учёбе и уставной дисциплине, я взялся за комсоргов, влепил трём-четырём выговоры без занесения в учётную карточку, но с вывешиванием на всеобщее обозрение [сейчас бы сказали – добивался полной прозрачности комсомольской организации]. Разумеется, сначала только в 8-х классах, но и в 9-х и 10-х подтянулись. Затем взялся за группы. Где больше комсомольца не успевало, там устраивались заседания комитета в классах [комитет за длинным столам перед классом, комсомольцев-двоечников поднимаем и спрашиваем, почему плохо учатся, а обещали ведь в заявлении при вступлении. Почему не выполняешь? Тут уж старались больше члены комитета, я только руководил заседанием. Раза два-три раза допекли девчонок, выбегали в слезах из класса. Мне было их жалко, но был твёрд, как и члены комитета. Что интересно: так ж, с допуском всех желающих, беспартийных то есть, проводились и партийные чистки 30-х годов!]; успеваемость не только комсомольцев, но и остальных вскоре поднялась за 90 – почти до 100%! Мы соревнование устроили, в каком классе успеваемость выше. И мало-помалу стало налаживаться и остальное
Вообще-то мрачное для меня было время: год кончался, дни стали темнее, холодало, одет я был легко, бедно: в синем флотском кителе с блестящими жёлтыми пуговицами и в кирзовых, больших сапогах (размер ноги у меня был уже 42)…
В райкоме ко мне относились без особого внимания, но избрали в президиум на районной конференции, на ней, перед закрытием, – членом райкома. А горком почему-то обратил неожиданное внимание [разглядели, что кто-то внизу зашевелился, надо его сразу поставить «раком»]: вызвали, в ноябре, весь комитет на бюро горкома, заслушали, меня, конечно, одного, дали внушение [Буркин, конечно, первый секретарь, крупный, темнолицый, горбоносый, страшноватый – он и стал потом главой КГБ аж Волгоградской области, но умер рано, лет в 40, – больше всех спрашивал, как и я на своих комитетах], написали постановление, а я его потерял к следующему вызову через месяц [самый декабрь, темнотища, а ехать в горком далеко, он в маленьких тесных комнатёнках размещался на остановке не доезжая Лазо… вспоминаю… Политехнический институт, или Дом Союзов? На первом этаже, в углу 4-х этажного здания]. Меня и спросили строго за утерю того постановления, хорошую дали распеканцию [Буркин снова, но и второго секретаря, Дульцева после 2-го заслушивания запомнил, он через 3 года моим главным гонителем стал в бытность работы в Первомайском райкоме в 58-м. И он меня запомнил, как нечто восходящее, и хотя я снова перед такими строгими молодыми дядями (Буркин и высок был, большеголов, ну и корпус соответственно, а Дульцев и тогда ниже меня и не подрос, разумеется, а я ещё порядочно) потерял дар речи – ну чем я мог оправдаться в утере постановления – о ужас! – горкома? – он меня запомнил хорошо, я его смутно, но он напомнил через три года). Мне тогда ограничились постановкой на вид. [Но я почувствовал что-то не то в обращении ко мне старших. На меня, хотя я действовал почти так же инквизиторски, почему-то не обижались в школе, никто, – и даже спустя годы, исключённые из комсомола в первый год моего секретарства восьмиклассником два десятиклассника, парень и девушка, один за пьянку, другая за антисемитизм (квалифицированный мною тогда по неупотребительности тогда сего словца и шаткости ещё в терминологии шовинизмом) – обозвала одну восьмиклассницу (Веру Бубенчик) еврейкой, каковой та и была, причём яркой, кучерявенькая и губастая, – встретив меня лет через 5, докладывали, что снова вступили в комсомол, даже обрадовались встрече. Представить только, является 8-миклассник во флотском кителе и кирзовых сапогах на собрание комсомольской группы в 10-м классе и говорит: «Ваш товарищ, такой-то (такая-то) – совершил поступок, несовместимый с членством в комсомоле, надо его исключить» – и голосуют, комитет утверждает, потом и бюро райкома
Тот сумрачный конец 54-го года, предзимье, было чрезвычайно важным для всей моей дальнейшей жизни. Моё внезапное возвышение только для меня казалось случайным, на самом деле оно было необходимым, потому что над страной ещё нависала последний год с небольшим чрезвычайщина. Вот рождение моё именно 12 октября, почему не взяли в первый класс в 46-м, было случайностью, как и всякое рождение. Был бы я годом старше к 54-му, то не действовал бы, не задумываясь, методами чрезвычайщины – и не знал бы на опыте её возможности; был бы годом моложе – не захватил бы уже сталинскую эпоху, не ощутил бы её вкус, сладость её для юных честолюбцев, вообще не ощутил бы сути послереволюционного времени всего, когда молодые и даже мальчишки делали большие дела и кроме них, пожалуй, не сделал бы никто
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: