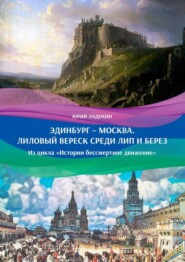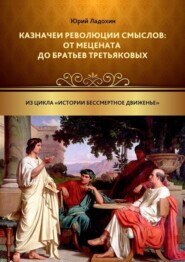По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Атлантида инноваций. Портреты гениев на фоне усадеб. Из цикла «Пассионарии Отечества»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(К. Бальмонт, стихотворение из сборника «Белый зодчий»).
После большевистского переворота в октябре 1917 года, когда заполыхали дворянские усадьбы, не миновала эта участь и Атлантиду Среднерусской возвышенности. Однако исторический парадокс состоял в том, что революционный огонь, спаливший эти культурные гнезда, как отмечал исследователь тверских усадеб Сергей Глушков, «порой раздувался при активном участии их обитателей. Старицкий помещик Иван Гаврилович Головин еще в 40-х годах прошлого {XIX} века написал „Катехизис русского народа“, содержащий, помимо прочего, рекомендации по организации вооруженного восстания и строительству баррикад. Сестры Голенищевы-Кутузовы в 70-х годах в усадьбе Лялино Вышневолоцкого уезда устроили пропагандистский центр крайнего нигилизма» (из статьи «На обломках дворянской Атлантиды (Тверская губерния)»).
Вместе с тем, справедливости ради надо отметить, что стремления к кардинальным преобразованиям социального устройства российского общества были, конечно, крайними проявлениями интеллектуальных поисков русского дворянства, его инновационной энергии. В целом же роль русской усадьбы была, вернее всего, гораздо шире.
1.2. «Эдема сколок сокращенный» (русская Аркадия)
Дворянская усадьба, расцвет которой пришелся на конец ХVIII – первую половину ХIХ веков, похоже, была не просто жилым домом помещика (как и европейский замок или дворец). С самого начала она претендовала на то, чтобы быть особым пространством культуры, расположенном в естественном природном ландшафте. Место идиллическое (как не вспомнить библейский райский сад «Эдем»), обретенная «Аркадия» – уголок беззаботности и радости, усадебное пространство в окружение вековых лип и дубов предстает тем местом, где время, казалось бы, прямо на глазах у созерцателя перетекает в вечность. Как отмечал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, «усадьба была вселенной внутри другой вселенной, огороженной „райским садом“. Отсюда и характерные названия дворянских усадеб, такие как Отрада, Раек и т. п. Владелец усадьбы был ее монархом, и она напоминала корабль, находящийся в походе к сокровенной земле обетованной» (из выступления на конференции на тему «Столица и усадьба: два дома русской культуры», 2002 г.).
Атаман лихих людей из арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников» произносит знаменитую фразу «Сезам, отройся!», чтобы получить доступ к находившимся внутри пещеры сокровищам. Чтобы попасть в райский уголок дворянской «Аркадии» гость, пожалуй, тоже должен был сообщить возничему какое-то заветное слово. Чтобы эта задача не была столь затруднительной, хозяева уже в названиях своих поместий, видимо, предусмотрели подсказки для возможных визитеров: Рай-Семеновское (усадьба Нащокиных в Серпуховском уезде Московской губернии), Рай (усадьба Вонлярлярских в Смоленском уезде Смоленской губернии).
Несмотря на моду на все изыски галльского происхождения, для поименований усадеб хозяева патриотично избирали все-таки национальный язык: «В „переводах“ с французского на русский названиям Sans Soucis соответствовали Беззаботы (Ельнинского у. Смоленской губ. кн. Шаховских) или Беззаботная (Петергофского у. Санкт-Петербургской губ.). Mon plaisir в русском варианте превращался в Отраду, Отрадино, Отрадное, Отраднево. Названия этого ряда, вероятно, наиболее часто встречающиеся топонимы, связанные с „райской“ концепцией. Sans Ennui становился Нескучным, а Belle vue („прекрасный вид“) – Живописной, Раздольем, Миловидовом, Световидом или более конкретно – Приятной Поляной, Ясной Поляной и пр.» [Дмитриева, Купцова 2008, с. 333].
Из некоторых названий усадеб можно было бы, думается, смело составлять поэтические тексты, рассказывающие о благословенных местах российской ойкумены: Заветное, Благодатное, Лакомая Буда, Красавино, Нерастанное, мыза Кинь-Грусть, Утешение, Ясное, Уединенное, Хорошее, Приют, Приютино [см. Там же, с. 333]. Чем не доказательство этому – строки Василия Пушкина (дяди великого поэта), посвященные имению генерал-аншефа Ивана Ганнибала?:
Души чувствительной отрада, утешенье,
Прелестна тишина, покой, уединенье,
Желаний всех моих единственный предмет!
Недолго вами я, к несчастью, наслаждался,
Природы красотой недолго любовался,
Опять я в городе, опять среди сует…
(из стихотворения «Суйда», 1798 г.).
А вот со словом «Эдем» – одной из желанных характеристик как провинциальной дворянский усадьбы, так и резиденций самодержцев российских, можно было бы вполне устроить небольшой поэтический турнир.
Откроет его ученый-энциклопедист, основатель (по словам Виссариона Белинского) русской поэзии – Михаил Ломоносов. Его «вирши» – об императорской резиденции Елизаветы Петровны в Царском Селе:
Мои источники венчает
Эдемской равна красота,
Где сад богиня насаждает,
Прохладны возлюбив места…
(из оды, посвященной императрице, 1750 г.).
Другой участник поединка пиитов – Гавриил Державин, посвятивший эти строки воспоминаниям о пребывании в Царском Селе следующей государыни – Екатерины II:
Тут был Эдем ее прелестный
Наполнен меж купин цветов,
Здесь тек под синий свод небесный
В купальню скрытый шум ручьев;
Здесь был театр, а тут качели,
Тут азиатский домик нег;
Тут на Парнасе музы пели,
Тут звери жили для утех
(из стихотворения «Развалины», 1797 г.).
Двум маститым мастерам бросает вызов менее известный широкому кругу почитателей поэзии князь Иван Долгорукий. Его слова восхищения – о великолепии подмосковного имения графов Шереметьевых:
Земли лоскутик драгоценный —
Кусково! Милый уголок,
Эдема сколок сокращенный,
В котором самый тяжкий рок
В воскресный день позабывался
И всякий чем-нибудь пленялся
(из стихотворения «Прогулка в Кускове», 1788 г.).
Победителей поэтического поединка, думается, определять смысла нет: все трое продемонстрировали ажурное мастерство стихосложения. Ирония, однако, заключается в том, что восторженные строки поэтов XVIII века о роскошном «Эдеме» царских резиденций и дворянских усадеб определенно диссонируют с первоначальным смыслом понятия «Аркадия». В античности Аркадия была вполне конкретным географическим местом: пустынной местностью Пелопоннеса, причем одной из беднейших в Греции. И населяли этот уголок Эллады охотники, рыбаки, крестьяне, которые вели простой, без излишеств образ жизни в единении с природой.
И только усилиями древнегреческого поэта Феокрита Аркадия начинает осмысляться как идеальное пространство, населяемое не только людьми, но и божествами, в первую очередь, козлоногим Паном, покровителем скотоводства и дикой природы. Мифологическую шлифовку образа пастушьего края продолжил живший во времена Юлия Цезаря римский поэт Вергилий. В его эклогах Аркадия из реальной страны превращается в сказочную, становится «пейзажем души». В этом идеальном, наполненном поэзией пространстве, пастухи, словно современные рэперы, устраивают певческие состязания. Темы четверостиший сменяются не случайным образом: сперва они сужаются – поэзия, боги, любовь, природа и быт; потом расширяются – природа и любовь, любовь и боги; а когда очередной певец не в силах продолжать в том же духе, ему засчитывается поражение (см. статью Михаила Гаспарова «Вергилий – поэт будущего»).
Классическую завершенность образу легендарной Аркадии, как представляется, придал итальянский поэт эпохи Ренессанса Якопо Саннадзаро. В 1504 году он опубликовал пасторальный роман, где страдающий от любви поэт уходит из города, чтобы жить в безмятежности и простоте Аркадии, черпая вдохновение в печальных песнях пастухов. Уютный сельский мирок в интерпретации Саннадзаро явился результатом понимания античности как безвозвратно потерянного рая. Сама же Аркадия, с одной стороны, становится символом утраты и элегии, а с другой – побуждает ее обитателей к созданию атмосферы умиротворенности и галантных увеселений на лоне природы.
Такой посыл, думается, не мог не понравиться хозяевам русских дворянских поместий. Они не только устраивали в своих имениях сопровождаемые музыкой и танцами буколические игры, но стремились превратить свое родовое поместье в близкое подобие Аркадии. Результат иногда получался весьма впечатляющим.
Вот так, например, проводил летние месяцы в своем имении Мара старший чиновник особых поручений при тамбовском губернаторе Сергей Баратынский (брат известного поэта): «Внизу, возле источника, возышалась изящной архитектуры купальня в виде готической башни, к которой вел красивый мост. Вообще эта жизнь в лесу представляла что-то волшебное. В семейные праздники по лесу развешивались разноцветные фонари и зажигались бенгальские огни, что придавало всей местности фантастический вид. Здесь устраивались хоры из классических опер» [Каждан 1997, с. 41].
Вместе с тем, некоторые хозяева имений не останавливались на попытках мифологизации усадебного пространства (имение как райский уголок); иногда цель ставилась посущественней: ни много ни мало, – превратить пустыню в сад. Вот что вспоминает декабрист, герой Отечественной войны 1812 года князь Сергей Волконский об усилиях своей матери по преобразованию усадьбы Павловское в Тамбовской губернии: «Когда родители купили именье в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, повсюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. <…> Шевырев сказал, что в „Слове о полку Игореве“ выразилась в поэтической форме вековая наша задача – борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельностью моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но ту пустыню, которую люди делают, и ту пустыню, которая в самих людях» [Волконский 1992, с. 28 – 29].
Пожалуй, мало найдется таких людей, которые со школьной скамьи не слышали о самом знаменитом усадебном саде – вишневом, давшем название одной из чеховских пьес. После постановки комедии в 1904 году на сцене Московского художественного театра некоторые театральные критики упрекали драматурга в том, что старый вишневый сад Раневской далек от реалий того времени и является лишь изящной литературной аллегорией (и так, похоже, думают и многочисленные почитатели таланта драматурга). Ведь «для традиционной дворянской усадьбы создание такого „монофруктового“ сада было совершенно нехарактерно: как правило, в русских садах XVIII – начала XIX в. высаживалось сбалансированное количество разных пород фруктовых деревьев, которые к концу лета могли обеспечить необходимый урожай плодов» [Батракова 1995, с. 46]. Но гений – это всегда неожиданность. И Чехов воплотил литературную аллегорию в красивую реальность: высадил возле своего дома в подмосковном Мелихове около тысячи (!) вишневых деревьев.
И самое трогательное в таком саду – белые цветы как символ чистоты, которой всегда не хватает, как предвестник ощущения полноты жизни, которое дорогого стоит:
Вишневый сад, все в белом, как невесты…
Вишневый сад, трепещут занавески.
Вишневый сад – последний бал Раневской…
(Николай Добронравов, из стихотворения «Вишневый сад»).
Нередко созидательные порывы по обустройству «уголков Эдема» в сельской глуши приобретали и отчетливый национальный оттенок. Как отмечают исследователи жизни усадеб Екатерина Дмитриева и Ольга Купцова, примером этого может служить «„неорусское“ движение в усадьбах, начавшееся во второй половине XIX в. (Абрамцево, Талашкино и пр.). Идеализированные „русские“ постройки (теремки, избушки на курьих ножках и пр.) призваны были воссоздать Аркадию славянскую – мир русской сказки, перенесенный в усадебное пространство» [Дмитриева, Купцова 2008, с. 153].
Как представляется, повлияли на эту тенденцию и народнические идеи, которые побудили интерес к крестьянскому творчеству и подтолкнули русских зодчих к новым архитектурным решениям. Как подчеркивают Елена Марасимова и Татьяна Каждан, «основоположниками этого направления в архитектуре последней трети XIX века были В. А. Гартман и И. П. Ропет (Петров), которые отказались в своей практике от обращения к древним прототипам и черпали свои идеи в крестьянском прикладном искусстве. Оно воспринималось многими современниками как передовое и особенно поддерживалось В. В. Стасовым. Помимо известных абрамцевских построек можно назвать „Теремок“ в Ольгине Новгородской губернии, дом в Глубоком Псковской губернии, пристройку к усадебному дому в Рюминой Роще Рязанской губернии, выполненных с применением трактуемых в этои роде форм» (из книги Е. Марасимовой и Т. Каждан «Культура русской усадьбы»).
1.3. «Существа в обличье странном // У природы не в чести…» («монологичность» русской усадьбы)
У одного из поборников либертинажа (философии, отрицающей принятые в обществе моральные нормы), французского поэта Теофиля де Вио есть язвительное стихотворение:
Существа в обличье странном
У природы не в чести:
Редки встречи с великаном,
Трудно карлика найти.
Мало женщин, как Елена,
Нет, как Нестор, мудрецов,
Крепче пьяницы Силена
Мало в мире молодцов…
Редко высшее блаженство,
Редок час великих мук,
И так мало совершенства
В том, что видим мы вокруг.
Поэт жил в семнадцатом столетии, и его строки вряд ли были знакомы большинству обитателей русских усадеб. Но рискну предположить, что всеми своими помыслами и действиями их хозяева русских словно пытались вступить в острую дискуссию с французским нигилистом. «Странное», «редкое» – похоже, именно те слова, которые особо почитались владельцами поместий. Выделиться во что бы ни стало, выразить в облике усадьбы свой характер, свою индивидуальность – чем не благая цель!