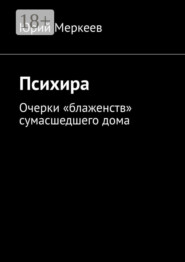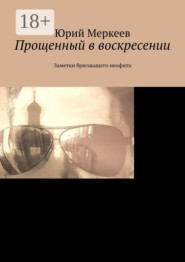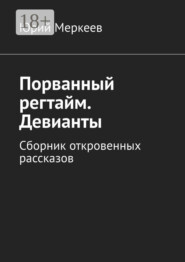По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кессонники и Шаман. Для любителей магического реализма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кессонники и Шаман. Для любителей магического реализма
Юрий Валентинович Меркеев
Это своего рода продолжение романа «Трещинка», которую критики восприняли как прорыв в современной литературе. Один из всемирно известных профессоров и культурологов Юрий Бондаренко в 3 книге о российской современной культуре назвал книгу своеобразной и не похожей ни на «Бунт в психушке» американца Кена Кизи, ни на чеховскую «Палату номер 6», ни на «Мастера и Маргариту», с которой многие пытались олицетворить «Трешинку». Новое – «Кессонники и Шаман» – это не столько бунт, сколько Любовь!
Кессонники и Шаман
Для любителей магического реализма
Юрий Валентинович Меркеев
© Юрий Валентинович Меркеев, 2017
ISBN 978-5-4483-2757-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Он так страстно мечтал о побеге, так мучительно долго жил с этой мыслью взаперти, тайно страдая от невозможности ни с кем поделиться, что, в конце концов, смирился с тем, что никогда никуда не убежит. Перегорел, сжег в топке жарких мечтаний, влюбился, женился на этой мысли и родил мертвый плод. Суббота был одиночка, но для него одиночество не было бегством от больных, скорее – бегством больного. Впрочем, он не сумел сделать даже этого: убежать от людей и спрятаться в самом себе. Не сумел, потому что был болен. Потому что люди, которые окружали его, тоже были больны – не меньше Субботы, а, может быть, и больше. Нельзя больному удрать от больных, невозможно больному полюбить больных так, чтобы соединиться и стать частью единого. Даже сострадать невозможно больным, пока сам не станешь здоровым.
Мысль совершить побег из больницы стала его молитвой, внутренним вектором, смыслом жизни. Эту мысль он вынашивал, лелеял ее, с нею ложился в постель, как на брачное ложе, с нею просыпался и засыпал. С этой мыслью он принимал из рук медсестры пилюли, глотал их, залезал в подводную лодку и погружался на глубину. Сны тяжелые, свинцовые, холодные, как у подводника, хапнувшего кессонную болезнь. Утром подводная лодка всплывала, Суббота пил тошнотворный чай, шлепал в тапочках, тяжелых, как гири, в туалет, притворялся здоровым, врал Сан Санычу, лечащему врачу о том, что знает, что болен и мечтает об исцелении, натянуто улыбался, пошло шутил, а во рту у него была полынная горечь от всего, что его окружало. Тошнота. Кругом одна тошнота… Он смотрел снисходительно на мерзкие проделки санитара Василия, похожего на большую черную бородатую женщину – только потому, что Василий часто не замечал нарушения дисциплины со стороны больных, а если бы заметил, то многие пациенты первого буйного, включая Субботу, давно оказались бы в наблюдательной палате под двойным «контролем» галоперидола. Суббота врал самому себе и окружающим. Брачное ложе, которое он делил с мыслью, не родило плода. Его мечтательная беременность идеей побега оказалась ложной.
И тогда Алексей перестал принимать лекарства. Когда к нему приближалась медсестра с тележкой, усеянной стаканчиками с водой, пилюлями и записками с адресатами, он улыбался Елене Прекрасной, улыбался женщине, которую хотел провести, послушно открывал рот, принимал из ее тошнотворно пахнущих рук три красно-белые капсулы, делал вид, что проглатывает их, запивал водой, вытаскивал язык для осмотра. Елена Сергеевна убеждалась, что лекарство проглочено и увозила тележку дальше. А Суббота вытаскивал из-под кровати тапки-блины и летел в туалет, и с помощью двух пальцев выворачивал все содержимое желудка наружу. Ночь и день были отыграны у неволи. Теперь не было подводной лодки, кессонной болезни и мерзкой холодной серой пелены. Наступала иная реальность, в которой мертвый плод воскресал. Мечта о побеге расцветала в ярких красивых оранжево-мандариновых снах, где явь и фантазия менялись местами, уступая друг другу с церемониальной вежливостью царственных особ. Шизофрения… Диагноз, с которым Алексей Иванович Суббота попал в очередной раз в психоневрологическую клинику номер один, звучал именно так: шизофрения параноидального круга. «Эс-цэ-ха», как выражались в присутствии пациента мудрые бородатые доктора, пытаясь обмануть латынью доверчивых больных, иногда не понимая того, что больные не так просты, и умеют притворяться и обманывать врачей. Вечная диалектика, единство и борьба двух противоположностей… Суббота все понимал. И по-прежнему жил мечтой о побеге – теперь с другим вектором и другими снами. Алексей не позволит больше никому из докторов отрезать свою голову и сажать ее в рассол чужих мыслей, чтобы эта голова начала извергать прописные истины. Хватит! Теперь он сам Господин Субботы. Он Человек!
2
Первая клиническая и в самом деле напоминала нечто реликтовое, выбравшееся на сушу со дна океана. Не столько подводную лодку, сколько остов выброшенного на берег древнего корабля – остов, покрытый ракушками и зеленой плесенью. Забытый Богом отсек спасшегося от всемирного потопа ковчега праведного Ноя. Забытый, потому что Бог, спустившись в ад, проглядел первую клиническую, притворившуюся водорослями и останками рыб. Видимо, долго лежала она на дне ада, что даже в глубоководный телескоп Бог Любви не сумел ее разглядеть в слое темного ила.
Больница располагалась в низине, на окраине города, в пойменных лугах Волги, которая иногда разливалась и затапливала подвалы психотерапевта Виллера. В них Генрих Янович лечил частным образом богатых невротиков с помощью гипноза, избавлял толстосумов от многочисленных панических атак, неврозов навязчивых состояний и страха… о да, главное – страха, который пропитывал жизнь бизнесменов с головы до пят. Страх липкий, тревожный, отвратительный, метафизический… страх, который нужно было лечить с помощью «отрезания голов и помещения их в рассол чужих мыслей». Никогда еще у Генриха Яновича не было столько благодарных пациентов. Не только мужчин, но и женщин, у которых вслед за мужьями развивались страхи. Тут был иной страх – земной, приземистый, тяжелый. Иногда для лечения хватало одного сеанса погружения в гипноз. Иногда – резкого окрика и шлепка по заднице специальной войлочной тапочкой, о которой уже слагались легенды. Виллер так силен, что ему достаточно шлепнуть пациентку по заднице волшебной тапкой. А подвалы, которые ему бесплатно копали «зеленые больные», иногда затапливало, и тут уже не хватало Виллеровского волшебства. Первая клиническая была далека от герметичности подводной лодки – она текла.
А рядом с ней ступенью повыше белел новеньким кирпичом крупный водочный комбинат Зыкова, еще выше сверкала церковь. И все было, как в государстве Российском, – шутили больные: наверху Бог, чуть ниже водка, а на самом дне сумасшествие. Шутили и не боялись – что возьмешь с дурачков? Русская троица, говорили они: водка, церковь и казенный дом.
Зданию больницы было больше ста лет. Раньше тут располагалось поместье какого-то известного земского деятеля, после революции – психушка. В советское время в доме скорби держали диссидентов на заочных диагнозах: посмеют дернуться на Запад, а у них, оказывается, шизофрения. Сутяжно-параноидальный синдром. Расхожий диагноз имперского времени. Местный писатель Шаманов, книги которого находились в библиотеке первой городской, когда-то лежал за свои слишком свободные измышления в этой больнице с вышеозначенным диагнозом в буйном отделении, где содержался Суббота. Алексей Иванович обожал читать книги Шаманова, и когда мозг воспринимал печатные буквы, то нередко видел, как с пожелтевшей от времени бумаги стекало соленое, как слезы писателя, миро: «Есть люди, – писал Шаман, – похожие на глубокие подземные лабиринты. Чем дальше погружаешься в них, тем больше возникает загадок и тайн. Попадаются в их недрах шахты, наполненные странными существами, дремлющими до той поры, покуда инструмент исследователя не коснется их демонической сути. Попадаются красивые незамутненные источники, озера с кристально – чистой питьевой водой, целые „байкалы“. Встречаются дурманящие болота с гнилостными испарениями, от которых кружится голова и путаются мысли. Но случаются и дворцы из чистого золота и алмазов. В таких дворцах чувствуешь себя легко и свободно, словно в сказке, великолепие красоты услаждает взор. Когда общаешься с такими людьми, поневоле испытываешь глубокое уважение, ибо люди эти – легенда, их жизнь туго вплетена в узор мироздания, их опыт – всегда раскрытая книга. Кому посчастливится прочитать ее, тот найдет в ней ответы на все вопросы».
Да. Так было. Так и есть. Так было сорок лет назад, когда жив был писатель Глеб Иванович Шаманов, так есть сейчас. Умер Шаман, по официальной версии, от раковой опухоли. По слухам же, был до смерти залечен в первой городской. Об этом не говорили люди, но стены здешние видели все. По ночам Суббота иногда встречал на отделении сухонького седого старичка, в котором узнавал любимого писателя, часто заговаривал с ним о сокровенном. С кем еще можно было поделиться тайной, кроме покойника? Беседы прерывались Еленой Прекрасной, которая торопилась увести Субботу на тропу, где отрезаются головы и сажаются в рассол. Старик, разумеется, удалялся. В одной из книг он досконально описал быт больничного ада. «Кажется, ад, – писал он. – Кажется, самое дно ада. Но прислушаешься и… чу! А снизу-то кто-то стучится?! Значит, внизу еще один ад, еще более мерзкий, чем этот». Все так. Было и есть. Возможно, и будет.
3
Больница была обнесена глухой кирпичной стеной с колючей проволокой наверху, задекорированной под желто-зеленый плющ. Все было продумано до мелочей. Каждый цвет нес в себе свою энергию, свой отпечаток. Зеленый – спокойный, умиротворяющий, чуть теплый. Желтый – горячий, с легким предупреждением об опасности, приятный, впрочем, на ощупь и вкус, как спелое яблоко или сладкий апельсин. Красный бил по глазам, означал огонь и опасность. Не тронь! Будет худо.
Внутренний дворик психбольницы был всегда до чистоты убран. Трудотерапия. Бесплатная рабочая сила из числа безропотных зеленых и желтых. Да, так было и есть. Три категории пациентов: зеленые, желтые и красные – в зависимости от цвета крохотного треугольника, приклеенного к лицевой стороне историй болезней. Кто был помечен красным треугольником, считался социально-опасным, склонным к побегу, к любому противоправному действию. Мог «включить в свой бред» любого из врачей или санитаров и отомстить с особой жестокостью. Красных усиленно охраняли, не выпускали на улицу ни под каким предлогом. Только форточка в зарешеченном окне туалета первого буйного отделения была той самой «трещинкой», про которую известный поэт сказал, что она может стать «лазейкой на волю».
Зеленые и желтые работали дворниками, подсобниками в слесарно-столярных мастерских, их допускали помогать готовить и разносить обеды. Иными словами, им доверяли, как пастухи-пастыри доверяют своим овечкам.
Красным не только не доверяли, но и стремились выведать все самое сокровенное, называя «тайное» бредом, который необходимо было раскрыть в целях общественной безопасности. Амитал-кофеиновое растормаживание, «сыворотку правды» берегли для таких «скрытников», каким был Суббота. Но Алексей был хитрее даже химии. Он знал, как и когда ему предложат попить в кабинете Сан Саныча «кофейку» и поэтому всегда носил в кармане кусочек сала. Если его проглотить перед экзекуцией, то действие «растормаживания» могло не произойти или произойти с большой задержкой. Только от уколов нельзя было ничем защититься. Суббота пасовал перед химией, введенной напрямую в кровь.
4
Однажды покойник появился в палате Субботы днем, когда больница варилась в собственном соку весеннего безумия, как в скороварке с запломбированным выпускным клапаном. Того и гляди взорвется и обдаст слизью общего сумасшествия высокие потолки и стены казенного дома. Вырвется лава наружу и обожжет. Такое не раз случалось. Весенние бунты напоминали извержение вулканов. Какой-нибудь один обитатель первого буйного начинал цепную реакцию, которая моментально распространялась по всему отделению, вспыхивали стихийные мятежи, которые давились самым жестоким образом: смирительные рубахи на зачинщиках, наблюдательная палата и галоперидол… много галоперидола. Или шоковая терапия.
Если инсулиновая, то со временем больной распухал, глаза становились похожи на стеклянные пуговицы, а тело на мешок, наполненный водой и жиром. К концу инсулиновой терапии глаза превращались в щелки, а больной не мог передвигаться самостоятельно. Он только лежал.
Катализатором к бунту могла послужить какая-нибудь ерунда, к примеру – легкомысленная передачка по телевидению, которую администрация больницы по цензурному недогляду позволила посмотреть больным. Телевизор на отделении был подвешен под самый потолок в прозрачном кубе из оргстекла – так высоко, что его не сумел бы достать в прыжке даже Ванька Длинный по прозвищу Дон Кихот, шизофреник и спекулянт из первой палаты. Длинный был из хиппарей-семидесятников, с помощью мамы-санитарки выхлопотал себе диагноз «клептомания на фоне шизофрении», всю жизнь воровал и кололся, курил анашу, а когда его задерживала милиция-полиция, то из суда Ваньку Длинного сразу же направляли в психушку, в которой до сих пор трудилась его престарелая мать. Длинный мог достать водку, наркотики, чай. Санитары, которые занимались таким же «бизнесом» терпели конкурента, но стремились подгадить при случае. Выживавшая из ума санитарка, мама Длинного, была уже вне авторитета.
У телевизора больные собирались по выходным дням. Сначала им разрешали смотреть новости по центральным каналам, затем быстро поняли, что новости могут оказаться взрывоопаснее любого «художественного» боевика или триллера с кровавыми разборками, поэтому цензурная комиссия во главе с Виллером позволила смотреть только один канал – «Культура». Чаще всего включали унылые и длинные «портянки» о классической музыке или о художественных творениях великих живописных мастеров. Но и тут было не все так гладко. Когда стали показывать полотна французских импрессионистов и представителей современной американской школы живописи, пациенты первого буйного чуть не ходили на головах, узрев кусочки обнаженного женского тела.
В массовых культурных мероприятиях Суббота участия не принимал. Он держался особняком и старался быть как можно неприметнее для персонала. Так было легче вынашивать план побега.
Больше всего он не мог терпеть так называемые «сводные танцульки» с женщинами из третьего отделения, которым заведовал Виллер. Для маститого доктора это был очередной эксперимент. Для больных – испытание, издевательство над живой плотью. Кое-кто даже умудрялся влюбляться и страдать. Женщин раз в месяц приводили в красный уголок под конвоем санитарок. Включали музыку, пары соединялись, за ними пристально наблюдал конвой, потом мужчин и женщин разъединяли, кого-то приходилось силком оттаскивать. Вопли, крики, рыдания. И высокий, как у пастора, голос Генриха Яновича:
– По существующему законодательству никто из вас не имеет право жениться или выходить замуж. Потому что у каждого из вас есть опекуны. Только они вправе решать ваше будущее. Зарубите себе на носу. Шизофрения передается по наследству.
В тот же вечер по отделениям разносили компот с бромом, успокаивающим сексуальные позывные и делающим весенние сны серыми, унылыми, зимними, как сны кессонников на подводной лодке.
Впрочем, нравилась Алексею одна девушка из третьего отделения. Звали ее Вероника. Лечилась от депрессии. Глаза у нее были особенные: многоцветные, радужные, веснушки лепились по всему кругленькому белому личику. Все ее лицо словно протестовало против того диагноза, с которым она лежала в третьем женском. Она была скромна, молчалива, ни с кем не танцевала, а приходила в первое мужское, видимо, за компанию или от скуки. Суббота приметил ее давно и вскоре уже с удивлением наблюдал за собой, как Вероника стала проникать его сны – редко, но явственно, и всегда в ароматных апельсиново-оранжевых грезах.
Шаман явился в палату к Субботе одетым в какое-то больничное тряпье, с веревкой на шее вместо галстука. Старик беззвучно смеялся, и седая борода его смеялась вместе с ним. Он поманил Алексея за собой. Субботе показалось, что покойник был пьян.
– Пойдем на Бульвар Грез, поболтаем, – предложил он, оставляя на тумбочке у Субботы одну из своих книг. – Ты ведь хочешь убежать отсюда, не так ли?
Бульваром Грез писатель называл длинный и узкий коридор, растянувшийся вдоль всех палат, по которому денно и нощно бродили пациенты. В палатах оставались обессиленные, старые или какие-нибудь особенные шизофреники, например представители редкой эмбриональной шизофрении, которые всегда, молча, лежали на постелях в формах человеческих эмбрионов, и, кажется, всеми правдами и неправдами мечтали залезть снова в утробы матерей, чтобы только не рождаться.
Заметив седобородого старичка с веревкой на шее, санитарка Глафира Сергеевна набросилась на него.
– Опять покою никому не даешь, девятая нехорось! – крикнула она, замахиваясь скрученным в узел мокрым вафельным полотенцем. – На кой ляд опять пришел баламутить больных? Сколько лет ты уже там находишься, а покою так и не обрел. И галстук на шею напялил, будто бы тебя тут повесили. Брехун. То-то тебя, видно, Бог не принимает. А я вот схожу в Сергиевскую церковь и святой водички запасу. Специально для тебя, паразит. Опрыскаю по всему отделению, чтобы висельники, вроде тебя, и носу не показывали. А ты, Суббота, не слушай его. Он тебе всяких небылиц натреплет. Писака же! – Она булькнула смешком, потом затряслась толстая плоть ее, и гулкий хохот прокатился по отделению. – Брешет всем, что его в нашей больнице закололи насмерть. Не верь покойникам. Видишь, его туда не хотят принимать?! Что зенки бесстыжие вылупил? – надвинулась тетя Глаша на Шамана. – Десятая нехорось!
– Пойдем поскорее от этой бестии, – шепнул писатель и увлек Субботу дальше в толпу людей. – Уж сколько лет прошло, а у вас ничего не поменялось. Те же грубые санитарки с вафельными полотенцами, те же врачи, для которых мы находимся на другой стороне баррикады. Меня кололи такой дрянью, что я сам готов был в петлю полезть. Сняли. Добренькие санитары, мать их! Срезали.
Бульвар Грез. Десятка три всклокоченных возбужденных мужчин в выцветших красных вельветовых пижамах с неряшливо нарисованной хлорной единичкой на уголках карманов. Лица желто-серые, перекошенные гримасами безумия. Ожившие персонажи полотен Питера Брейгеля или Эдварда Мунка. Среди них, впрочем, несколько нормальных, даже благообразных лиц. Молоденький симпатичный парень – «юноша бледный со взором горящим» – студент университета Яшка, укусивший нечаянно во время осложнения после «свиного» гриппа кроличью шапку и теперь все время отплевывавшийся… вот уже год. Плавный и задумчивый шизофреник Курочкин, художник, размозживший два года назад кому-то из соседей по дому голову бронзовой статуэткой Будды под воздействием «голосов». Зеленые стены вдоль Бульвара Грез сплошь усеяны его прекрасными картинами. В них и радость, и горечь, и тоска. И много-много счастья. Странный тип. Приходит в больницу сам два раза в год. Единственный шизофреник из буйного отделения, которому позволительно выходить на уличные работы.
– Чтобы бежать, нужно ясно представлять, для чего тебе это нужно, – продолжал Шаман. – Свобода внешняя нужна только тому, кто не свободен внутренне. Однако здесь все нацелено на то, чтобы отнять и внутреннюю свободу. Поэтому я помогу тебе. Но при одном условии. Необходимо бежать ради какой-то большой идеи. Запомни, духовный мир так плотно стянут изнутри, что капля зла может уничтожить целый город. И, напротив, капля милосердия может спасти весь мир. Я хочу, чтобы твой побег был той каплей милосердия, которая поможет спасти мир. Я расскажу тебе все. Когда и что нужно сделать. Твоя задача – сохранить нашу тайну от грязных инструментов Замыслова и Виллера. Психиатрия была и есть орудие усмирения.
– Я согласен, – ответил Суббота.
– Когда меня упекли в психушку, я знал, какую свободу хотел. Но теперь? У вас бесплатно есть та свобода, за которую мы страдали, готовы были умереть. Но у вашего поколения отняли нечто большее, дав такую свободу, – он усмехнулся, оголив совершенно беззубый рот, – от которой теперь не знаешь, куда и бежать. В Америку от такой свободы не убежишь. Искать прибежище нужно только в своем сердце. В какой-то степени я завидую вашему поколению. Теперь вы можете пострадать за настоящую свободу, а не за ее призрак. Мы были наивны и напоминали одного французского философа, который сказал, что он будет страдать даже от запрета посетить страну, в которой он и без того бывать никогда не захочет. Вот такая жажда внешней свободы была у нас. Мы готовы были драться за одну эфемерную идею свободы перемещения. Какая чушь! Любовь выше свободы. Но тогда я этого еще не знал, – печально прибавил Глеб Иванович. – Да. Нет никакого противопоставления любви и свободы. Свобода от любви – это бред сумасшедшего.
Проходя мимо зеркала, запакованного в броню оргстекла, Алексей на мгновение задержался, чтобы привести в порядок всклокоченные рыжие волосы. Позади уже напирали. Люди шли живой дергающейся цепью всегда в одном и том же направлении против часовой стрелки, и, если кто-то тормозил толпу, пациенты начинали роптать. Суббота грубо толкнул локтем Кубинца, маленького темноликого человечка, который был заводилой почти во всех драках, однако тот, увидев Шамана, боязливо подобрался, кивнул головой и тихо прошмыгнул мимо Субботы. Другие также безропотно принялись обходить Алексея, который внимательно изучал в зеркале свое лицо.
– Жизнь дала трещину в районе жопы! – раздался вскоре вопль Кубинца. – В блицкриг играют только немцы. До мировой революции остался один плевок.
Кто-то в цепочке захохотал. Кубинец с самого утра наедался всухомятку чаю в туалете, запивая его водой из-под крана, а потом ходил «на бодрячке» весь день, извергая шизофренические истины. Отрезанная голова, помещенная в рассол собственного сумасшествия. Шустрый пятидесятилетний старичок, который возомнил себя Фиделем Кастро и грозил всем породить новую мировую революцию.
– Жизнь дала трещину в районе… – уже гремело впереди толпы. – До мировой революции один плевок.
Движение на Бульваре Грез нарастало. Алексей с неудовольствием окинул взглядом свое небритое лицо с темными и запавшими глазами и худобой, связанной с неестественными процедурами промывания желудка, которые приходилось делать иногда по два раза на дню. «Нужно будет попросить Елену Прекрасную записать меня к пятничному парикмахеру», – подумал он и двинулся вслед за больными. – «Выгляжу, как сумасшедший. Кандидат философских наук».
Если кто-то из пациентов сбивался с ритма и начинал движение вспять, толпа могла не просто оттеснить его, но и потрепать изрядно.
Впереди Субботы плавно вышагивал художник Курочкин. Его высокая сутулая спина двигалась размеренно, как у «корабля пустыни». Курочкин родом был из Узбекистана, а люди, которые приезжали оттуда в Россию, бросались в глаза в первую очередь своей размеренной походкой. Алексей пошел медленнее.
Юрий Валентинович Меркеев
Это своего рода продолжение романа «Трещинка», которую критики восприняли как прорыв в современной литературе. Один из всемирно известных профессоров и культурологов Юрий Бондаренко в 3 книге о российской современной культуре назвал книгу своеобразной и не похожей ни на «Бунт в психушке» американца Кена Кизи, ни на чеховскую «Палату номер 6», ни на «Мастера и Маргариту», с которой многие пытались олицетворить «Трешинку». Новое – «Кессонники и Шаман» – это не столько бунт, сколько Любовь!
Кессонники и Шаман
Для любителей магического реализма
Юрий Валентинович Меркеев
© Юрий Валентинович Меркеев, 2017
ISBN 978-5-4483-2757-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1
Он так страстно мечтал о побеге, так мучительно долго жил с этой мыслью взаперти, тайно страдая от невозможности ни с кем поделиться, что, в конце концов, смирился с тем, что никогда никуда не убежит. Перегорел, сжег в топке жарких мечтаний, влюбился, женился на этой мысли и родил мертвый плод. Суббота был одиночка, но для него одиночество не было бегством от больных, скорее – бегством больного. Впрочем, он не сумел сделать даже этого: убежать от людей и спрятаться в самом себе. Не сумел, потому что был болен. Потому что люди, которые окружали его, тоже были больны – не меньше Субботы, а, может быть, и больше. Нельзя больному удрать от больных, невозможно больному полюбить больных так, чтобы соединиться и стать частью единого. Даже сострадать невозможно больным, пока сам не станешь здоровым.
Мысль совершить побег из больницы стала его молитвой, внутренним вектором, смыслом жизни. Эту мысль он вынашивал, лелеял ее, с нею ложился в постель, как на брачное ложе, с нею просыпался и засыпал. С этой мыслью он принимал из рук медсестры пилюли, глотал их, залезал в подводную лодку и погружался на глубину. Сны тяжелые, свинцовые, холодные, как у подводника, хапнувшего кессонную болезнь. Утром подводная лодка всплывала, Суббота пил тошнотворный чай, шлепал в тапочках, тяжелых, как гири, в туалет, притворялся здоровым, врал Сан Санычу, лечащему врачу о том, что знает, что болен и мечтает об исцелении, натянуто улыбался, пошло шутил, а во рту у него была полынная горечь от всего, что его окружало. Тошнота. Кругом одна тошнота… Он смотрел снисходительно на мерзкие проделки санитара Василия, похожего на большую черную бородатую женщину – только потому, что Василий часто не замечал нарушения дисциплины со стороны больных, а если бы заметил, то многие пациенты первого буйного, включая Субботу, давно оказались бы в наблюдательной палате под двойным «контролем» галоперидола. Суббота врал самому себе и окружающим. Брачное ложе, которое он делил с мыслью, не родило плода. Его мечтательная беременность идеей побега оказалась ложной.
И тогда Алексей перестал принимать лекарства. Когда к нему приближалась медсестра с тележкой, усеянной стаканчиками с водой, пилюлями и записками с адресатами, он улыбался Елене Прекрасной, улыбался женщине, которую хотел провести, послушно открывал рот, принимал из ее тошнотворно пахнущих рук три красно-белые капсулы, делал вид, что проглатывает их, запивал водой, вытаскивал язык для осмотра. Елена Сергеевна убеждалась, что лекарство проглочено и увозила тележку дальше. А Суббота вытаскивал из-под кровати тапки-блины и летел в туалет, и с помощью двух пальцев выворачивал все содержимое желудка наружу. Ночь и день были отыграны у неволи. Теперь не было подводной лодки, кессонной болезни и мерзкой холодной серой пелены. Наступала иная реальность, в которой мертвый плод воскресал. Мечта о побеге расцветала в ярких красивых оранжево-мандариновых снах, где явь и фантазия менялись местами, уступая друг другу с церемониальной вежливостью царственных особ. Шизофрения… Диагноз, с которым Алексей Иванович Суббота попал в очередной раз в психоневрологическую клинику номер один, звучал именно так: шизофрения параноидального круга. «Эс-цэ-ха», как выражались в присутствии пациента мудрые бородатые доктора, пытаясь обмануть латынью доверчивых больных, иногда не понимая того, что больные не так просты, и умеют притворяться и обманывать врачей. Вечная диалектика, единство и борьба двух противоположностей… Суббота все понимал. И по-прежнему жил мечтой о побеге – теперь с другим вектором и другими снами. Алексей не позволит больше никому из докторов отрезать свою голову и сажать ее в рассол чужих мыслей, чтобы эта голова начала извергать прописные истины. Хватит! Теперь он сам Господин Субботы. Он Человек!
2
Первая клиническая и в самом деле напоминала нечто реликтовое, выбравшееся на сушу со дна океана. Не столько подводную лодку, сколько остов выброшенного на берег древнего корабля – остов, покрытый ракушками и зеленой плесенью. Забытый Богом отсек спасшегося от всемирного потопа ковчега праведного Ноя. Забытый, потому что Бог, спустившись в ад, проглядел первую клиническую, притворившуюся водорослями и останками рыб. Видимо, долго лежала она на дне ада, что даже в глубоководный телескоп Бог Любви не сумел ее разглядеть в слое темного ила.
Больница располагалась в низине, на окраине города, в пойменных лугах Волги, которая иногда разливалась и затапливала подвалы психотерапевта Виллера. В них Генрих Янович лечил частным образом богатых невротиков с помощью гипноза, избавлял толстосумов от многочисленных панических атак, неврозов навязчивых состояний и страха… о да, главное – страха, который пропитывал жизнь бизнесменов с головы до пят. Страх липкий, тревожный, отвратительный, метафизический… страх, который нужно было лечить с помощью «отрезания голов и помещения их в рассол чужих мыслей». Никогда еще у Генриха Яновича не было столько благодарных пациентов. Не только мужчин, но и женщин, у которых вслед за мужьями развивались страхи. Тут был иной страх – земной, приземистый, тяжелый. Иногда для лечения хватало одного сеанса погружения в гипноз. Иногда – резкого окрика и шлепка по заднице специальной войлочной тапочкой, о которой уже слагались легенды. Виллер так силен, что ему достаточно шлепнуть пациентку по заднице волшебной тапкой. А подвалы, которые ему бесплатно копали «зеленые больные», иногда затапливало, и тут уже не хватало Виллеровского волшебства. Первая клиническая была далека от герметичности подводной лодки – она текла.
А рядом с ней ступенью повыше белел новеньким кирпичом крупный водочный комбинат Зыкова, еще выше сверкала церковь. И все было, как в государстве Российском, – шутили больные: наверху Бог, чуть ниже водка, а на самом дне сумасшествие. Шутили и не боялись – что возьмешь с дурачков? Русская троица, говорили они: водка, церковь и казенный дом.
Зданию больницы было больше ста лет. Раньше тут располагалось поместье какого-то известного земского деятеля, после революции – психушка. В советское время в доме скорби держали диссидентов на заочных диагнозах: посмеют дернуться на Запад, а у них, оказывается, шизофрения. Сутяжно-параноидальный синдром. Расхожий диагноз имперского времени. Местный писатель Шаманов, книги которого находились в библиотеке первой городской, когда-то лежал за свои слишком свободные измышления в этой больнице с вышеозначенным диагнозом в буйном отделении, где содержался Суббота. Алексей Иванович обожал читать книги Шаманова, и когда мозг воспринимал печатные буквы, то нередко видел, как с пожелтевшей от времени бумаги стекало соленое, как слезы писателя, миро: «Есть люди, – писал Шаман, – похожие на глубокие подземные лабиринты. Чем дальше погружаешься в них, тем больше возникает загадок и тайн. Попадаются в их недрах шахты, наполненные странными существами, дремлющими до той поры, покуда инструмент исследователя не коснется их демонической сути. Попадаются красивые незамутненные источники, озера с кристально – чистой питьевой водой, целые „байкалы“. Встречаются дурманящие болота с гнилостными испарениями, от которых кружится голова и путаются мысли. Но случаются и дворцы из чистого золота и алмазов. В таких дворцах чувствуешь себя легко и свободно, словно в сказке, великолепие красоты услаждает взор. Когда общаешься с такими людьми, поневоле испытываешь глубокое уважение, ибо люди эти – легенда, их жизнь туго вплетена в узор мироздания, их опыт – всегда раскрытая книга. Кому посчастливится прочитать ее, тот найдет в ней ответы на все вопросы».
Да. Так было. Так и есть. Так было сорок лет назад, когда жив был писатель Глеб Иванович Шаманов, так есть сейчас. Умер Шаман, по официальной версии, от раковой опухоли. По слухам же, был до смерти залечен в первой городской. Об этом не говорили люди, но стены здешние видели все. По ночам Суббота иногда встречал на отделении сухонького седого старичка, в котором узнавал любимого писателя, часто заговаривал с ним о сокровенном. С кем еще можно было поделиться тайной, кроме покойника? Беседы прерывались Еленой Прекрасной, которая торопилась увести Субботу на тропу, где отрезаются головы и сажаются в рассол. Старик, разумеется, удалялся. В одной из книг он досконально описал быт больничного ада. «Кажется, ад, – писал он. – Кажется, самое дно ада. Но прислушаешься и… чу! А снизу-то кто-то стучится?! Значит, внизу еще один ад, еще более мерзкий, чем этот». Все так. Было и есть. Возможно, и будет.
3
Больница была обнесена глухой кирпичной стеной с колючей проволокой наверху, задекорированной под желто-зеленый плющ. Все было продумано до мелочей. Каждый цвет нес в себе свою энергию, свой отпечаток. Зеленый – спокойный, умиротворяющий, чуть теплый. Желтый – горячий, с легким предупреждением об опасности, приятный, впрочем, на ощупь и вкус, как спелое яблоко или сладкий апельсин. Красный бил по глазам, означал огонь и опасность. Не тронь! Будет худо.
Внутренний дворик психбольницы был всегда до чистоты убран. Трудотерапия. Бесплатная рабочая сила из числа безропотных зеленых и желтых. Да, так было и есть. Три категории пациентов: зеленые, желтые и красные – в зависимости от цвета крохотного треугольника, приклеенного к лицевой стороне историй болезней. Кто был помечен красным треугольником, считался социально-опасным, склонным к побегу, к любому противоправному действию. Мог «включить в свой бред» любого из врачей или санитаров и отомстить с особой жестокостью. Красных усиленно охраняли, не выпускали на улицу ни под каким предлогом. Только форточка в зарешеченном окне туалета первого буйного отделения была той самой «трещинкой», про которую известный поэт сказал, что она может стать «лазейкой на волю».
Зеленые и желтые работали дворниками, подсобниками в слесарно-столярных мастерских, их допускали помогать готовить и разносить обеды. Иными словами, им доверяли, как пастухи-пастыри доверяют своим овечкам.
Красным не только не доверяли, но и стремились выведать все самое сокровенное, называя «тайное» бредом, который необходимо было раскрыть в целях общественной безопасности. Амитал-кофеиновое растормаживание, «сыворотку правды» берегли для таких «скрытников», каким был Суббота. Но Алексей был хитрее даже химии. Он знал, как и когда ему предложат попить в кабинете Сан Саныча «кофейку» и поэтому всегда носил в кармане кусочек сала. Если его проглотить перед экзекуцией, то действие «растормаживания» могло не произойти или произойти с большой задержкой. Только от уколов нельзя было ничем защититься. Суббота пасовал перед химией, введенной напрямую в кровь.
4
Однажды покойник появился в палате Субботы днем, когда больница варилась в собственном соку весеннего безумия, как в скороварке с запломбированным выпускным клапаном. Того и гляди взорвется и обдаст слизью общего сумасшествия высокие потолки и стены казенного дома. Вырвется лава наружу и обожжет. Такое не раз случалось. Весенние бунты напоминали извержение вулканов. Какой-нибудь один обитатель первого буйного начинал цепную реакцию, которая моментально распространялась по всему отделению, вспыхивали стихийные мятежи, которые давились самым жестоким образом: смирительные рубахи на зачинщиках, наблюдательная палата и галоперидол… много галоперидола. Или шоковая терапия.
Если инсулиновая, то со временем больной распухал, глаза становились похожи на стеклянные пуговицы, а тело на мешок, наполненный водой и жиром. К концу инсулиновой терапии глаза превращались в щелки, а больной не мог передвигаться самостоятельно. Он только лежал.
Катализатором к бунту могла послужить какая-нибудь ерунда, к примеру – легкомысленная передачка по телевидению, которую администрация больницы по цензурному недогляду позволила посмотреть больным. Телевизор на отделении был подвешен под самый потолок в прозрачном кубе из оргстекла – так высоко, что его не сумел бы достать в прыжке даже Ванька Длинный по прозвищу Дон Кихот, шизофреник и спекулянт из первой палаты. Длинный был из хиппарей-семидесятников, с помощью мамы-санитарки выхлопотал себе диагноз «клептомания на фоне шизофрении», всю жизнь воровал и кололся, курил анашу, а когда его задерживала милиция-полиция, то из суда Ваньку Длинного сразу же направляли в психушку, в которой до сих пор трудилась его престарелая мать. Длинный мог достать водку, наркотики, чай. Санитары, которые занимались таким же «бизнесом» терпели конкурента, но стремились подгадить при случае. Выживавшая из ума санитарка, мама Длинного, была уже вне авторитета.
У телевизора больные собирались по выходным дням. Сначала им разрешали смотреть новости по центральным каналам, затем быстро поняли, что новости могут оказаться взрывоопаснее любого «художественного» боевика или триллера с кровавыми разборками, поэтому цензурная комиссия во главе с Виллером позволила смотреть только один канал – «Культура». Чаще всего включали унылые и длинные «портянки» о классической музыке или о художественных творениях великих живописных мастеров. Но и тут было не все так гладко. Когда стали показывать полотна французских импрессионистов и представителей современной американской школы живописи, пациенты первого буйного чуть не ходили на головах, узрев кусочки обнаженного женского тела.
В массовых культурных мероприятиях Суббота участия не принимал. Он держался особняком и старался быть как можно неприметнее для персонала. Так было легче вынашивать план побега.
Больше всего он не мог терпеть так называемые «сводные танцульки» с женщинами из третьего отделения, которым заведовал Виллер. Для маститого доктора это был очередной эксперимент. Для больных – испытание, издевательство над живой плотью. Кое-кто даже умудрялся влюбляться и страдать. Женщин раз в месяц приводили в красный уголок под конвоем санитарок. Включали музыку, пары соединялись, за ними пристально наблюдал конвой, потом мужчин и женщин разъединяли, кого-то приходилось силком оттаскивать. Вопли, крики, рыдания. И высокий, как у пастора, голос Генриха Яновича:
– По существующему законодательству никто из вас не имеет право жениться или выходить замуж. Потому что у каждого из вас есть опекуны. Только они вправе решать ваше будущее. Зарубите себе на носу. Шизофрения передается по наследству.
В тот же вечер по отделениям разносили компот с бромом, успокаивающим сексуальные позывные и делающим весенние сны серыми, унылыми, зимними, как сны кессонников на подводной лодке.
Впрочем, нравилась Алексею одна девушка из третьего отделения. Звали ее Вероника. Лечилась от депрессии. Глаза у нее были особенные: многоцветные, радужные, веснушки лепились по всему кругленькому белому личику. Все ее лицо словно протестовало против того диагноза, с которым она лежала в третьем женском. Она была скромна, молчалива, ни с кем не танцевала, а приходила в первое мужское, видимо, за компанию или от скуки. Суббота приметил ее давно и вскоре уже с удивлением наблюдал за собой, как Вероника стала проникать его сны – редко, но явственно, и всегда в ароматных апельсиново-оранжевых грезах.
Шаман явился в палату к Субботе одетым в какое-то больничное тряпье, с веревкой на шее вместо галстука. Старик беззвучно смеялся, и седая борода его смеялась вместе с ним. Он поманил Алексея за собой. Субботе показалось, что покойник был пьян.
– Пойдем на Бульвар Грез, поболтаем, – предложил он, оставляя на тумбочке у Субботы одну из своих книг. – Ты ведь хочешь убежать отсюда, не так ли?
Бульваром Грез писатель называл длинный и узкий коридор, растянувшийся вдоль всех палат, по которому денно и нощно бродили пациенты. В палатах оставались обессиленные, старые или какие-нибудь особенные шизофреники, например представители редкой эмбриональной шизофрении, которые всегда, молча, лежали на постелях в формах человеческих эмбрионов, и, кажется, всеми правдами и неправдами мечтали залезть снова в утробы матерей, чтобы только не рождаться.
Заметив седобородого старичка с веревкой на шее, санитарка Глафира Сергеевна набросилась на него.
– Опять покою никому не даешь, девятая нехорось! – крикнула она, замахиваясь скрученным в узел мокрым вафельным полотенцем. – На кой ляд опять пришел баламутить больных? Сколько лет ты уже там находишься, а покою так и не обрел. И галстук на шею напялил, будто бы тебя тут повесили. Брехун. То-то тебя, видно, Бог не принимает. А я вот схожу в Сергиевскую церковь и святой водички запасу. Специально для тебя, паразит. Опрыскаю по всему отделению, чтобы висельники, вроде тебя, и носу не показывали. А ты, Суббота, не слушай его. Он тебе всяких небылиц натреплет. Писака же! – Она булькнула смешком, потом затряслась толстая плоть ее, и гулкий хохот прокатился по отделению. – Брешет всем, что его в нашей больнице закололи насмерть. Не верь покойникам. Видишь, его туда не хотят принимать?! Что зенки бесстыжие вылупил? – надвинулась тетя Глаша на Шамана. – Десятая нехорось!
– Пойдем поскорее от этой бестии, – шепнул писатель и увлек Субботу дальше в толпу людей. – Уж сколько лет прошло, а у вас ничего не поменялось. Те же грубые санитарки с вафельными полотенцами, те же врачи, для которых мы находимся на другой стороне баррикады. Меня кололи такой дрянью, что я сам готов был в петлю полезть. Сняли. Добренькие санитары, мать их! Срезали.
Бульвар Грез. Десятка три всклокоченных возбужденных мужчин в выцветших красных вельветовых пижамах с неряшливо нарисованной хлорной единичкой на уголках карманов. Лица желто-серые, перекошенные гримасами безумия. Ожившие персонажи полотен Питера Брейгеля или Эдварда Мунка. Среди них, впрочем, несколько нормальных, даже благообразных лиц. Молоденький симпатичный парень – «юноша бледный со взором горящим» – студент университета Яшка, укусивший нечаянно во время осложнения после «свиного» гриппа кроличью шапку и теперь все время отплевывавшийся… вот уже год. Плавный и задумчивый шизофреник Курочкин, художник, размозживший два года назад кому-то из соседей по дому голову бронзовой статуэткой Будды под воздействием «голосов». Зеленые стены вдоль Бульвара Грез сплошь усеяны его прекрасными картинами. В них и радость, и горечь, и тоска. И много-много счастья. Странный тип. Приходит в больницу сам два раза в год. Единственный шизофреник из буйного отделения, которому позволительно выходить на уличные работы.
– Чтобы бежать, нужно ясно представлять, для чего тебе это нужно, – продолжал Шаман. – Свобода внешняя нужна только тому, кто не свободен внутренне. Однако здесь все нацелено на то, чтобы отнять и внутреннюю свободу. Поэтому я помогу тебе. Но при одном условии. Необходимо бежать ради какой-то большой идеи. Запомни, духовный мир так плотно стянут изнутри, что капля зла может уничтожить целый город. И, напротив, капля милосердия может спасти весь мир. Я хочу, чтобы твой побег был той каплей милосердия, которая поможет спасти мир. Я расскажу тебе все. Когда и что нужно сделать. Твоя задача – сохранить нашу тайну от грязных инструментов Замыслова и Виллера. Психиатрия была и есть орудие усмирения.
– Я согласен, – ответил Суббота.
– Когда меня упекли в психушку, я знал, какую свободу хотел. Но теперь? У вас бесплатно есть та свобода, за которую мы страдали, готовы были умереть. Но у вашего поколения отняли нечто большее, дав такую свободу, – он усмехнулся, оголив совершенно беззубый рот, – от которой теперь не знаешь, куда и бежать. В Америку от такой свободы не убежишь. Искать прибежище нужно только в своем сердце. В какой-то степени я завидую вашему поколению. Теперь вы можете пострадать за настоящую свободу, а не за ее призрак. Мы были наивны и напоминали одного французского философа, который сказал, что он будет страдать даже от запрета посетить страну, в которой он и без того бывать никогда не захочет. Вот такая жажда внешней свободы была у нас. Мы готовы были драться за одну эфемерную идею свободы перемещения. Какая чушь! Любовь выше свободы. Но тогда я этого еще не знал, – печально прибавил Глеб Иванович. – Да. Нет никакого противопоставления любви и свободы. Свобода от любви – это бред сумасшедшего.
Проходя мимо зеркала, запакованного в броню оргстекла, Алексей на мгновение задержался, чтобы привести в порядок всклокоченные рыжие волосы. Позади уже напирали. Люди шли живой дергающейся цепью всегда в одном и том же направлении против часовой стрелки, и, если кто-то тормозил толпу, пациенты начинали роптать. Суббота грубо толкнул локтем Кубинца, маленького темноликого человечка, который был заводилой почти во всех драках, однако тот, увидев Шамана, боязливо подобрался, кивнул головой и тихо прошмыгнул мимо Субботы. Другие также безропотно принялись обходить Алексея, который внимательно изучал в зеркале свое лицо.
– Жизнь дала трещину в районе жопы! – раздался вскоре вопль Кубинца. – В блицкриг играют только немцы. До мировой революции остался один плевок.
Кто-то в цепочке захохотал. Кубинец с самого утра наедался всухомятку чаю в туалете, запивая его водой из-под крана, а потом ходил «на бодрячке» весь день, извергая шизофренические истины. Отрезанная голова, помещенная в рассол собственного сумасшествия. Шустрый пятидесятилетний старичок, который возомнил себя Фиделем Кастро и грозил всем породить новую мировую революцию.
– Жизнь дала трещину в районе… – уже гремело впереди толпы. – До мировой революции один плевок.
Движение на Бульваре Грез нарастало. Алексей с неудовольствием окинул взглядом свое небритое лицо с темными и запавшими глазами и худобой, связанной с неестественными процедурами промывания желудка, которые приходилось делать иногда по два раза на дню. «Нужно будет попросить Елену Прекрасную записать меня к пятничному парикмахеру», – подумал он и двинулся вслед за больными. – «Выгляжу, как сумасшедший. Кандидат философских наук».
Если кто-то из пациентов сбивался с ритма и начинал движение вспять, толпа могла не просто оттеснить его, но и потрепать изрядно.
Впереди Субботы плавно вышагивал художник Курочкин. Его высокая сутулая спина двигалась размеренно, как у «корабля пустыни». Курочкин родом был из Узбекистана, а люди, которые приезжали оттуда в Россию, бросались в глаза в первую очередь своей размеренной походкой. Алексей пошел медленнее.