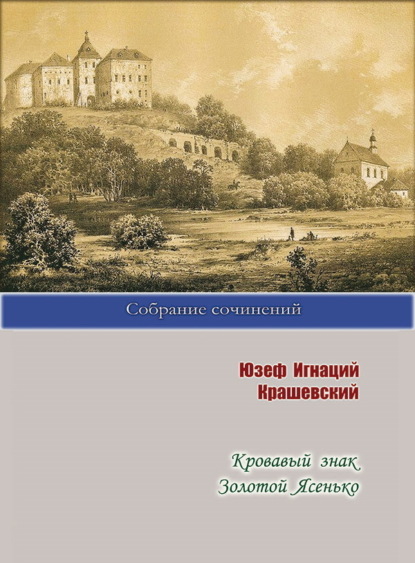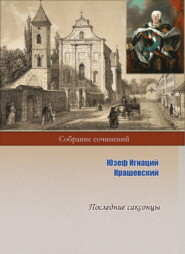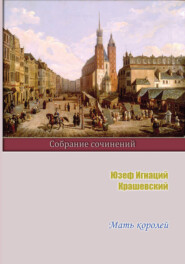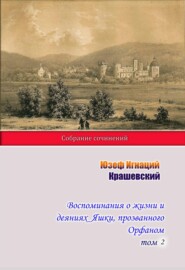По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кровавый знак. Золотой Ясенько
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот, хоть то сокровище было предназначено для костёла, как гласило предание, не спала жадность, чтобы его себе присвоить, и тот, и этот долбили и сверлили около пня и алтаря, а вдруг на него наткнутся! А поскольку люди в необходимости могут себе ложно всё объяснить, сказали друг другу: если сокровище достанется духовному лицу, то все-таки костёлу, потому что духовный принадлежит к костёлу. Но это вещи сторонние и к моему анекдоту как раз не относящиеся. В общем, не знаю уже когда и при котором пробоще ризничий, который о том скарбе знал от предшественника, начал пробовать, не будет ли он удачливее других.
Тогда он поднял по одной плитке пол и железным штырём проверял землю. Один раз железо о что-то стукнуло, точно о крышку сундука или ящика. Ризничий чуть с ума не сошёл – пошёл к пробощу, потому что, хоть хотел бы от него скрыть эту тайну, не имел способа. Один бы не справился, поэтому должен был кого-то вызвать на помощь, а предпочитал уж пробоща, чем другого. Ксендз поддался искушению. Ночью пошли в костёл, пробуют, гремят, раздаётся эхо… что-то есть. Дальше к заступам, лопатам, мотыгам, землю вдвоем выносят. Не шло это легко, потому что нужно было рыть достаточно глубоко, а выкопанную землю скрывать, чтобы люди не догадались, и днём яму плитой накрывать.
Словом, в течение трёх ночей они хорошо намучились и ризничий чуть не надорвался, когда наконец показалась железная крышка… Новые проблемы – как ее поднять, что с ней делать? Ксендз был не очень сильный; хотели сначала её поддеть, но она не дрогнула, как прикованная. Обкопали вокруг. С одной стороны показались крепкие замки; что если попробовать открыть ключами, какие находились только при костёле! Ни один не подошел. Измучились напрасно. На другую ночь ризничий, достав молоток и долото, начал отбивать. Наверное, думали, что золото будут горстями выносить… когда стучали, им отзывалось золото. Деньги есть! Но в костёле, ночью, да еще в таком, который стоит на улице и в людном месте, где в любое время по Гродской улице снуют люди, шуметь и звенеть было нельзя… шло тогда очень медленно.
А тут донимали и недостойная жадность, и ужасное любопытство. Чуть не расхворались. Замки, как зачарованные, не поддавались. Сразу заметили, что был не один, но три, а все такие закаленные, что их вековая ржа не коснулась… Взялся тогда ризничий за главный, и как-то его все-таки отворил, но когда другой открывал, первый снова захлопнулся; а так как было их три, расценили, что сундук не откроют, если не воспользуются третьим помощником.
Тот умный изобретатель сундука хорошо придумал, чтобы к сокровищу плохие люди не смогли своевольно притронуться, ибо когда двое, трудно сохранить тайну, когда трое – невозможно.
Не было, однако же, иного средства, только пригласить слесаря, взяв с него клятву свято сохранить тайну. Пробощ уговорил прийти на следующую ночь очень набожного мастера, который должен был управлять работой. Спустились тогда в выкопанную яму и долбили при фитилях и свечках. Что же вы скажете? Прошёл месяц, а справиться не могли, аж все высохли в дощечку, ни есть, ни пить, ни спать не могли, ризничий уже кровью начал плевать, горячка его мучила. Наконец на пятой, по-видимому, или шестой неделе открыли все три замка вместе и крышка отскочила. Но сначала из него пошёл как бы какой-то густой пар, который затмил им глаза. Бросились все вместе к сундуку, надеясь на золото и дорогие камни… Но как вам кажется, что они нашли?
– Уважаемый ксендз пробощ благодетель, – сказал Репешко, – ничего не знаю, не догадываюсь.
– На дне… – сказал старичок.
– Сундук, значит, не был полон? – прервал Репешко.
– Не только что не был полон, – добавил со смехом ксендз Земец, – но был совсем пуст… на дне лежал сгнивший кусочек пергамента и маленький позолоченный реликварик, сильно потемневший, содержащий частичку одежды Христа, согласно традиции, оторванную солдатом, когда Его обнажали, чтобы прибить на кресте. Эта реликвия большой ценности, привезенная из Иерусалима одним крестоносцем, была единственным тем сокровищем.
Пан Репешко молчал, задумчивый.
– Вот, – сказал ксендз Земец, – будьте внимательны, чтобы с любопытством и великой предприимчивостью, испытывая искушение открыть мелштынский сундук, не найти там только памятку и реликвию.
Пан Репешко покраснел бы, если бы его смуглое и загорелое лицо, похожее на выдубленную кожу, позволяло бледнеть и краснеть. Что там делалось под этой непроницаемой маской, знал только он сам. Поспешил объясниться и опротестовать, что никакое иное чувство, только любовь к ближнему, велела ему узнать людей, чтобы им, сообразно своим силам, быть полезным.
– А! Ксендз пробощ благодетель, – сказал он будто бы с легкой обидой, – как же ваше золотое сердечко могло подозревать, чтобы у меня были какие-то не совсем чистые намерения и, упаси Боже, заинтересованность входить в более близкое знакомство с панами Спытками? Как же мне горько, отец мой, что в вашем ангельском сердце я не заслужил еще мнения получше! Но свидетелем Тот, который всё видит и читает в людских сердцах самые сокровенные тайны, что я жалкий человечишка, которого судьба и собственная работа не по заслугам утешили тем, что я в поте лица и при явной Божьей опеке отхватил себе кусочек хлеба; у меня его достаточно и ничего уже не желаю, лишь бы это моё сокровище сохранить в целости и передать на добрые дела, бедному костёльчику, госпиталёчку, мессочки и в руки достойных…
– А, ну достаточно, достаточно, – прервал ксендз Земец, – это был анекдотик, чтобы поболтать. Раздавайте карты и давайте мне за это трефового валета с руки, туза и короля… и уже об этих достойных Спытках не будем говорить.
Разочаровался и тут пан Репешко, но не дал себя обыграть.
Вскоре по прибытии своем в Люблинское был он, как мы вспомнили, в Мелштынцах, но это посещение вовсе его не удовлетворило. Поехал потом второй раз и, казалось ему, что был принят еще холодней. Это его не оттолкнуло, но он чувствовал, что ему не подобало туда вламываться снова без повода; тогда дело шло о том, чтобы найти такой повод, чтобы не казался придуманным.
Было это как-то по весне, огораживали луга. Репешко, который должен был быть везде сам, а имения еще так подробно не знал, пошёл на границу в Мелштынцы, чтобы проконтролировать эту работу.
На месте он нашёл нескольких людей своих и мелштынских; они не ссорились, но живо спорили. Между двумя взгорьями, обросшими дубовым лесом, тянулся красивый лужок, а посреди него бежал уже спокойный после весенних паводков ручеёк. Был это обычный ручеёк, едва заметный среди буйных трав и цветов, подкрадывающийся по своим делам к реке, так что его там едва можно было увидеть. Он никому ни мешал, ни помогал, иногда только в нём пастушки ноги мочили, а зайцы пить приходили в засуху.
Но этот ручеёк, блёклый и невзрачный, в раннюю весну иногда позволял себе такие выходки и своеволие, что мог поссорить соседей, поскольку представлял границу между Мелштынцами и Студенницей, а исполняя такую великую общественную миссию, не вёл себя с приличествующей своим обязанностям серьезностью. Он имел необъяснимые капризы; когда ему, неизвестно почему, надоедало неудобное, размытое, галькой выстеланное ложе, он рыл себе новое, заносил песком луга, портил травы и появлялся неожиданно там, где вовсе не имел права гостить, отрывая то мелштынский луг, то студенницкий. Если бы он был крестьянским, люди между собой как-нибудь договорились бы, но экономы обоих фольварков, чтобы споров не прибавлять, давным-давно согласились на то, чтобы косить по ручью, хотя он в каждом году вытекал.
Этой весной ручей как раз очень обидел нового наследника и, видно, из любопытства, приблизился к его стороне, так что добрый кусок луга отдал Мелштынцам. Его как раз затыкали с того бока, когда студенницкие люди сопротивлялись этому, указывая старое русло ручья, как законную границу обоих домов.
К этому спору подошёл пан Репешко с улыбкой и самыми сердечными приветствиями крестьянам, которые кланялись ему в ноги.
– Мои возлюбленные дети, – я что-то, рыбки мои золотые, не очень понимаю. Как же может быть, чтобы терпели такую неопределённую границу? Упаси Боже, нет ли в этом обиды Божьей и какой аферы? Мне нет дела, сердечные вы мои, до этого кусочка луга, но для меня речь идёт о святой справедливости, о милом мире и о согласии с дражайшими соседями.
Когда крестьяне с обеих сторон начали ему объяснять, он кивал головой и не хотел понимать.
– Всё хорошо, мои дражайшие дети, – добавил он в конце, – но так не может быть. Я купил имение, будучи уверенным в постоянных границах. Нужно будет поехать в Мелштынцы и по-Божьему, по-соседски уладить дело раз и навсегда.
Он очень вежливо, низко поклонился крестьянам, потёр руки и уехал.
Только это ему и было нужно.
Назавтра на коляске с двумя клячами он двинулся в Мелштынцы.
Поскольку и нас туда тянет, мы поедем с паном Репешкой.
Проехав дубовый лес, который отделял Студенницу от Мелштынцев, пан Никодим увидел посреди равнины, которую вдали опоясывали холмы, над рекой и зелеными лугами, городок, а над ним господствующую башню старинного костёла, как это можно было заключить из постройки. Поселение, несмотря на небольшие размеры, некогда было частично обнесено стеной и опоясано валом; от той былой его фортификации остались две достаточно серьезные брамы у въезда. Кроме того, рынок украшала ратуша с башенкой, окружённая магазинами, очень приличная и хорошо отстроенная.
Большая тенистая липовая аллея вела от городских ворот, называемых Замковыми (потому что другие назывались Люблинскими), в замок.
Возвышался он на не очень высоком холме, объятом рвами, в которых уже давно не было воды и росли очень старые деревья. Из стен кое-где ещё живописно среди зелени торчала часть куртины, осталось несколько угловых округлых башенок, одна небольшая башенка с очень толстой стеной, с зубцами, и великолепные ворота, некогда предшествуемые разводным мостом. Того уже и следа не было; насыпанная на его месте плотина вела внутрь.
Там царила почти могильная тишина, грустная, важная, торжественная; только неудержимые птицы шумно щебетали в гущах деревьев.
Над главной аркой ворот был выкован герб Спытков, уже сильно потёртый и мало различимый. Второй этажик над воротами имел, правда, окна, но казался нежилым. Два старых, огромных, поседевших мастифа лежали, спокойно тут греясь, и не приветствовали гостя лаем.
Двор был очень обширным, а в глубине его, за зеленым газоном, на котором возвышалась каменная фигура Божьей Матери, был построен замок в форме подковы, довольно вижный и важный. Это было здание, видно, построенное не одновременно, не вполне регулярное, хотя позже ему старались придать монолитную форму. В полукруглых соединениях корпуса с крыльями внизу были аркады и своды, сверху – галереи и открытые проходы. Над крыльцом царил род купола, обитый бляхами, а на фасаде – арматуры, изукрашенные по старой моде, хоругви, бубны, котлы, гербы и инициалы.
Над самыми главными дверями, рамы которых, как всех прочих окон и дверей, были каменные и нарядные, стояла благочестивая надпись: «Nisi Dominus aedificabitur, etc…»
За крыльями и вокруг повсюду тенистые гущи зеленых деревьев служили фоном великолепному зданию, которое поддерживалось чисто, старательно, но совсем не было тронуто новым стилем. Напротив, казалось, точно усердно следили за тем, чтобы его старинная черта не стёрлась.
Над правым крылом малозначительная башенка с колоколом объявляла часовню. Других построек во дворе не было, они, видно, скрывались ниже, за рвом, а сам замок вместил в себя всё, что могло быть нужно для жизни семьи. Однако же эта жизнь скрывалась в нём так, что во дворе было совсем пусто, и пан Репешко, когда остановился из уважения у ворот и вышел из брички, оставляя её там, не заметил живой души, которая бы ему облегчила поиски.
Но так как он там уже был и немного знал, куда входили и откуда выходили, направился к главному входу. Тут же напротив через свод был виден старинный шпалеровый сад, с крыльцом, выходящим на него, и красивой баллюстрадой, а за ней огромные липы, ели и грабы. Сени, выложенные каменными плитами, имели по обеим сторонам великолепные лестницы наверх. И тут ещё не было никого. На стенах давно, видно, нарисованные и побледевшие, зеленели будто бы пейзажи, замки, горы и леса, но среди них мелькали символические фигуры и на линиях множество латинских надписей. Вход стерегли большие часы. Все двери были окрашены в белый цвет, с золотыми поясами, карнизами и верёвками.
Как в каком-нибудь заколдованном замке, пан Репешко до сих пор еще никого не встретил, а кроме щебета птиц на деревьях, ни одного голоса не услышал. Зато любопытными глазами мог досыта наглядеться на это красивое и чересчур заботливо поддерживаемое здание. Его походка, хоть осторожная и тихая, дивно раздаваясь по зданию, а среди торжественного молчания самому пришельцу отголосок его собственных шагов как-то зловеще и неприятно звучал в ушах.
Наконец он стоял уже у дверей, за которыми ожидал увидеть стража, медленно толкнул их и действительно увидел сидящего перед столом на удобном кресле с подлокотниками, старичка, лысина которого, окружённая капелькой волос, седыми как мягкий пушёк, светилась, будто отпалированная слоновая кость. Этот старец был в ливрее, в руке держал большую книжку и читал из неё через очки вполголоса литания. Лицо его было мягким и спокойным.
Сначала, услышав отворяющуюся дверь, и, видно, вовсе не ожидая чужого, он не поднял даже глаз, так был погружён в своё богослужение. Увидев это, Репешко, так как был человек очень набожный и чувствующий себя обязанным участвовать во всяком встречающимся богослужении, когда и покашливание, и лёгкое шарканье ногами ничуть не помогало, начал медленно говорить: «Молись за нас!» Услышав это, старец довольно равнодушно поднял голову, и, увидев незнакомца, легко склонил её, но литания продолжал дальше и так дошли до конца. Только после антифона, положив очки в середину книги, старичок медленно встал и молча приблизился к Никодиму, который ему повторно и чересчур любезно кланялся.
– Я хотел бы иметь счастье, – отозвался Репешко, – увидеться с паном дома.
Служащий усмехнулся, слегка пожимая плечами.
– С кем имею честь?
– Никодим Репешко, ваш сосед из Студенницы, с уважением и немного с делом.
– Гм! Гм! – сказал старик, крутя головой, и достал толстые серебряные часы, которые имел у пояса за контушем, внимательно посмотрел на них, а потом снова начал размышлять.
– Одиннадцать часов, – сказал он, – без нескольких минут. Не знаю! Не знаю! Однако же пойду, объявлю и спрошу, а вы соизвольте тем временем в зале задержаться и отдохнуть.
Говоря это, он отворил ему дверь в обширную комнату, пустую, тихую, но очень великолепную.
Была она вся убрана деревянной обивкой, лакированной белым с золотом, только над дверями украшена старой живописью. Над одними из них, входя, увидел пан Никодим эмблемы человеческой бренности с надписью: Mors ultima linea rerum. На стене напротив двух больших венецианских зеркал было два особенных изображения, таких же невесёлых, как над дверями. Они представляли мужчину в доспехах, лежащего на смертном одре, обставленном свечами с девизом вверху: Credo videre bona in terra vicentium; и женщину, также в гробу почивающую, а под ней на ленте: Miserere dei Deus secundum magnan misericordiam Tuam.