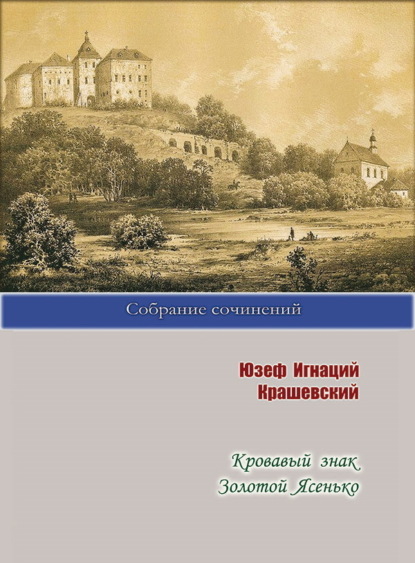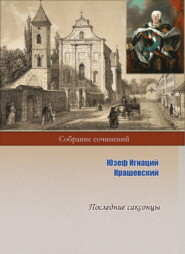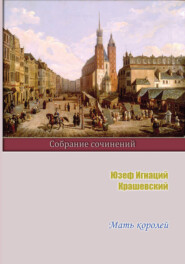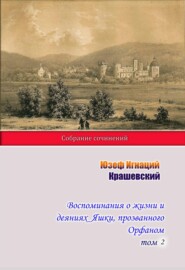По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кровавый знак. Золотой Ясенько
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посередине между двумя этими надгробными портретами, которые было бы более подходящим повесить в катакомбах, чем в салоне, была картина в чёрной раме, представляющая молодую пани или панну в чёрных одеждах, с розой в руке. Её лицо чрезвычайной красоты художник написал очень талантливо, можно сказать, с любовью к ней. Свежесть колорита и выполнения выдавала необычного художника из школ Рубенса и Ван Дейка.
Этот портрет своей красотой и одной необычайностью обращал внимания и притягивал глаза. На красивой белой девичьей шее бежала вокруг красная полоса, узкая, как бы нарисованная кровью, которая отрезала голову. Это не было никаким украшением, ни рядом бус, ни ожерельем, но как бы следом меча… Это серьезное лицо, светлое, но грустное и гордое, приобретало прелесть таинственности от этого дивного знака, которого пан Репешко объяснить себе не мог.
Он стоял еще испуганный и задумчивый перед этой странной картиной, когда старый слуга потянул его за рукав и сказал тихим голосом:
– Ясно пан просит… ждёт.
Пан Никодим живо пошёл, но поступь ведущего старичка, привыкшего к неспешной, внимательной, тихой ходьбе по этим молчаливым, опустевшим комнатам, вынудила его замедлить шаг. Что-то в этом заколдованном замке, величественно спящем, склоняло к тишине и уважению места, как в костёле. Нужно было идти осторожно, не производя шума, к которому эти стены не привыкли.
За этим залом загадочных изображений следовал другой с круглым куполом посередине, через который попадало немного света внутрь; её внешние ставни были закрыты и в помещении расходилась полутень. Вокруг над софами в ряд ее опоясывали большие портреты целых фигур, попеременно женщин и рыцарей. На некоторых из мрачных теней выступали бледные лица, завязанные белыми платками… кое-где вырисовывался овал юношеского лица, либо черно смотрели глаза из мрачного черепа бородатого старца в доспехах. Эта молчаливая шеренга умерших наполняла ужасом, точно в зеркалах мелькали привидения и тени каких-то призраков, вызванных на суровый суд. Стоявший посередине стол, покрытый тёмным сукном, на котором белел серебряный колокольчик, придавал зале вид судебной комнаты.
Пан Репешко хотел из любопытства там задержаться, но дорога, выстеленная ковром, проходила через залу назквозь и вела в другую, более светлую и чуть более весёлую. Та была будто бы длинной оружейной, полной искусно связанного и сложенного оружия и доспехов, сегодня уже неиспользуемого, которое вводили в задумчивость разнообразием и богатством. Были там кубки невиданной красоты и щиты с гербами семьи, колчаны, обшитые золотом, бунчуки, хоругви, буздыганы, булавы, сабли самых разных форм; но что более всего озадачивало, это четыре полных доспеха, позолоченных, настоящее произведение искусства, представляющие как бы четырех рыцарей в закрытых шлемах, стоящих по четырём углам на страже. Каждый из них держал в руке копьё с флажком, на котором были вышиты гербы, а другой рукой опирался на щит… Пан Репешко с ужасом увидел, что у тех дверей, к которым они приближались, у стоящего рыцаря было поднято забрало, а из него не чёрная глубина выглядывала, но целый череп скелета, издевательски смеющийся белыми зубами и как бы упрекающий жизнь. На её чёрном и белом флажке были вышиты слова: Mors vita i Vita mors.
И тут проводник не дал ему задержаться, вёл его медленно, но неумолимо дальше. Они вошли в комнату поменьше, в которой стоял аналой с распятьем, обложенный книгами, оправленными в кожу и пергамент. Над ним висел образ Божьей Матери Ченстоховской, а слева стена сверху донизу была увешана маленькими изображениями семьи, среди которых было написано на ленте:
Requiescant in pace…
Едва бросив взгляд на эти ряды голов, Репешко случайно углядел известную ему уже голову девушки с красно-кровавой полосой на шее.
Из этого ораториума двери вели уже прямо в покой пана Спытка, и тут слуга, отворив их, указал только пану Никодиму дорогу, а сам ушел.
Всё то, что Репешко видел на протяжении неспешной прогулки по замку, как-то удивительно его к себе расположило; он чувствовал себя в душе лишенным смелости и встревоженным… даже донимающее любопытство значительно остыло.
Однако же покой, в который он входил, как раз, может, заслуживал самого большего внимания. Был он угловым и не вполне регулярной формы, почти такой же обширный, как замковые покои, и полный самых необычных вещей и памяток. В одном его углу поражал образ патрона, перед которым горела лампада, подвешенная на восточный или итальянский манер; тут же неподалеку огромный стол был весь завален стопками бумаг, собранных в фасцикулы, привилеев с подвешенными печатями на верёвках и книг, старательно пронумерованных. Из середины этих стопок выглядывало чёрное распятие из эбонового дерева с Христом из слоновой кости.
Перед окном в нарядных вазах была составлена целая зелёная клумба из самых редких и красивых растений, среди которых преобладали разные цветущие и увядшие. Их благоухающими липестками был усыпан пол. Огромный белый, резной, мраморный камин занимал значительную часть второй стены.
В углублении напротив, наполовину заслоненном дамасковыми шторами, виднелась скромная маленькая кроватка, как бы походная, покрытая шкурой, с медведем у ног, с образом в головах, с саблей, висевшей сбоку.
Посреди этой комнаты, остальные стены которой были обиты турецкой парчой, украшенной позолотой, стоял хозяин, ожидая приветствия гостя.
Репешко, хотя обычно отважный или из принципа покорный и любезный, хотя два раза был в Мелштынцах (но его тогда внизу принимали), хотя уже видел пана Спытка и говорил с ним, сейчас, пройдя великолепные замковые залы, насмотревшись на эти диковинки какого-то могильного облика, почти забыл о языке во рту, стал ещё более униженным и вместо приветствия хозяину только, more cmtiquo, шапкой до колен склонился.
Это было не так просто и легко для Репешки, как казалось, пан Никодим был почти гигантского сложения, а хозяин, потомок той знаменитой семьи, едва не имел фигуру карла. Человек был уже немолодой, слишком хорошо сложенный, здоровый и сильный, хотя бледный лицом, но ростом немного выше пояса пана Репешки. Это не мешало ему быть красивым; никаких дефектов в нём не было, выглядел, однако, удивительно маленьким, несмотря на ботинки на высоких каблуках, поднятой вверх головы и прямоты. Его лицо, весьма красивых и благордных черт, очень напоминающее изображения, разбросанные по зале, носило на себе пятно спокойной грусти; в глазах был как бы недавно пробужденный интерес и нетерпение. Фигуру имел рыцарскую, движения панские, казался созданным на гиганта… а наказан какой-то волей Божьей быть карликом. Пан Репешко при этом маленьком человеке, которого без усилия мог бы поднять одной рукой, невольно чувствовал себя несмелым, униженным и грубым, если так можно выразиться – столько было в том величия и великого выражения какой-то силы.
Пан Спытек, несмотря на всю свою миниатюрность, был крепкий, очень красивый и так сложен, что рука, нога, лицо, точно старинная статуя, обращали на себя внимание. Он был также одет, хоть это было в будний день, весьма изысканно.
– Мне очень приятно видеть, – произнес пан Спытек, – уважаемого соседа. Мне кажется, что, вроде, было упоминание о каком-то деле…
– Да, да, ясновельможный пане, – сказал Репешко, повторяя покорно поклон. – Зная, как вам милы тишина и покой, я бы никогда не осмелился нарушить их, но малюсенький пограничный вопрос. Хочу его предоставить под ваш суд и приговор, пан благодетель.
– Пограничный вопрос? – спросил хозяин. – Но, уважаемый сосед, меня это чрезвычайно удивляет. Уже более ста лет, как мы покончили со всевозможными пограничными сомнениями, окупая святой мир сотнями жертв… Откуда бы это взялось?
– Я не знаю, – отозвался Репешко, – но я, новый пришелец, уважая права собственности, не желая никогда чужого и пытаясь избегать всякие неприятности, старался убедиться в моём бедном кусочке земли. Вот при недавнем разграничении лугов, где Мелштынцы от Студенницы отделяет ручеек… вместо постоянной границы открылась непостоянная. Ручей течёт каждый год иначе… отсюда неопределенность… Если была бы карта, я бы показал.
– На много это может идти? – прервал пан Спытек. – Какая там разница?
– На всём пространстве, – сказал покорно Репешко, – там, может, каких-нибудь пару метров лужочка, ясно пане, и то часто занесённого густым песком и илом.
– Уважаемый пане сосед, – сказал Спытек, – я вовсе судьёй в этом деле быть не могу, это переходит мою компетенцию. Во-первых, кто же судит о собственной вещи… во-вторых, я мало знаю границы; в-третьих, есть тут ad hoc мой достойный поверенный, alter ego, пан Дзегелевский. Вы, наверное, знаете его; что он решит, приму и подпишу. Если нужно, чтобы я порекомендовал ему как можно большую снисходительность в поведении, в этом можете быть уверены, хотя общая давняя инструкция воспевает, что в спорах этого рода мне лучше уступить, чем подвергаться процессу.
Если вам, пан сосед, придётся выбрать арбитров, соглашаюсь на них заранее.
Репешке, однако же, ни луг, ни граница, ни форма, какой мог быть решен вопрос, не так, по-видимому, были важны, как ловко проникнуть в Мелштынцы и навязаться пану Спытку; стало быть, дело казалось в принципе полюбовно улаженным, но он не показал себя удовлетворенным. Дело шло о продлении своего визита в замке.
– Будет согласно вашей воли, – сказал он медленно, с некоторым выражением грусти. – Я все-таки, признаюсь, льщу себе, что это дело вы уладите исключительно сами, чтобы избежать излишней формальности. Я прибыл со всякой готовностью подчиниться приказам.
– Но я вовсе не знаю ни положения, ни дела, – сказал мрачно пан Спытек. – Дзегелевский, человек достойный, каждый уголок знает.
– Стало быть, если бы вы только соизволили его сюда просить, в двух словах закончили бы дело.
Хозяин, видимо, был озадачен.
– По правде говоря, – ответил он, – не знаю, дома ли Дзегелевский, очень сомневаюсь. А что до меня… я сегодня как раз так занят… исключительно занят.
Казалось, он неспокойно прислушивается, но в замковом дворе царила тишина. Репешке стало еще интереснее, заметив, что он служит к чему-то препятствием; догадался о каком-то событии, хотел найти способ продолжить разговор, не показывая себя настырным.
– Впрочем, может, вы назначили бы какой-нибудь другой день, а я бы дал знать пану Дзегелевскому, потому что сегодня… – говоря это, хозяин вздрогнул, а со стороны окна послышался шумный лай собак и охотничья труба.
Пан Спытек побежал к окну, выглянул, его бледное лицо покрылось румянцем, и очень живо сказал Репешке:
– Значит, так… на среду, пятницу, когда угодно, прошу к Дзегелевскому, я ещё дам ему соответсвующую инструкцию, чтобы был как можно снисходительней… Определите границу…
Лай собак и топот нескольких коней всё отчетливей слышался под окнами, Спытек поклонился Репешке и отвел его к двери, но покорный шляхтич не дал отделаться от себя так скоро.
– Мне остается только, – сказал он с низким поклоном, – наипокорнейше просить прощения у ясновельможного пана.
– Но нет… напротив, – говорил хозяин, в лице которого рисовалось все более горячее беспокойство.
– Прошу верить, – сказал Репешко, уже почти стоящий на пороге, – что это не какая-нибудь преступная жадность, от которой Бог меня стережет, не желание воспользоваться смирением ясновельможного пана, только жалание сохранить соседский покой, такой дорогой для человека, особенно для меня, неизвестного еще в околице и нуждающегося в приобретении симпатии.
По мере того, как продолжался разговор, глаза маленького человека, уже до наивысшей степени теряющего терпение, приобрели такой какой-то злобный блеск, физиономия – такую угрозу, губы – такое повелительное выражение, что пан Никодим, потеряв суть речи, испуганный, взяв шапку из-под мышки, ретировался, даже забыв о любопытстве. Когда, вспотевший, закрыв за собой дверь, он поднял на пороге голову, его взгляд упал на шлем рыцаря, стоявшего тут на страже, из черепа которого смотрели две пустые чёрные дыры. Ему казалось, что из этих отверстий глядит смерть, издевательски ухмыляясь.
В трех шагах ждал старый слуга с часами в руке. Репешко уже собирался идти, когда в зале послышался шум и голоса, шаги нескольких особ; любопытство возрастало; он прижался к стене, будто бы для того, чтобы пропустить прибывших, хоть проводник его тянул за рукав, и он был свидетелем странного среди этого могильного замка явления.
Впереди шла женщина высоко роста и среднего возраста, с очень красивыми ещё чертами лица, в одежде амазонки, в шляпе с перьями на голове и плеткой, оправленной в серебро, в руке. Шлейф бархатного, тёмно-зелёного платья она несла на руке. Она выглядела как королева, а из-под немного затемнённых, особенного цвета век, почерневших словно от плача, её черные, огненные, страшные глаза сверкали пламенем, который в них горел. Её слегка загорелое лицо было свежим и еще не запятнанным ни одной морщинкой. Лоб имела высокий, немного белее, чем остальная часть, светлый, но грустный. Казалось, что она создана для приказывания и должна была знать об этом… Её талия, хоть женщина могла иметь больше или меньше тридцати лет, вводила в заблуждение девичьими формами молодости в полном рассвете.
Репешко, не зная, кто она была, легко мог угадать в ней хозяйку дома; она, заметив эту незнакомую ей склонённую покорно фигуру, выпрямилась ещё больше, нахмурила брови, стиснула губы и, едва ответив кивком головы, живо его миновала, быстро направляясь к дверям кабинета. Она была не одна; с ней шёл мальчик лет пятнадцати, чрезвычайной красоты, но такого же маленького роста, как Спытек, и очень на него похожий, изысканно одетый, весёлый, улыбающийся, а за ним, в духовном облачении, очевидно, какой-то чужеземец, причёсанный, в башмаках и чулках, с книжкой, оправленной в красный сафьян, под мышкой.
Был это Евгений Спытек, единственный сын семьи Мелштынских, и главный в его воспитании, l’abbе de Bury, славившийся приятной ученостью, остроумием, а позже несколькими изданными трудами и далеко простирающимися связями в литературе Речи Посполитой с самыми известными её корифеями. Этот неисчерпаемый колодец мудрости, несмотря на свои глубины, выглядел как хрустальный шлифованный графин, неимоверно превосходно и блестяще. Пан Репешко не был уверен, но подозревал, что приятный аромат будто бы увядающих фиалок, который через мгновение рассеялся, когда аббат де Бюри прошел рядом, исходит от его манжетов и парика.
Добавим, что бледный брюнетик, приятно улыбающийся, был довольно красивым мужчиной, только в духовном облачении, которое он носил для приличия в соответствии с традициям века, как-то слишком элегантно и цветасто выглядел.
Все эти три фигуры только промелькнули, проскальзывая перед любопытными глазами пана Репешки, двери кабинета открылась и послышался крик радости. Первым вбежал в них красивый мальчик. За ним вошла мать, аббат де Бюри в конце и дверь безжалостно захлопнулась, а Репешко рад не рад должен был со своим проводником выйти из замка.
Он вовсе не ожидал, что от него так быстро отделаются, и шёл кислый, с опущенной головой, но шёл медленно, и ничего при возвращении от его пристального внимания не ускользнуло. Замок, минутой назад такой тихий, немного наполнился; пан Репешко заметил нескольких стрелков в зелёных куртках, с саблями сбоку, которые отводили собак, несколько конюших и несколько коней, усатого ловчего, приводящего в порядок свой двор, а дальше два экипажа, один из которых был нагружен, точно недавно вернулся из далёкого путешествия. Этой охоты в соединении с экипажами не мог толком понять пан Никодим, но по костюму амазонки сообразил, что пани Спыткова возвратилась с охоты, а сын и аббат де Бюри, должно быть, недавно вернулись из какой-то далёкой поездки. Все это казалось ему удивительно странным: этот замок, точно заклятый, с хозяином карлом, эта пани, такая великолепная и прекрасная, которая гонялась по лесам за зверем, когда муж среди увядающих роз сидел в бумагах и книгах, и этот красивый мальчик, малюсенький, о котором в соседстве как-то даже слышно не было.
Вся эта жизнь выглядела загадкой, а Репешко был особенно лаком на тайны. Но его так выставили, отсылая к Дегелевскому, что не было возможности заново попасть в замок, а спросить людей и не смел, и знал, что это не поможет. Итак, посмотрев только на тот двор, на коней, на собак и экипажи издалека, грустный, потому что разочарованный, Репешко пошёл в свою бричку, стоящую за воротами. Необычный шум в замке подтвердил догадку, что сын дома, молодой Евгений, должно быть, вернулся из далёкого путешествия. На лицах проходящих слуг видна была весёлость, видно, все с поспешностью шли, чтобы приветствовать молодого пана.