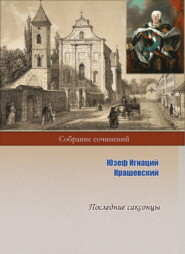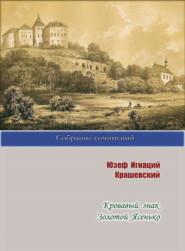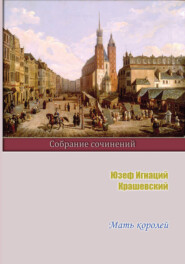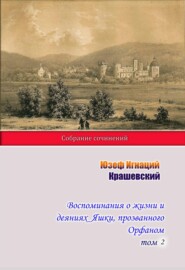По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Семко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через какое-то время гость вновь заговорил:
– Из тех, кто находится при Сигизмунде, сначала мы оттащим Бодзанту. Захватив его имущество, мы возьмём его, потому что он на это чувствителен. Хозяин из него хороший, а солдат хозяйничает плохо. Он нам поёт иначе.
– Домарат яростен, вы с этим не справитесь, – сказал князь.
– С ним так же, как с Кровавым дьяволом, судьёй Яном, примирения быть не может. Те должны идти прочь, а так как они пролили нашу кровь и уничтожили имущество, заплатят шкурой… Прочь Грималов! Мы никого не потерпим над собой! Скорее Наленчей, чем их!
И староста вытянул кулак, весь краснея от гнева, но потом, взяв себя в руки, начал сдерживаться.
– Стало быть, у нас есть слово вашей милости, – прибавил Бартош. – Мы вам всё приготовим, сидите спокойно. Люксембург у нас места не нагреет.
Семко побледнел, как если бы от того, что сказал, хотел отказаться, или быть осторожней, но Одолановский пан не дал ему сказать, сильно настаивая:
– Я немедленно еду, – воскликнул он, – бездельничать не будем, очистим! Очистим поле! Бодзанта уже как будто у нас в руках. Краков мы захватим, мы бдуем там представлять закон, а не те панки, кои хотят быть во главе нас. Мы достаточно терпели!
Бартош оживился, разогревался, волновался всё сильнее, надеждами достигал всё дальше. Он опасался говорить слишком много и обещать, хотя глаза и лицо поддакивали старосте.
Бартош весь сиял.
Когда они так разговаривали, в комнате, в которой они сидели, вторая дверь, ведущая внутрь, занавешенная тяжёлой портьерой, задрожала, хотя никакого шелеста слышно не было. Бартош это заметил, указывая глазами князю на дверь, но Семко, равнодушно взглянув в эту сторону, усмехнулся и дал знак, что опасаться было не нужно.
Староста, уже сломав первый лёд, не удовлетворился этим, только немного понизил голос и начал настаивать, чтобы князь, хотя желал остаться пассивным, всё-таки собирал военные силы на всякий случай.
Он настаивал на том, чтобы Соха тем временем собирал людей и готовил как можно больше копейщиков.
Семко молчал и упирался.
– Это легко сказать, а выполнить трудно, – сказал он наконец, прижатый. – Люди и кони нашлись бы, может, но казна пуста… а на это нужно несколько тысяч гривен.
– Милостивый пане, – прервал Бартош, – хотя бы у врага пришлось занимать, хоть бы кусок земли заложить. Мы выкупим его или отобьём, долг заплатим.
– У кого же сейчас есть деньги? Пожалуй, у одних крестоносцев и евреев, – сказал Семко.
– А почему же не взять у ближайших, у крестоносцев? – прервал Одолановский. – У них гривен, как льда; охотно дадут.
Семко, услышав это, с омерзением содрогнулся.
– Я бы предпочёл евреев! – сказал он.
– Но их у нас не найти, пожалуй, только в Кракове, а туда попасть трудно, – говорил Бартош, – крестоносцы под боком, лишь бы вы пожелали, дадут.
– А если догадаются, на какой случай они мне нужны? – сказал Семко. – Они благоприятствуют Люксембургу, против него они не снабдят оружием.
– Люксембурга скоро не будет, – отпарировал Бартош, – а они лакомые на землю. Я также дружу с ними ради рыцарства, но дружить с большим всегда страшно; как бы не съел.
Такой прерывистый разговор шёл дальше. Ничего не решили. Во время его на двери снова несколько раз задрожала портьера, но Бартош уже, разгорячившись, на это не обращал внимания.
Позвали на ужин, на который снова пришло немного шляхты, прибыли канцлер и воевода.
Князь вышел более мрачный, чем утром, зато Бартош был веселее. Старый воевода сразу понял, что гость не напрасно тут сидел так долго.
На протяжении ужина, однако, Бартош избегал разговора о том, что всех сильнее всего занимало. Шляхта приступила к охотничьим рассказам, Бартошу также было что рассказать о Домарате и Кровавом дьяволе, о войне Наленчей с Грималами. Проклинали извергов и угрожали им.
Предмет этот был неисчерпаем, потому что каждый день знаменовался новым насилием, наездом и грабежом. Грималы со своим Домаратом, губернатором с руки королевы, до сих пор брали верх, а осмелевшие, они расковыряли старые раны и наносили всё новые, желая угрозой вынудить к послушанию.
Кипела борьба, воспламенённая тем, что Наленчи, уже дважды отвергнутые Сигизмундом Люксембургским, были доведены до крайности. С обеих сторон собирались вооружённые группы… а о перемирии слышать никто не хотел.
III
Уже было поздно, когда Семко, который после ухода Бартоша остался наедине с воеводой и канцлером и долго с ними совещался, наконец пошёл в свою комнатку на отдых, задумчивых, нахмуренный, – потому что, хоть не связал себя никаким словом, решительного шага не сделал, его охватило сильное беспокойство.
Соха и канцлер посоветовали воздержаться от каких бы то ни было попыток получить корону; снова напоминали об отцовских наставлениях.
Князь упал на стул у огня, бросая взгляды бледных глаз по стенам, на которых кое-где блестело развешенное оружие. Было его в спальне достаточно, потому что в те времена всегда должны были иметь под рукой оружие, не зная, когда его будет нужно схватить. Около постели обычно вешали мечи и мечики, чтобы пробуждающимуся нужно было только потянуться, и сразу имел его в руках.
Не хлопнул ещё Семко в ладоши своей челяди, которая помогла бы ему раздеться, когда портьера, которую Бартош видел дрожащей, поднялась и из-за неё показалась какая-то уже не молодая женщина. Прежде чем осмелилась войти, она внимательно смотрела на Семко.
Он, хоть не обратил на неё глаз, казалось, знает и чувствует, что она была здесь, но не спешил этого показывать по себе, точно теперь разговор был ему неприятен.
Женщине могло быть лет сорок, или больше. Её увядшее, морщинистое, старое лицо сохранило следы необычайной красоты, но то была деревенская красота, больше выразительная, чем изящная; возрастом нахмуренная и грустная.
Её тёмные, большие глаза глядели смело, словно чувствовала там себя как дома.
Её одежда не отличалось от обычной народной, но была приличной и хотела казаться богатой. Шитая ординарным кроем юбка, корсет, кафтан были из самого лучшего сукна, шёлка и полотна. На её шее были целые нити кораллов, янтаря и золотых цепочек, свисающих аж до пояса. Руки, не очень утомлённые работой, белые и пухлые, покрывали кольца со стекляшками и каменьями. На голове богатый, красный платок, наподобие тюрбана, завязанный с некоторым старанием, длинными концами спадал на плечи и спину.
Она разглядывала комнату, поддерживая над собой портьеру, а за ней на светлом фоне другой комнаты, освещённой также огнём или лучиной, видна была протискивающаяся головка молодой девушки с веночком на голове.
Её личико было довольно красивым, с правильными чертами, с большими голубыми глазами – но бледное, без румянца и странно побелевшее.
В обоих этих фигурах можно было узнать детей народа, хотя изнеженных хорошей жизнью, и как всегда, когда от работы и утомления человек чувствует себя освобождённым, его охватывает гордость от того счастья, какое ему выпало, – на обеих этих женских лицах было его достаточно.
Смелые глаза девушки глядели так же смело, как и у старой служанки. В глазах искрилось любопытство.
Разглядывая вблизи красивую девушку, одетую так же, как та, за которой она стояла, на очень бледном и белом лице можно было разглядеть на лбу у виска красный шрам.
Рана, после которой осталась памятка, должно быть, зажила очень давно, но была так глубока и тяжела, что ничто её стереть не могло. Дивно ею отмеченное личико пробуждало любопытство. Где могла получить такой удар столь молоденькая, изнеженная? Скрывалась ли за этим шрамом какая-нибудь тайна, или простая случайность? Девушка легко могла закрыть свой шрам пышными волосами, если бы хотела, но казалось, она выставляет его напоказ и гордится.
Старуха, почувствовав за собой девушку, слегка её ударила, давая ей знак, чтобы отошла, – сама же, отвернув епанчу, покашляла и пошла на середину комнаты.
Этим запоздалым гостем была некогда мамка, позже воспитательница Семко, которую звали Марихной Блаховой, вдова зажиточного кмета на Куявах, которая вместе с молочной сестрой Семко, Улиной, осталась при дворе, и после смерти первой княгини, после трагической смерти второй, всё больше вырастая в милостях у старого Зеймовита, хотя была простой кметкой, захватила всё хозяйство.
Откуда к ней пришли эти милости старого князя, как их сохранила, а теперь также имела доверие и милость молодого Семко – об этом люди говорили очень разное.
Женщина была умная, неразговорчивая, ловкая, но лестью не прислуживалась. А до смерти Зеймовита от ложа больного старца она не отступала. С её рук он охотнее принимал питьё и еду, и даже когда в гневе людей убивал и калечил, одна Блахова его не боялась; подходила к нему спокойно, не раз одним словом, одним кивком приводя в себя.
Говорили, что она спасла много жизней; и ни один раз, когда секиру с обухом, с которой тот всегда ходил, уже хотел бросить в слугу, она вырывала её из руки князя и виновника выпихивала за дверь. И князь никогда не сказал ни слова, ни тронул её.
То же самое благоволение было у молочной сестры Семко, Улины, которая воспитывалась при дворе, почти как княжеский ребёнок, а везде ей было вольно. Старый пан ласкал её по головке, не давал ей причинить ни малейшей обиды, богато одаривал и нежил.
– Из тех, кто находится при Сигизмунде, сначала мы оттащим Бодзанту. Захватив его имущество, мы возьмём его, потому что он на это чувствителен. Хозяин из него хороший, а солдат хозяйничает плохо. Он нам поёт иначе.
– Домарат яростен, вы с этим не справитесь, – сказал князь.
– С ним так же, как с Кровавым дьяволом, судьёй Яном, примирения быть не может. Те должны идти прочь, а так как они пролили нашу кровь и уничтожили имущество, заплатят шкурой… Прочь Грималов! Мы никого не потерпим над собой! Скорее Наленчей, чем их!
И староста вытянул кулак, весь краснея от гнева, но потом, взяв себя в руки, начал сдерживаться.
– Стало быть, у нас есть слово вашей милости, – прибавил Бартош. – Мы вам всё приготовим, сидите спокойно. Люксембург у нас места не нагреет.
Семко побледнел, как если бы от того, что сказал, хотел отказаться, или быть осторожней, но Одолановский пан не дал ему сказать, сильно настаивая:
– Я немедленно еду, – воскликнул он, – бездельничать не будем, очистим! Очистим поле! Бодзанта уже как будто у нас в руках. Краков мы захватим, мы бдуем там представлять закон, а не те панки, кои хотят быть во главе нас. Мы достаточно терпели!
Бартош оживился, разогревался, волновался всё сильнее, надеждами достигал всё дальше. Он опасался говорить слишком много и обещать, хотя глаза и лицо поддакивали старосте.
Бартош весь сиял.
Когда они так разговаривали, в комнате, в которой они сидели, вторая дверь, ведущая внутрь, занавешенная тяжёлой портьерой, задрожала, хотя никакого шелеста слышно не было. Бартош это заметил, указывая глазами князю на дверь, но Семко, равнодушно взглянув в эту сторону, усмехнулся и дал знак, что опасаться было не нужно.
Староста, уже сломав первый лёд, не удовлетворился этим, только немного понизил голос и начал настаивать, чтобы князь, хотя желал остаться пассивным, всё-таки собирал военные силы на всякий случай.
Он настаивал на том, чтобы Соха тем временем собирал людей и готовил как можно больше копейщиков.
Семко молчал и упирался.
– Это легко сказать, а выполнить трудно, – сказал он наконец, прижатый. – Люди и кони нашлись бы, может, но казна пуста… а на это нужно несколько тысяч гривен.
– Милостивый пане, – прервал Бартош, – хотя бы у врага пришлось занимать, хоть бы кусок земли заложить. Мы выкупим его или отобьём, долг заплатим.
– У кого же сейчас есть деньги? Пожалуй, у одних крестоносцев и евреев, – сказал Семко.
– А почему же не взять у ближайших, у крестоносцев? – прервал Одолановский. – У них гривен, как льда; охотно дадут.
Семко, услышав это, с омерзением содрогнулся.
– Я бы предпочёл евреев! – сказал он.
– Но их у нас не найти, пожалуй, только в Кракове, а туда попасть трудно, – говорил Бартош, – крестоносцы под боком, лишь бы вы пожелали, дадут.
– А если догадаются, на какой случай они мне нужны? – сказал Семко. – Они благоприятствуют Люксембургу, против него они не снабдят оружием.
– Люксембурга скоро не будет, – отпарировал Бартош, – а они лакомые на землю. Я также дружу с ними ради рыцарства, но дружить с большим всегда страшно; как бы не съел.
Такой прерывистый разговор шёл дальше. Ничего не решили. Во время его на двери снова несколько раз задрожала портьера, но Бартош уже, разгорячившись, на это не обращал внимания.
Позвали на ужин, на который снова пришло немного шляхты, прибыли канцлер и воевода.
Князь вышел более мрачный, чем утром, зато Бартош был веселее. Старый воевода сразу понял, что гость не напрасно тут сидел так долго.
На протяжении ужина, однако, Бартош избегал разговора о том, что всех сильнее всего занимало. Шляхта приступила к охотничьим рассказам, Бартошу также было что рассказать о Домарате и Кровавом дьяволе, о войне Наленчей с Грималами. Проклинали извергов и угрожали им.
Предмет этот был неисчерпаем, потому что каждый день знаменовался новым насилием, наездом и грабежом. Грималы со своим Домаратом, губернатором с руки королевы, до сих пор брали верх, а осмелевшие, они расковыряли старые раны и наносили всё новые, желая угрозой вынудить к послушанию.
Кипела борьба, воспламенённая тем, что Наленчи, уже дважды отвергнутые Сигизмундом Люксембургским, были доведены до крайности. С обеих сторон собирались вооружённые группы… а о перемирии слышать никто не хотел.
III
Уже было поздно, когда Семко, который после ухода Бартоша остался наедине с воеводой и канцлером и долго с ними совещался, наконец пошёл в свою комнатку на отдых, задумчивых, нахмуренный, – потому что, хоть не связал себя никаким словом, решительного шага не сделал, его охватило сильное беспокойство.
Соха и канцлер посоветовали воздержаться от каких бы то ни было попыток получить корону; снова напоминали об отцовских наставлениях.
Князь упал на стул у огня, бросая взгляды бледных глаз по стенам, на которых кое-где блестело развешенное оружие. Было его в спальне достаточно, потому что в те времена всегда должны были иметь под рукой оружие, не зная, когда его будет нужно схватить. Около постели обычно вешали мечи и мечики, чтобы пробуждающимуся нужно было только потянуться, и сразу имел его в руках.
Не хлопнул ещё Семко в ладоши своей челяди, которая помогла бы ему раздеться, когда портьера, которую Бартош видел дрожащей, поднялась и из-за неё показалась какая-то уже не молодая женщина. Прежде чем осмелилась войти, она внимательно смотрела на Семко.
Он, хоть не обратил на неё глаз, казалось, знает и чувствует, что она была здесь, но не спешил этого показывать по себе, точно теперь разговор был ему неприятен.
Женщине могло быть лет сорок, или больше. Её увядшее, морщинистое, старое лицо сохранило следы необычайной красоты, но то была деревенская красота, больше выразительная, чем изящная; возрастом нахмуренная и грустная.
Её тёмные, большие глаза глядели смело, словно чувствовала там себя как дома.
Её одежда не отличалось от обычной народной, но была приличной и хотела казаться богатой. Шитая ординарным кроем юбка, корсет, кафтан были из самого лучшего сукна, шёлка и полотна. На её шее были целые нити кораллов, янтаря и золотых цепочек, свисающих аж до пояса. Руки, не очень утомлённые работой, белые и пухлые, покрывали кольца со стекляшками и каменьями. На голове богатый, красный платок, наподобие тюрбана, завязанный с некоторым старанием, длинными концами спадал на плечи и спину.
Она разглядывала комнату, поддерживая над собой портьеру, а за ней на светлом фоне другой комнаты, освещённой также огнём или лучиной, видна была протискивающаяся головка молодой девушки с веночком на голове.
Её личико было довольно красивым, с правильными чертами, с большими голубыми глазами – но бледное, без румянца и странно побелевшее.
В обоих этих фигурах можно было узнать детей народа, хотя изнеженных хорошей жизнью, и как всегда, когда от работы и утомления человек чувствует себя освобождённым, его охватывает гордость от того счастья, какое ему выпало, – на обеих этих женских лицах было его достаточно.
Смелые глаза девушки глядели так же смело, как и у старой служанки. В глазах искрилось любопытство.
Разглядывая вблизи красивую девушку, одетую так же, как та, за которой она стояла, на очень бледном и белом лице можно было разглядеть на лбу у виска красный шрам.
Рана, после которой осталась памятка, должно быть, зажила очень давно, но была так глубока и тяжела, что ничто её стереть не могло. Дивно ею отмеченное личико пробуждало любопытство. Где могла получить такой удар столь молоденькая, изнеженная? Скрывалась ли за этим шрамом какая-нибудь тайна, или простая случайность? Девушка легко могла закрыть свой шрам пышными волосами, если бы хотела, но казалось, она выставляет его напоказ и гордится.
Старуха, почувствовав за собой девушку, слегка её ударила, давая ей знак, чтобы отошла, – сама же, отвернув епанчу, покашляла и пошла на середину комнаты.
Этим запоздалым гостем была некогда мамка, позже воспитательница Семко, которую звали Марихной Блаховой, вдова зажиточного кмета на Куявах, которая вместе с молочной сестрой Семко, Улиной, осталась при дворе, и после смерти первой княгини, после трагической смерти второй, всё больше вырастая в милостях у старого Зеймовита, хотя была простой кметкой, захватила всё хозяйство.
Откуда к ней пришли эти милости старого князя, как их сохранила, а теперь также имела доверие и милость молодого Семко – об этом люди говорили очень разное.
Женщина была умная, неразговорчивая, ловкая, но лестью не прислуживалась. А до смерти Зеймовита от ложа больного старца она не отступала. С её рук он охотнее принимал питьё и еду, и даже когда в гневе людей убивал и калечил, одна Блахова его не боялась; подходила к нему спокойно, не раз одним словом, одним кивком приводя в себя.
Говорили, что она спасла много жизней; и ни один раз, когда секиру с обухом, с которой тот всегда ходил, уже хотел бросить в слугу, она вырывала её из руки князя и виновника выпихивала за дверь. И князь никогда не сказал ни слова, ни тронул её.
То же самое благоволение было у молочной сестры Семко, Улины, которая воспитывалась при дворе, почти как княжеский ребёнок, а везде ей было вольно. Старый пан ласкал её по головке, не давал ей причинить ни малейшей обиды, богато одаривал и нежил.