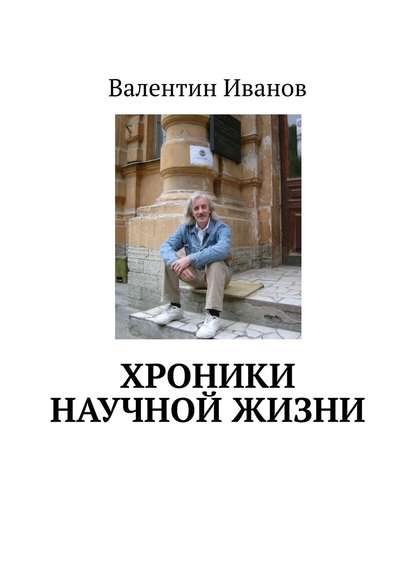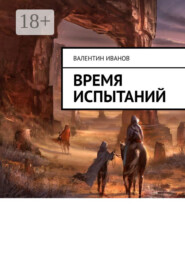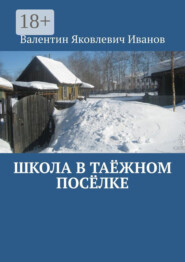По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хроники научной жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я же говорил, что, может быть, не надо. Я не смогу…
Лосев был всем симпатичен тем, что со студентами не заигрывал, не сюсюкал, не придирался зря, а всё же любил их, не выпячивая это. Веня еще с морей имел лошадиную выносливость, и Лосев положил на него глаз, как на перспективного спортсмена-легкоатлета, приглашал в секцию. Но Веня уже занимался на полную катушку в клубе культуристов и менять ничего не хотел, не чувствовал азарта. Как-то устроили забег на среднюю дистанцию, полторы тысячи метров. Он и прежде показывал на ней очень неплохие результаты. На это занятие пришел в какой совершенно неподходящей для бега обуви. Тогда Лосев снял с себя кроссовки, протянул их со словами:
– Ты только беги, не халтурь.
Веня прибежал первым, обогнав второго почти на круг.
Английская кафедра новосибирского университета не похожа ни на какую другую. Можно на спор с ходу отличить, изучал ли студент английский в этом университете или в каком другом. Характерным отличием курса тогда был учебник Головчинской, который за год студенты должны были выучить наизусть в самом прямом смысле. Сначала это кажется попросту невозможным. Состоит учебник всего из десяти текстов, зато каких! Самая сложная лексика современных авторов, не адаптированная ни в одном слове. И в школе, и в мореходке Веня имел по английскому только четверки и пятёрки, хотя и понимал, что языка, по-существу, не знает, поскольку поговорить на улице с англичанином не сможет, разве что поздороваться. Да и где их взять, этих англичан в Советском Союзе семидесятых. Не в столице живём. В мореходке же цель обучения английскому сводилась к тому, чтобы вести радиопереговоры с иностранным судном в случае аварийной ситуации.
Методика обучения в университете состоит в том, что довольно объёмный текст разбивается на кусочки и даётся для дословного заучивания. Поначалу буквально к каждому занятию Веня выписывал по 100—150 совершенно незнакомых ему слов. Это была не мука, это было почти изнасилование! В первые два месяца он имел оценки между двойкой и тройкой. Зато если теперь через много лет вы спросите выпускника НГУ парольную фразу «Who was the Rosa Shafigulina?», даже сильно пьяный или больной выпускник ответит не задумываясь отзыв «She was a simple Soviet girl». Многие до сих пор способны пересказать эти тексты цельными кусками и из Хемингуэя, и «Her First Ball», и «Nickolo and Jackopo». Студенты неплохо научились читать и понимать, в особенности, научную литературу. А вот практики устного общения, конечно, не поимели. Да и зачем? Ведь Партия не собиралась отпускать нас за границу, а КГБ оберегало от нежелательных контактов с любыми живыми иностранцами.
Перед началом занятий курс разделили на два потока. В поток для начинающих попали те, кто ранее не изучал английский, а остальные зачислялись в поток для продолжающих. Во второй группе был якут Саша Иванов. Имя и фамилия не должны вас дезинформировать. Это был стопроцентный абориген Севера, родившийся и выросший в тундре с её романтикой оленей, чумов, ягеля и ездовых собак. Он был на удивление весьма способным, особенно по математике, но по-русски говорил очень плохо и невнятно. Сам он сильно стеснялся этого, и потому говорил очень тихо, где то на пороге слышимости. И вот он попадает в продолжающий поток. Проходит недели две-три занятий. Все зубрят горы новых слов и пишут короткие письменные квизы, но вот наступает время сдавать первый кусок текста наизусть. Вызванные отвечать бормочут что-то приблизительно похожее на оригинал или близкое к нему и получают свой трояк. Доходит очередь до Саши. Он встает и начинает рассказывать. Все уже привыкли к его речи, а тут он еще вдвое снизил громкость, по сравнению с разговором на русском. Преподаватель Изюмова изо всех сил напрягает свой слух и подходит к Саше всё ближе и ближе, повторяя: «Tell me louder, please». Наконец её ухо оказывается у самых Сашиных губ. Она ещё несколько секунд вслушивается в его бульканье и изрекает вердикт:
– В начинающие.
К сожалению, Саша выбыл с первого курса, не исключено, что за несданный английский. Но это еще не самый яркий случай. На второй курс перевелся из какого-то другого ВУЗа тоже якут или эвенк по фамилии Тыжебров. На третьем курсе он был одним из самых способных по физике, а особенно прекрасно знал квантовую механику, которую читал совершенно замечательный лектор, профессор Зелевинский Владимир Григорьевич. Тем не менее, к летней сессии Тыжебров был не допущен и вылетел из университета за задолженности еще за первый курс по французскому языку.
Вообще-то, можно заметить, что вылетают чаще всего не за слабые способности, а за обыкновенное разгильдяйство, выражающееся в том, что студенты пропускают лекции и семинары, а потом не приходят на пересдачу после двенадцатого последнего предупреждения деканата. Так, к примеру, «фымышата» к концу первого курса по знаниям выравниваются с остальными, потому что в течение года игнорируют большую часть лекций, а к концу второго начинают явно отставать от остального потока, поскольку продолжают игнорировать лекции. На третьем курсе часть из них просто вышибают «за хвосты».
Одним из таких мозговых центров курса была неразлучная тройка «фымышат», которую условно окрестили «радиолюбителями». Наиболее яркой фигурой там был Мишка Ляпунов, в котором уже в студенческие годы угадывался «настоящий профессор». Он был талантлив и невероятно ленив. Веня тогда страшно увлекался «биг битом» и надоедал всем своим знакомым поисками новых записей «Битлов», «Роллингов» и других знаменитых групп. Кто-то ему сказал, что «у радиолюбителей есть всё». Он помчался к ним в общагу. Зашёл в указанную комнату где-то в районе обеда, и взору его открылась такая картина: двое спят, а третий что-то паяет. Оказалось, заканчивает 70-ваттный усилитель. Колонки сделаны из кусков древесно-стружечной плиты, к которым кое-как пришпандорены купленные на барахолке серьёзных размеров низкочастотные динамики, поменьше – среднечастотные и совсем маленькие – высокочастотные. Купить приличные динамики в то время можно было только на барахолке, а в магазинах лежало именно «барахло». Веня с интересом наблюдает. Наконец припаян последний проводник, и мастер приступает к опробыванию конструкции на нелинейные искажения. Ясно, что сказываются они, прежде всего, на предельных мощностях. Он выкручивает ручку усиления до предела, Веня просто глохнет от сатанинского рёва динамиков. Мастер подносит колонку к самому уху спящего товарища, тот мирно сопит. Значит, нелинейные в норме, иначе его бы пробудило оскорблённое излишком обертонов эстетическое чувство. Наконец усилитель выключен, и минут через пять возвращается слух. Всё это время Веня разглядывает стоящую на столе загадочную конструкцию, напоминающую радиоуправляемую жабу.
– Что это такое?
Мастер несколько задумчиво отвечает:
– Ты можешь назвать ее любым понравившимся тебе словом. Это неважно. Она умеет смешно подпрыгивать, выдавать морзянкой сигнал СОС и крякать.
Он демонстрирует посетителю с гордостью эту жабу. Кряканье особенно нравится своей натуральностью.
– Зачем это?
Конструкторр возмущенно поднимает плечи:
– Ты что, дурак? Просто интересно.
Когда гость, наконец, излагает цель своего посещения, Мастер кивает на рюкзак в углу:
– Там возьми, что хочешь, – а сам углубляется в электронные кишки, видимо, для усовершенствования своей жабы.
Веня подходит к огромному рюкзаку и откидывет верхний клапан. То, что он увидел, действительно, поражает не меньше, чем вид суперколонок или электронного монстра. Рюкзак доверху набит катушками с магнитной лентой. Коробки или футляры начисто отсутствовали. По этой причине, невозможно было узнать, что именно записано на катушке, пока её не поставишь на магнитофон. Значительная часть пластмассовых бобин имела выломанные или треснутые фрагменты. Ленты были большей частью мятые, рваные или неровно, небрежно намотанные. Создавалось впечатление, что их грузили в рюкзак вилами.
Веня отобрал с десяток катушек, которые на вид казались поновее и поаккуратнее. Дома он послушал наугад несколько катушек и пришел к выводу, что их лучше выбросить сразу, пока не получил психического расстройства. На них не было ни одной записи, которая имела бы начало и конец. Это были какие-то обрывки случайных мелодий, а то и просто шума или бульканья, записанные с невероятными искажениями. Понятие «качества записей» к ним было совершенно неприменимо.
Радиолюбители работали ночами напролёт, а днями напролёт спали. Двоих из них к третьему курсу выперли. А вот Мишка удержался и даже неплохо закончил университет. Но дело было даже не совсем в его способностях. К третьему году обучения он подружился с одной из девчонок с первого курса. Вообще-то девушек на физфаке совсем мало. Их было на третьем курсе что-то от семи до десяти в разные годы. Симпатичных было и того меньше. Хотя некоторые смотрелись ничего, на то она и молодость. А та, что положила глаз на Мишку, была худющей пигалицей, курила она, как сапожник. И всё же, оказалось, это именно то, что нужно такому слабовольному разгильдяю и безнадёжному лентяю, как Мишка. Она взяла его в свои миниатюрные, но очень жёсткие ручки, тряхнула его за загривок и сказала:
– Миша, надо. Я в тебя верю.
И Миша стал ходить на лекции и пересдачи. Человеком стал и даже диплом получил. Вот какое чудо способна совершить настоящая любовь. Это вам не то, что бурный секс какой-нибудь на скрипучей табуретке, который только расслабляет волю и оставляет чувство полной опустошенности.
Первую зимнюю сессию Веня сдал так себе. Даже один трояк по общей физике схватил. Не сориентировался еще. Зато опыт самоорганизации поимел. Во втором семестре уже почувствовал себя уверенней, спокойнее. Даже начал интересоваться спецкурсами сверх обязательной программы. Первым из них стал спецкурс «Теория физических структур», который читал доцент Кулаков. В аннотации к этому курсу, пришпиленной на доске объявлений, встречались интригующие и завораживающие фразы о том, что целью теории является разработка идей и математического аппарата единого описания универсальных закономерностей физической картины мира. Это явно стоило послушать. Он пошёл туда и не пожалел.
В школе изучают такой предмет, как физика, раздел за разделом: механика, оптика, электричество, магнетизм, теплота и даже основы атомной физики. В каждом из разделов сформулированы десятки законов, носящих, как правило, имена великих людей. По окончании школы прилежный ученик должен знать наизусть формулировки и количественные соотношения для всего множества этих законов. На физфаке университета каждый из таких разделов оформлен в самостоятельный физический курс и добавлены новые, такие как квантовая механика, статфизика, гидродинамика. Курсы читают разные лекторы. Внутри каждого курса есть своя систематизация идей и основных принципов. Знания получаешь несравненно более глубокие, но, как и в школе, остается впечатление, что физика сводится к массе совершенно разнородных законов. Какая связь, скажем, между законами Ома, Бойля-Мариотта, Кеплера и Снеллиуса? А никакой. Каждый из них следует заучить отдельно. Есть ли законы и принципы главные и второстепенные? Лекторы этого не говорят явно, но в университете уже начинаешь догадываться, что есть такие. Например, вариационные формулировки законов динамики, принцип Мопертюи-Лагранжа, уравнения Гамильтона-Якоби.
Порядок в этом хаосе разнокалиберной информации, идей и законов Веня уловил именно на лекциях Кулакова. Сам лектор уже в те годы выглядел типичным «яйцеголовым». Фигура сгорбленная от многочасовых научных бдений за столом, волос немного, эти старинные очки, кургузый пиджачок и неглаженные брюки. Но зажигать он умел. Говорил вдохновенно, эти свои формулы и таинственные значки, выписываемые на доске, любил, как любят прелестных девушек. Слушатели ещё только что сдали курс высшей математики, научившись дифференцировать и немного интегрировать, а Юрий Иванович за месяц дал основы тензорного анализа, без которого в его курсе дальше было не сделать ни шагу. С невероятной ловкостью фокусника выписывая греческие индексы ковариантных и контравариантных производных и рисуя на доске гирьки на пружинках, он выводил законы Ньютона, электродинамику Максвелла, формулировки специальной и общей теории относительности из почти очевидных принципов симметрии. Это была симфония.
Закончив введение в тензорный анализ, Кулаков поздравил всех с тем, что они перешли «мост ослов». Дело в том, что в средневековье было два типа школ – простые и высшие. В простых учили складывать и вычитать. В высших – умножать и делить. Умение делить и отделяло учёного от осла, потому что делили тогда не так, как сейчас – в столбик с позиционной записью десятичных разрядов, а в римской записи чисел, которая не является позиционной. И потому алгоритм деления был невероятно сложен. Чувствовать себя «не ослом» обалденно приятно. Правда, потом оказалось, что серые уши, копыта и ослиные хвосты у нас ещё не отпали. Знания математического аппарата, который для физика является всего лишь инструментом, у слушателей были ещё недостаточно прочные. Слова-то лектора они ещё понимали и даже научились не менее ловко, чем он, перегонять нижние индексы тензоров в верхние и наоборот. Только задачки решать самостоятельно не могли. Это обнаружилось, когда в конце семестра им устроили зачёт. Вене попалась задачка, в которой по теории возмущений предлагалось оценить высоту приливных волн мирового океана из-за влияния гравитационного поля Луны. Ребята потом говорили, что из всего курса эту задачку мог бы решить один Селим Феизов, но он проспал и на экзамен опоздал.
Один из курсов физики читал молодой, перспективный гений Володя Захаров, ставший впоследствие академиком. Плотный, пышущий здоровьем, подвижный, как ртуть. Читал просто отвратительно. Для него большая часть идей и физических закономерностей была очевидной, но он не подозревал, что их очевидность для студентов была не бесспорной. Поскольку он был гением, иметь шпаргалки, конспекты лекций и читать, подглядывая в листки, как Генеральный секретарь КПСС, ему казалось, видимо, постыдным. Поэтому он с фантастической скоростью выписывал какие-то формулы, уравнения, выкладки, бормоча при этом слова и фразы, не имеющие никакого отношения к этим формулам. Затем заходил в тупик, грыз мел, мгновенно стирал то, что студенты не успели записать, говоря, что это – «лажа» какая-то, и писал другие уравнения, которые потом тоже стирал. Лекция прерывалась звонком, когда контуры правильных уравнений уже начинали проступать на доске. Лектор с облегчением бросал мел, говоря, что на следующей лекции он напишет правильный результат. Однако, на следующей лекции он почему-то начинал новую тему. И всё же наблюдать работу гения было интересно с чисто эстетических позиций. Мало кто мог потом вспомнить, какой именно курс он читал. Зато хорошо запомнился другой Захаров, его однофамилец, читавший курс высшей алгебры. Этот был в годах, сухонький и близорукий, с выпуклыми линзами в очках – типичный интеллигент дореволюционной школы. Читал блестяще, ни одного лишнего слова, безукоризненная логика – тоже гений, но совсем иного рода. Когда виртуоз-пианист играет сложнейшие пассажи Листа, слушателю кажется, что это так легко повторить. Именно так давалась нам эта сухая, с виду, алгебра.
Курс «Введение в теорию физического эксперимента» читал Крафтмахер. Мелкие кудряшки на голове, острый нос и пронзительный взгляд. Он рассказывал о наиболее известных экспериментах Майкельсона-Морли, Милликена и Фарадея, перевернувших мировую физику, о менее известных экспериментах, уточнивших физические константы, и просто о методах измерений и обработки результатов. Где-то в начале курса он обратился с воззванием к студентам, генерировать любые самые «сумасшедшие» идеи в области измерительных приборов и аппаратуры и сообщать ему о них записками. Такие идеи иногда рождались, судя по этим запискам. Всем казалось, что ничего особенно заковыристого и непонятного в таком курсе быть не может, поэтому студенты не очень волновались о сдаче экзамена. Но вот семестровый курс заканчивается, и на консультации Крафтмахер сурово предупреждает, что списать у него не удавалось еще никому – лучше выучить всё честно. Это рождает нездоровый спортивный интерес: «И не у таких списывали». Надо сказать, что по большинству курсов физики шпоры или совсем бесполезны, или неэффективны, потому что частенько преподаватель начинает опрос, отодвинув ваш листок с написанными ответами по содержанию билета, и задает задачку «из головы». Это вам не обществоведение или история КПСС. Тут думать надо. В курсе же Крафтмахера было множество почему-то важных для него деталей, например, нужно было знать, что в установке Фарадея измерительный цилиндр диаметром четыре дюйма был сделан из чистой меда, а электроды были изготовлены из платины. Ясное дело, что всех этих мелочей не запомнишь, поэтому Веня подготовился, как обычно.
Обычно он старался выучить курс добросовестно, но, на всякий случай, дублировал отдельные формулы шпорами. Не обязательно было писать их специально, можно было взять на экзамен конспекты или даже книжку. Засовывать её за пояс брюк – чистейшая глупость. На экзамене от волнения вспотеешь, она и выскользнет в самый неподходящий момент. На этот случай, у Вени был специальный экзаменационный пиджак с вместительными карманами, пришитыми изнутри к подкладке. Студенты-старшекурсники проинформировали, что лектор имеет авторское свидетельство на динамический метод определения теплоёмкости веществ путем пропускания через них переменного тока. Так что вы могли не знать, кто такой Эйнштейн, но этот метод Крафтмахера следовало вызубрить наизусть.
Письменный экзамен, действительно, был необычным. Продумано было всё до самых незначительных мелочей. Принимает сам лектор без каких-либо ассистентов. Запускают в аудиторию всю группу сразу. На столе у экзаменатора лежит большой лист бумаги, разграфленный на мелкие клеточки, в которых написаны какие-то таинственные значки. Лектор принимает левой рукой очередную зачётку, а правая уже скользит по одному из рядов таблицы. Взглянув на фамилию в зачетке, Крафтмахер вписывает её в таблицу, кладет зачётку в стопочку на столе, и вот уже левая рука его скользит по строкам таблицы. Он проделывает в уме какие-то вычисления и затем говорит студенту номер его билета. После этого он выдает экзаменуемому два пронумерованных листка бумаги с печатью деканата и своей личной подписью. Производится последний беглый инструктаж:
– После первого предупреждения сажаю вас вот здесь – прямо перед собой, после второго удаляю с экзамена.
Все эти пассы должны полностью парализовать волю студента и испарить остатки желания что-либо списать.
Ещё стоя в очереди с зачёткой, Веня решил, что вытащить нужный лист шпаргалки с ответом на вопросы билета можно лишь в те краткие секунды, когда получив номер билета идёшь к столу, за которым будешь писать, ибо в это время внимание преподавателя отвлечено вычислениями номера билета для оставшихся студентов. Поэтому, повернувшись к экзаменатору спиной, вытаскивает пачку листков из спецкармана пиджака, неторопливо шествует к предпоследнему ряду столов, успевает найти нужный лист и засунуть оставшиеся назад. Сев за стол, он кладёт листы с подписью Крафтмахера поверх шпаргалки и начинает спокойно сдувать, на мгновение отодвигая верхний листок. При этом не делается никаких лишних, подозрительных движений, шуршаний, верчения головой по сторонам. Экзаменатор оказался верен своему слову. Он не сидел за своим столом, наблюдая за студентами издалека, как это делает большинство других, а непрерывно передвигался между столиками по очень сложной и плавной кривой. При этом время от времени он делал резкий наклон вперед, заглядывая, не прячет ли ленивый и малограмотный студент криминальную литературу в столе. Первые пять сданных работ обещает проверить тут же в аудитории и выставить оценки.
Сдул Веня без особого напряжения, аккуратно переписав даже температуру термостата во время эксперимента до десятых долей градуса, что уже само по себе должно навести на мысль о том, что всё это переписано со шпоры. Он сознательно не стал маскировать переписываемое мелкими неточностями, ибо это был честный поединок, а в вопросах чести компромиссы недопустимы. Самое трудное было спрятать шпору уже закончив работу, поскольку теперь внимание преподавателя не отвлечено на другие объекты наблюдения. Оставлять её в столе было бы также величайшей глупостью. Поэтому он положил листок шпоры сверху, демонстративно перечеркнул его размашистыми жестами, как ненужный уже черновик, скомкал и швырнул в урну, вручая чистовик экзаменатору. Подождав в коридоре еще минут пять, Веня узнаёт, что получил законную пятерку. Вот теперь уже можно было выпустить пар и сказать небрежно:
– Не говори «гоп», дядя. Что мы экзаменов не сдавали что ли?
Живым воплощением классической физики был, конечно, Юлий Борисович Румер. Это был старорежимный профессор невероятно безукоризненных манер, мягкий в общении, огромных размеров добродушный старикан. Девушкам на экзамене он целовал ручку и, в принципе, не мог поставить двойку, уже за то, что это девушка, представитель прекрасного пола. Даже ставя тройку полной дуре, он краснел, многократно извинялся, говоря: «Вы, конечно, сударыня, способны на большее, просто сегодня Вы, видимо, не в лучшей форме. Впрочем, если хотите, я готов в любое время экзаменовать вас заново, когда Вам будет удобно». В молодости он был аспирантом у Бора, работал с Ландау и Фоком, о чём он сам неоднократно упоминал, формулируя закон, который в своё время обсуждал с этими физиками. Выглядело это вовсе не хвастовством, потому что сложнейшие разделы физики он знал, как бог, выписывая на доске без единой запинки длиннейшую вязь физических уравнений и выкладок.
– Когда мы были молодыми, вот как вы, – говорил профессор Румер, – Бор дал нам, аспирантам задание, сказав, что некий Поль Дирак написал уравнение динамики электрона, которое имеет решения как с положительной, так и с отрицательной массой частиц, что является, разумеется, чистейшей бессмыслицей. Задание состояло в том, чтобы найти ошибки в выкладках этого выскочки Дирака. Мы были ещё совсем неопытными в физике, и ошибок найти, к счастью, так и не смогли. Вот так появились и узаконились в физике античастицы.
Затем Румер вернулся к написанию очередной длинной выкладки по статистике Бозе-Эйнштейна, прерванной данным лирическим отступлением на середине. Он обладал уже достаточно слабым зрением, но очки надевал редко. Теперь же он вглядывался в мелкие значки на доске, чтобы продолжить выкладки, затем начал хлопать себя по карманам в поисках очков. Не обнаружив их, Юлий Борисович пробормотал: «Наверное, я забыл их в деканате», – и вышел из аудитории. Пять минут проходит, десять. Профессора нет. Затем появляется Румер и виновато разводит руками: «В деканате их тоже нет», – и продолжает лекцию. В самом конце лекции он лезет в верхний карман куртки за платочком, чтобы вытереть пальцы от мела, и обнаруживает там злополучные очки.
Был на курсе поначалу обыкновенный, ничем особенно неприметный студент Володя Черепанов. Стоят как-то на перерыве студенты кучкой около Большой физической аудитории, а мимо проходит профессор Румер. Поздоровались, а он подходит вдруг к Черепанову, берет его за пуговицу и доверительно говорит:
– Знаете, молодой человек, я подумал над тем, что Вы мне сообщили и, пожалуй, готов теперь с Вами согласиться, что время, в указанном Вами смысле, не является физической реальностью.
Володя кивнул небрежно, как бы подчеркивая: «Много же Вам времени потребовалось, чтобы понять, наконец, то, что мне было ясно с самого начала». Румер отошел, а все прямо обомлели: наш-то пострел самого Румера уел, – и начали приставать к Володе с расспросами, но он многозначительно отмалчивался и только пренебрежительно усмехался. Теперь это был для всех человек-загадка.
Прошло время. На пятом курсе готовили доклады к студенческой научной конференции. Все описали, как могли, содержание проделанных ими работ и представили в своих докладах. И только Володя представил два доклада. Первый из них был вполне обычным, он рассматривал какие-то проблемы прохождения сигналов в многоканальной телеизмерительной системе. Зато второй вызвал нездоровый ажиотаж уже тем, что он назывался «В чем был неправ Эйнштейн?». Народу набилось в аудиторию на этот доклад – не продохнуть. Первые ряды занимали маститые ученые из Института ядерной физики, настоящие теоретики и, вообще, всяческие достойные люди. Под одобрительное гудение заднях рядов к доске выходит наш Володя и начинает примерно так:
– Альберт Эйнштейн, конечно, навел шороху в мировых ученых кругах, особенно, своей специальной теорией относительности. Но если присмотреться неторопливо, то создается впечатление, что он сформулировал её так, чтобы специально запутать окончательно всю физическую картину мира. И потому не случайно, что никакая другая теория не порождает столько парадоксов и несообразностей, как эта теория относительности. Строгий методологический анализ, однако, показывает, что всё это объясняется лишь одной причиной: в основу новой теории была заложена некорректная, внутренне противоречивая система базовых постулатов. Заменяя в этой системе по одному из постулатов на некий другой, мы получим множество формулировок такой теории, которые, в некотором смысле, будут логически эквивалентны друг другу. Принципиальное же отличие между ними состоит лишь в том, что только одна из этих формулировок вовсе не содержит никаких парадоксов. Именно она является единственно правильной. И я впервые обнаружил такую постановку.
Сделав эффектную паузу в этом месте, Володя продолжает:
– А заблуждения и парадоксы, имеющие место в остальных «дефектных» постановках, возникают вовсе не от большого ума, а от великой глупости так называемых гениев от физики.
У физических светил от такой наглости просто пена изо рта пошла. Они затопали ногами, заулюлюкали, а один даже засвистел, как обыкновенный пацан-хулиган. «Докажи!», – завопили они. Володя жестом единственного мудреца, знающего окончательную истину, остановил эту несерьёзную публику, и приступил к объяснению. У него, как и у Эйнштейна, была продуманная система мысленных физических экспериментов с падающими лифтами, какими-то зеркалами и безинерционными датчиками. В полу и потолке лифта были просверлены дырки, через которые пропущена веревка. На этой веревке ровно через один метр завязаны узлы, так что измерение скорости падения сводится лишь к подсчету числа узлов, прошедших через лифт за единицу времени по часам того чудака, что в лифте. Никакого искажения масштабов и длин здесь не будет и в помине, поскольку сама веревка неподвижна. Буквально через каждую минуту эти псевдо-физики пытались прервать Володю, прищучить и запутать. Но, как опытный лоцман, которого никакой туман не способен сбить с фарватера, Володя останавливал их брезгливым жестом или короткой фразой:
– Так может рассуждать лишь абсолютный профан, ничего не смыслящий в физике.