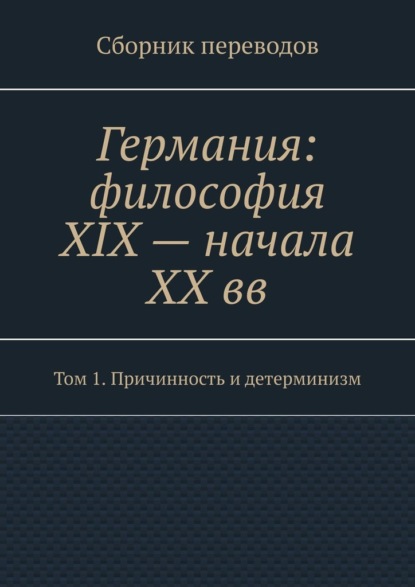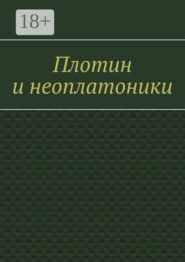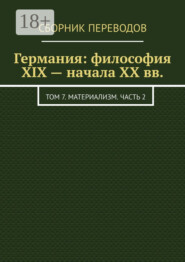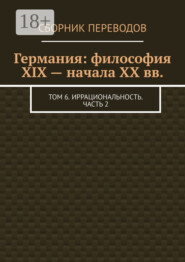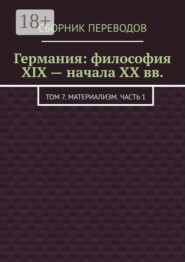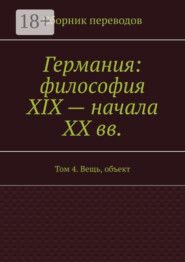По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 1. Причинность и детерминизм
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Критика:[15 - Милль, Логика, том II, стр. 299.] Подробное обсуждение концепции будущего у Шюте является лишь приложением к его опровержению мнения о том, что ход природы однороден. Поэтому в конце этой дискуссии я кратко остановлюсь на защите и опровержении, которые Бэйн и Ф. А. Лэнгэ дают версии этого мнения Милля. Вундт утверждает,[16 - Вундт, Vorlesungen ?ber Menschen- und Tierseele, т. 1, с. 472.] что «принцип равномерности хода природы не может быть предпосылкой всех индукций, поскольку сам является индукцией», а Мансель[17 - Генри Лонгвиль Мэнсел, Prolegomena logica.], что «основание всех индукций само не может быть индукцией». Против этого Александер Бейн[18 - Александр Баин, Логика, Индукция, стр. 114—115.], по сути, напоминает следующее: «Индукция и умозаключение – разные вещи, индуктивные методы Милля называются индуктивными только из вежливости (?), по сути же они являются дедуктивными методами с надмножеством: «Ход природы однороден». Нет сомнений, что индуктивные методы Милля можно понимать как дедуктивные, при условии, что все они предполагают одну и ту же пропозицию, но то, что индуктивные методы Милля носят то же название, что и метод, с помощью которого, согласно Миллю, эта пропозиция получена, а не из-за их сходства с последней, является необоснованным утверждением. Как бы то ни было, опровержение Шюте теоремы Милля о равномерности хода природы не имеет ничего общего с возражениями Вундта и Манселя и поэтому не затрагивается встречным замечанием Баина. Шюте возражает против утверждения Милля, что неопределенность метода простого перечисления или индукции в обычном смысле обратно пропорциональна широте его обобщения, утверждения, с помощью которого Милль пытается оправдать использование обычной индукции для доказательства теоремы о равномерности хода природы и для поддержки самой этой теоремы. Шюте показывает, что утверждение Милля не может быть доказано ни с помощью восприятия, ни с помощью простой или научной индукции, что оно, таким образом, совершенно недоказуемо. С помощью этого утверждения нельзя ни обосновать применение метода обычной индукции, ни подкрепить теорему о равномерности хода природы. Доказательство Милля не увенчалось успехом, и теорема остается недоказанной и недоказуемой.
F. A. Lange [19 - Фридрих Альберт Ланге, История материализма, т. II, 3-е издание, стр. 46.]выступает против предположения Милля о том, что теорема о равномерности хода природы, или, как он говорит, закон причинности, должна быть выведена из обычной непроизвольной индукции.
«Из этого предположения следует, что на Земле или в другом мировом теле что-то может происходить без всякой причины». Конечно, Милль ответит, что это ни в коем случае не вероятно, и если такой случай произойдет, он, как и те, кто считает закон причинности априорно данным, приостановит суждение об этом случае до тех пор, пока наука не изучит его более тщательно. Милль всегда сможет утверждать, что индукция применима к нему в такой степени, что он еще не может отказаться от надежды отнести этот случай к общему закону причинности. Доказательство обратного будет испытанием in infinitum; дело грозит превратиться в пустой спор слов, если не признать, что сторонники априорного характера закона причинности правы a priori и до всякого опыта.»
На самом деле, Ланге, кажется, правильно указал конечное следствие предположения Милля о том, что единообразие хода природы или закон причинности основан на непроизвольной индукции; на практике Милль вряд ли может вести себя иначе в применении закона причинности, чем ведут себя априористы в применении своего закона причинности. Только скептическое отрицание любой доказуемости и, следовательно, любой научной обоснованности закона причинности указывает на другое направление, конечно, не для практической жизни, но, безусловно, для научного мышления. С этим другим направлением научного мышления мы сейчас и познакомимся, попытавшись установить истинное понятие причины.
Для того чтобы ответить на вопрос об истинном понятии причины, мы должны строго отделить от него вопрос об обычном понятии причины и ответить на каждый из этих двух вопросов в отдельности. В научных трактатах о понятии причины, которые были написаны до сих пор, эти два вопроса обычно смешивают или затрудняются провести между ними различие. Конечно, если бы мы могли утверждать, что у нас есть полное и правильное понятие причины, то оба вопроса совпадали бы. Броун принимает эту позицию в своем «Исследовании отношения причины и следствия» и стремится доказать, что причина есть не что иное, как неразрывная связь двух явлений, и что даже согласно нашему обычному понятию причины она не может быть ничем иным, как неразрывной связью явлений. Такое же отождествление обоих вопросов мы встречаем в школе Рейда и Хамильтона, которые, не давая точного определения того, что они понимают под причиной, тем не менее утверждают, что все люди имеют естественное и совершенно верное представление о том, что такое причина, так что и здесь причина совпадает с представлением о ней.
С другой стороны, так называемая скептическая школа, которая либо вообще отрицает наличие у людей понятия о причине, либо считает это понятие несовершенным, должна обязательно ответить на оба вопроса по отдельности, чтобы установить разницу между обычным понятием о причине и истинным представлением о ней. Однако ни один из писателей этой школы, похоже, до сих пор не сделал этого удовлетворительно. Юм в своем трактате «О человеческой природе» и далее в «Эссе» занимается главным образом вопросом о том, в чем состоит наше понятие причины, или, чаще, в чем оно не состоит. Ответ на совершенно иной вопрос о том, что такое причина, либо предполагается, либо затрагивается очень поверхностно. Я постараюсь строго разделить эти два вопроса. Если мы обнаружим, что на каждый из них должен быть дан один и тот же ответ, наше доверие к выводам неподготовленного ума станет более твердым; если же, напротив, ответы будут разными, мы, по крайней мере, будем защищены от ошибочного отождествления двух вопросов. Итак, наш первый вопрос: какова та связь между явлениями или восприятиями, которая делает одно причиной, а другое – следствием? Но прежде чем решить этот вопрос, мы должны ответить на другой, более простой, а именно: существует ли связь между самими вещами независимо от мыслящего субъекта, который их воспринимает, или же она существует только между явлениями, то есть между вещами в той мере, в какой они действуют на наши органы чувств, и эта связь добавляется к явлениям разумом? Другими словами, существует ли причинность во внешнем мире, или же причинность является лишь продуктом деятельности разума, который устанавливает связи между явлениями ради своих собственных нужд? Мы смело отвечаем на этот вопрос: связь между явлениями – дело рук разума и только разума. Под причиной мы понимаем явление, которое разум выбирает в качестве признака возникновения другого явления, которое он называет эффектом; под эффектом мы понимаем явление, которое разум выбирает в качестве признака предшествующего существования причины. Я, конечно, не утверждаю, что этот выбор совершенно произволен, но то, что это в определенной степени так, надеюсь, покажет ход нашего исследования. Я прошу читателя не пугаться кажущейся парадоксальности моего утверждения, а мужественно и беспристрастно изучить основания, на которых оно покоится; только так он сможет действовать как друг нашей общей госпожи – истины.
Под причиной, таким образом, мы понимаем связь, установленную духом между явлениями. Необходимо доказать это утверждение. Для этого мы пойдем историческим путем. Представим себе дикаря, наделенного всеми умственными способностями, внезапно перенесенного в этот мир, чтобы ориентироваться в нем с помощью своих органов чувств и недавно пробудившегося разума, дикаря, не обладающего никаким иным знанием, кроме того, которое дают ему последовательные восприятия. Таким образом, мы сможем решить вопрос, существуют ли уже в этом мире причины, которыми он сначала овладевает с помощью своего мышления, или же, как ни странно, он постепенно создает эти причины.
Конечно, мы должны признать, что эта идеальная картина дикаря, по всей вероятности, не полностью соответствует истории. Согласно теории эволюции видов, многие способности человека могут быть отнесены в своем зарождении к стадии, лежащей гораздо ниже организованной жизни, и развивались медленно и без отчетливых градаций из примитивных состояний сознания, о которых зрелый человек утратил всякое представление. Вполне вероятно, что восприятие одного явления как признака появления другого явления предшествовало, говоря историческим языком, появлению человека. Однако даже если наш дикарь в большей или меньшей степени является порождением воображения, рассказ о его развитии даст достаточно точную картину эволюции человеческой расы на протяжении бесчисленных тысячелетий. Итак, мы предполагаем, что это существо наделено всеми способностями человека, но внезапно перенесено в этот мир без какого-либо опыта. Сначала у него будет лишь спутанное сознание постоянных перемен: он не будет видеть ничего, кроме дикого потока бессмысленных явлений, проносящихся над ним с ужасающей быстротой. Но если он проживет всего неделю, это состояние спутанного сознания уступит место другому. Он должен приспособиться к обстоятельствам, а сделать это эффективно можно, только подготовившись к явлениям до их наступления. Для этого он должен понимать, что одни явления сопровождаются другими, чтобы, воспринимая первые, с полным основанием готовиться к появлению вторых; он должен уметь объединять самые обычные явления в пары, чтобы восприятие первых порождало ожидание вторых. Это должно произойти, потому что только так он может приспособиться к обстоятельствам, только так он может остаться в живых. Значительно позже он сможет вывести из восприятия последним попарно расположенных явлений более раннее или одновременное существование первых, чтобы вернуться от следствия к причине. Позже по двум причинам. Во-первых, потому, что жизнь возможна и даже не очень затруднена, если восприятие эмпирически последующего явления не приводит нас к мысли об эмпирически предшествующем явлении, поскольку никакое немедленное действие обычно не является результатом такого мышления, идущего назад от следствия к причине, а между тем немедленное действие как раз и является целью мышления в первый раз. Во-вторых, из-за трудности мышления в направлении, противоположном восприятию, – трудности, которая на самом деле преодолевается только тогда, когда после восприятия явления, следующего за опытом, приходит осознание того, что причина существовала до или в то же самое время. В этом случае, хотя причина и является более ранней или одновременной в порядке существования, она будет более поздней в порядке сознания, и таким образом трудность мышления в направлении, противоположном восприятию, преодолевается.
Но как бы поздно ни возникло мышление, восходящее от следствия к причине, развитие нашего дикаря в любом случае уже очень рано и в очень короткое время приводит к тому, что он все обычные явления попарно организует в причины и следствия. Его развитие должно привести к этому, потому что только так он может приспособиться к своим обстоятельствам, то есть подготовиться к предстоящим явлениям и таким образом остаться в живых. Его главной задачей, сознательной или бессознательной, может быть только приспособление своих действий к обстоятельствам и организация своей жизни как можно более безопасно и безболезненно.
Попытки нашего дикаря упорядочить явления по причинам и следствиям, которые постепенно увеличиваются и становятся все более полными, чтобы в конце концов суметь увидеть и рассмотреть все явления в группах, разбитых на пары, являются точным отражением истории научной работы на протяжении веков. Наука всегда стремится отбросить признаки, за которыми реже, чем за другими, следуют ожидаемые явления, или которые по другим причинам менее других подходят для указания на возникновение явления, и заменить их другими признаками. Но, постоянно устраняя причинно-следственные связи и изобретая новые, она скромно утверждает, что не делает ничего, кроме открытия причинно-следственных связей. Насколько произвольны некоторые из создаваемых им признаков, мы увидим позже, в главе об индукции. Там же мы докажем, что знаки науки, как бы тщательно они ни были подобраны, обязательно должны быть неадекватны разнообразию природы. Там же мы попытаемся объяснить, почему одни связи явлений мы считаем причинными, а другие – просто случайными, и каково реальное значение последнего слова.
Теперь мы объяснили и, я надеюсь, доказали наше утверждение, что причинная связь – это произвольная связь, созданная разумом для соединения явлений. Но нам еще предстоит рассмотреть несколько существенных возражений, которые могут быть выдвинуты против него. Можно сказать, что мы признаем, что идеи явлений связаны в уме, но это не вся правда и не то, что мы имеем в виду, когда говорим, что явления различаются как причины и следствия. Связь идей в сознании зависит от того, насколько часто явления соединяются в опыте. Чем чаще явления встречаются в опыте как связанные, тем теснее связь соответствующих идей в нашем духовном существе. Причинная связь существует именно в этом соединении явлений в опыте, а не в простом соединении идей.
С другой стороны, я могу сказать, что в этом споре слово «опыт» означает именно человеческий опыт, и этот человеческий опыт никогда не может быть стандартом для Вселенной. Более того, опыт, который мы имеем в отношении двух явлений, может дать нам информацию об этих двух явлениях и только о них; он ничего не может сказать нам ни о каких явлениях в будущем. Тот факт, что за появлением А следует появление Б, может быть связан только одним способом с некоторой будущей последовательностью подобных появлений, а именно с образом мышления. Когда А и В прошли как внешние явления, с ними полностью покончено, они больше не имеют никакой силы и значения. Но мое представление о последовательности А и В остается, даже если я встречаю новую последовательность подобных явлений. Я осознаю сходство этой новой последовательности со старой, и связь идей в моем сознании, соответствующих A и A', B и B', станет более тесной. Но эта связь существует в моем уме и только в моем уме, тогда как связь между внешними явлениями сама собой устраняется всякий раз, когда устраняются внешние явления. Однако это возражение можно принять в той мере, в какой оно заставляет нас несколько изменить наше определение причины. Связь причины и следствия, когда речь идет об обычной и естественной последовательности явлений, посредством искусственно созданной последовательности в главе об индукции, строго говоря, не является произвольной, хотя и носит чисто интеллектуальный характер. Далее мы увидим, что эта уступка не так уж важна, как кажется на первый взгляд, и что большинство причинно-следственных связей, создаваемых наукой, чисто произвольны.
Наш ответ на вопрос: что такое на самом деле причинно-следственная связь, совпадает с ответом Юма в той мере, в какой мы оба заявляем, что причинно-следственная связь между явлениями просто создается человеческим разумом и не существует в самих явлениях. Разумеется, между нами есть очень существенные различия в деталях, и прежде чем перейти ко второй части нашей темы, а именно к обсуждению концепции, которую люди обычно формируют о природе причины, будет уместно подчеркнуть эти различия и показать, насколько наше определение свободно от возражений, выдвинутых против Юма.
Давайте сравним эти две теории. Теория Хьюма заключается в следующем: Каузальная связь – это мысленная связь между двумя идеями или между внешним впечатлением и идеей; она берет свое начало в привычке мыслить, возникающей в результате постоянной связи двух впечатлений. (Юм использует слово «впечатление» в том же смысле, в каком мы используем термин «индивидуальный опыт», как синоним восприятия или ощущения; для него, как и для нас, впечатление – это повторное представление восприятия или ощущения в ослабленной форме). Наша теория состоит в следующем: Причинная связь – это связь, установленная человеческим разумом между явлениями в своих собственных целях; два явления следовали друг за другом в прошлом, часто или постоянно, но не обязательно; каждое из двух явлений рассматривается как признак другого, но прежде всего и чаще всего причина является признаком возникновения следствия.
Выступая против теории причинности Юма, Броун решительно подчеркивает, что приписывание причинной связи простой привычке противоречит опыту. В некоторых случаях мы с радостью предположили бы причинную связь явлений на основании единственного примера последовательности, но обширный опыт скорее ослабляет, чем укрепляет нашу веру в причинную связь, поскольку он все больше и больше знакомит нас с разнообразием природы. Это действительно язвительная критика скептической доктрины в том виде, в каком ее представил Юм, возможно, более небрежным способом, но она ничего не доказывает против нашей теории, согласно которой причина – это всего лишь разновидность знака, а замечания Бровна против Хьюма, правильно воспринятые, бросают новый свет на нашу теорию.
В самом деле, длительный обширный опыт ослабляет нашу веру в причинно-следственные связи, то есть образованные и взрослые люди менее способны установить причинно-следственную связь с первого взгляда, чем дети и дикари. Почему так? Просто потому, что их образование значит не больше, чем то, что они живут в более сложных условиях, в которых первые и наиболее очевидные признаки часто не связаны с ожидаемым эффектом, в которых поэтому часто возникающая необходимость менять признаки вызывает нежелание устанавливать их с первого взгляда. Когда же мы все-таки сможем установить причинно-следственную связь на основе одного опыта? Конечно, когда мы либо никогда прежде не замечали явления, для которого ищем признак, либо когда мы, по крайней мере, никогда прежде не замечали предшествующего ему явления, с которым могли бы связать его как с его причиной. В этом случае нет места сомнениям и нет выбора между различными предшествующими явлениями. Есть только одно явление, которое можно принять за признак появления замеченного явления, и поскольку в каждом случае мы пытаемся получить признак, мы должны принять это явление как таковое. Конечно, если более обширный опыт предложит нам более подходящий признак, мы можем впоследствии заменить им тот, который предположили вначале. Однако в тех случаях, когда мы часто наблюдали рассматриваемое явление и когда было несколько предшествующих явлений, но ни одно из них не предшествовало первому, мы понимаем, что ни одно из этих предшествующих явлений не является подходящим или безошибочным признаком и что наиболее безопасной процедурой является изложение их всех вместе. Конечно, пока у нас есть более одного предшествующего признака, мы не можем выполнить одну из двух функций, основанных на причинной связи, а именно: вывести из следствия предшествующее или одновременное существование причины. В таких случаях мы осознаем недостаток, который иногда мешает нам быстро приспособиться к обстоятельствам. Как мы пытаемся исправить этот недостаток и можно ли правильно назвать используемый нами метод открытием причинной связи между явлениями, мы рассмотрим далее в главе об индукции.
Чтобы подвести итог обсуждению истинного понятия причины в нескольких предложениях, лучше всего начать с того, что было сказано в прошлый раз об установлении причинной связи на основе одного опыта. Когда мы впервые воспринимаем последовательность явлений – (ведь именно это Шюте хочет сказать в данном случае словом «феномен»), когда мы впервые воспринимаем одно явление, напр. определенный звук в первый раз и тщетно ищем причину его возникновения, не может быть и речи об установлении причинной связи – второе звено которой либо вообще еще не воспринималось нами, либо не в той связи, из которой мы могли бы установить причинную связь, мы также не сможем установить причинную связь на основе последовательности, наблюдаемой только один раз. Конечно, это предполагает развитое состояние нашего сознания. Мы можем быть побуждены к установлению первых причинно-следственных связей только путем повторного восприятия одной и той же последовательности явлений. Только так в нас может возникнуть осознание их взаимосвязи. Как только это осознание пробудилось и как только в процессе развития к нему подключилось стремление расположить все явления попарно в соответствии с их взаимосвязью, мы можем установить причинную связь между ними и при первом наблюдении последовательности явлений. Как правило, два явления, на основании которых мы устанавливаем причинно-следственную связь, следовали друг за другом в прошлом часто или постоянно, но не обязательно; для развитого сознания может быть достаточно одной последовательности. Мы подчеркиваем: не обязательно, и тем самым вновь опровергаем объяснение Милля о том, что в причинной связи последующие явления происходят после предыдущих во всех случаях и обязательно.
Конечно, такое объяснение предполагает равномерность хода природы; только при этом условии можно говорить о необходимом возникновении последующих явлений. Шюте объясняет вместе с Хьюмом, что причинно-следственная связь просто создана человеческим разумом и не существует в самих явлениях. Более того, Шюте описывает эти причинно-следственные связи, поскольку они не являются естественными, то есть не являются непосредственной последовательностью, данной в опыте, как произвольные творения человеческого разума, к которым он прибегает ради собственных нужд и целей, то есть для того, чтобы адаптироваться к обстоятельствам, оставаться жизнеспособным в постоянно меняющихся обстоятельствах и сохранять жизнь. Таким образом, причинно-следственные связи соответствуют стремлению человека приспособиться, как средства достижения цели, и они имеют такую же силу и истинность, пока стремление человека приспособиться с их помощью увенчивается успехом. Я добавляю эту мысль, которую Шюте больше не высказывает, потому что она завершает серию его мыслей и делает окончательный вывод. Шюте приводит двойное доказательство своей точки зрения на причинно-следственную связь. Во-первых, он показывает, что человек, чтобы приспособиться к своим обстоятельствам и сохранить их, должен подготовиться к грядущим явлениям, а для этого он должен воспринимать предшествующие явления как признаки наступления последующих. Если с течением времени, после восприятия последующих явлений, добавляется сознание предшествующего или одновременного существования явлений, которые воспринимаются как признаки этих последующих, то и последующие теперь могут быть восприняты как признаки предшествующих. Таким образом, происходит попарная группировка предшествующих и последующих явлений, и представление о первых как о признаках вторых является необходимым моментом всех этапов развития человеческого бытия, которое без этого не может продолжать существовать. Во-вторых, опыт последовательности двух явлений не может научить нас ничему другому, кроме как этим явлениям и их связи; он ничего не может сказать нам о будущей последовательности тех же явлений. Переход от настоящей последовательности к будущей может быть установлен только мышлением, которое устанавливает первое из настоящих последовательных явлений как признак наступления второго. Можно возразить: Но если человек, чтобы сохранить свою жизнь, должен фактически принимать предшествующие явления за признаки последующих и если, кроме того, опыт последовательных явлений не может научить его никакой другой связи между этими явлениями, кроме той, что первые являются признаками вторых, установленными духом, то доказывает ли это, что между последовательными явлениями нет никакой другой связи? Отвечаем: понятие о такой иной связи последовательных явлений должно было бы быть дано чистым разумом, это должно было бы быть априорное понятие. Борьба с априористами завела бы нас слишком далеко в сторону от нашего пути. Если эту иную связь понимать как причинную связь в обычном смысле слова, то мы подробно обсудим происхождение и значение понятия причинной связи в обычном смысле слова.
После изложения нашей точки зрения на происхождение и значение понятия причины, которой придерживается большинство людей, мы обсудим взгляды Юма на эту тему. Мы будем придерживаться сведений, содержащихся в «Эссе», хотя трактовка этого вопроса в «Трактате о человеческой природе»[20 - Давид Юм, Трактат, указ. соч. III, § XIV.] кажется нам гораздо более удовлетворительной и философской, – потому что Юмэ отверг последнее сочинение. Вопрос, как его ставит Юм, заключается в следующем: Что является впечатлением (восприятием или чувством), из которого возникает наше представление о причине? На мой взгляд, эта версия вопроса не допускает ответа, поскольку основана на ложной посылке, а именно на предположении, что наши идеи являются простыми репрезентациями отдельных впечатлений. Юм настолько твердо придерживается этого предположения, что для него доказательство того, что представление о причине не основано на одном впечатлении, равносильно доказательству несуществования этого представления. Итак, не все наши идеи на самом деле являются воссозданием отдельных восприятий или ощущений. Наше познание – это не просто ослабленное восприятие; это, конечно, так, но это и нечто большее; далеко не последнюю роль в наших представлениях играют те, которые обозначают не непосредственно восприятия, а отношения между восприятиями, группы восприятий, расположенных в определенном ряду. Мы постараемся показать, что обычное понятие причины есть не что иное, как репрезентация определенной группы восприятий в определенном порядке.
Обсуждая вопрос о том, из каких источников может быть получена наша идея причины или силы – которые Юм правильно понимает как коррелятивные термины, – Юм сначала обсуждает мнение, что эта идея происходит из опыта влияния души на конечности тела. В противовес этому мнению он утверждает:
Во-первых, что связь души с телом совершенно загадочна;
во-вторых, что мы не можем всегда двигать конечностями по своей воле
в-третьих, что анатомия учит нас, что не существует прямого действия воли на конечности тела, а есть только прямое действие на мышцы, которые в конечном итоге приводят конечности в движение.
В примечании он добавляет, что опыт стремления или усилия двигать конечностями не может дать нам понятие о силе, потому что мы
(а) приписываем силу большому количеству вещей, неспособных к усилию, например, ветру, потому что
(b) ощущение попытки преодолеть сопротивление не имеет известной связи с каким-либо событием; то, что из этого следует, мы знаем только из опыта, мы не можем знать этого априори.
Последнее утверждение в этом примечании очень важно:
«Следует признать, что воспринимаемое нами стремление животных очень близко к обычному неточному представлению о силе, хотя точного представления о силе быть не может».[21 - Юм, Эссе XXXIX, § VII, второе примечание.]
Любопытно, что Юм говорит, что в этом отрывке он хочет исследовать содержание понятия причины и стремится доказать, что у нас вообще нет такого понятия. Но в примечании он говорит об обычной неточной идее причинности. Но здесь он виновен в смешении двух совершенно разных вопросов, которых мы так тщательно избегали, а именно: что такое причинная связь? и: Какое представление о ней формируют люди? Вполне возможно, что это понятие весьма неточно, что оно ни в коем случае не выражает реальную природу причинной связи, но утверждать в примечании, что это понятие неточно, когда отрывок, к которому относится примечание, призван доказать невозможность формирования такого понятия, – это упущение, в котором вряд ли был бы виновен такой строго логичный писатель, как Юм, если бы он различал два совершенно разных вопроса.
Если Юм хотел лишь показать, что у людей нет философской или точной концепции причинности, зачем ему понадобилось подробно рассматривать различные источники, из которых люди могут почерпнуть эту концепцию? Нужно было только определить, в чем состоит обычная концепция причинности (а то, что она существует, Юм предполагает в примечании), сравнить эту обычную идею с истинной идеей, как он объясняет ее далее в упомянутом «Эссе» (хотя и не так ясно и точно, как в «Трактате о человеческой природе»), и показать, чем эти две концепции отличаются друг от друга.
Поскольку мой взгляд на происхождение нашего обычного представления о причинности не сильно отличается от того, что здесь отвергает Юм, необходимо подробно рассмотреть его возражения. Первое из них я, признаться, не могу понять. Если я скажу, что моя концепция причинности является составной, а именно концепцией воли, за которой следует движение, то на что можно возразить, что никто не знает природы связи между двумя вещами – волей и мускульной деятельностью? Моя концепция включает в себя лишь факт последовательности воли и движения, о котором я непосредственно знаю, но не какое-либо предполагаемое объяснение этой последовательности. Для Юма, конечно, идея о том, что формирование составной концепции невозможно, лежит на заднем плане, но он не нашел бы признания этой идеи так же легко, как и утверждаемой необъяснимости связи между душой и телом.
Второе возражение, предполагающее, что мы должны быть абсолютно уверены в том, что члены подчиняются воле, может иметь значение только для тех, кто рассматривает неизменность как элемент понятия причины; для нас, утверждающих, что введение этого элемента в понятие причины недопустимо и запутанно, оно не имеет никакого значения.
Третье возражение предполагает, что обычное понятие причины переносит кажущуюся прямую связь между волей и изменением или движением в нашем теле на окружающий нас мир, и разрушается доказательством того, что связь между волей и изменением не прямая, а косвенная. Мы утверждаем обратное: Составная идея причины, которая впервые сформировалась, когда все люди еще считали связь между волей и изменением прямой, вполне может сохраниться, если будут обнаружены промежуточные звенья между волей и изменением (например, деятельность нервов и мышц), особенно если идея, основанная на непосредственности этой связи, долгое время преобладала и как бы укоренилась в сознании людей. Кстати, все три возражения негласно основаны на идее, что образование сложной идеи невозможно.
В примечании Юм обсуждает модификацию критикуемой им теории, но вряд ли воспроизводит ее правильно. Ни один здравомыслящий человек не станет утверждать, что опыт попытки или усилия сам по себе может дать нам понятие причины; скорее, каждый объяснит это понятие как повторное представление следующих впечатлений или опытов, а именно воления, стремления, движения, которые следуют друг за другом регулярным образом. Ни одно из этих впечатлений само по себе, ни все они вместе в каком-либо порядке не дают нам, по моему мнению, представления о силе или причине, но только три впечатления, взятые вместе в том порядке, в котором они всегда происходили». По-видимому, кто-то из современников или предшественников Юма придерживался того же мнения в более или менее определенной форме, если только, например, сам Юм не занимался его интерпретацией и опровержением.
Разумеется, Юм считал эту точку зрения достойной порицания, поскольку она утверждает существование составной идеи, не проистекающей из одного впечатления. Но давайте рассмотрим другие возражения, которые он выдвигает против него. Первое из них (а) сводится к следующему: если наше понятие силы или причины включает в себя стремление животного к деятельности как один (он, конечно, хочет сказать: как единственный) из своих элементов, то это понятие на самом деле неприменимо ко многим связям явлений, которые мы подводим под понятие причинности. Это замечание совершенно справедливо, и мы постараемся дать объяснение факту, на который оно ссылается. Но оно доказывает лишь то, что наше понятие причинности не является точно соответствующим или философским, что в действительности оно не охватывает всех случаев, к которым применяется это название. Оно никоим образом не может помочь доказать, что само понятие не существует. Второе возражение (b) справедливо только против тех, кто рассматривает идею причинности как врожденную и априорную, то есть как врожденную и априорную по отношению ко всему опыту; оно ничего не доказывает против тех, кто характеризует эту идею как повторное представление определенных наблюдаемых явлений в определенном порядке.
Поэтому мы утверждаем следующее: Понятие причины или силы есть составное понятие, состоящее из понятий воления, стремления и изменения, которые связаны между собой в таком порядке. Это утверждение хочет сказать следующее: если мы приписываем всем событиям причинность, то мы предполагаем, что каждое изменение в мире вызывается теми же силами, о которых мы знаем, когда изменения в нашем теле вызываются волей. Теперь наша задача – объяснить, как получилось, что эта идея причинности, взятая из личного или, по крайней мере, из живых существ, была столь чудесным образом распространена на области, в которых ей, очевидно, нет естественного места. Для нас, стоящих в полном свете современной науки, это объяснение не представляет сложности. Возможно, для Юма кажущаяся неразрешимость этого вопроса как раз и была главным препятствием к принятию теории, которую он почти одобряет в примечании. («Следует, однако, признать, что животная Strebet?tigkeit, хотя и не может дать нам точного представления о силе, все же очень близка к обычному неточному представлению о ней»). Если бы Юме доказали, что это так называемое обычное неточное представление о силе является единственным реальным представлением о ней, и далее, что это представление, даже в том виде, в каком оно существует в неискаженном сознании множества людей, не имеет сейчас и десятой доли той силы, которую оно имело в сознании тех прошлых народов, для которых мир был полон богов, то есть человеческих духов в других обличьях, – возможно, он согласился бы с нашей теорией. В те времена метафоры, рассматривающие неодушевленные вещи как живых духов и действующих лиц, были не поэтическим преувеличением, а трезвым выражением обычного убеждения. В своей книге «Первобытная культура» Тейлор показал, насколько распространен среди диких народов анимизм, то есть привычка приписывать частям неживой природы способности и чувства, сходные с их собственными. Дикарь хоронит пищу вместе с трупом своего отца или сжигает ее на его могиле, чтобы дух пищи питал дух отца, как настоящая пища питает его тело. Подобно тому, как он считает дух человека отдельным от его тела, он также приписывает отдельный дух каждой вещи, которая способна расти или изменяться. Когда вера в существование духов в каждой вещи стала общей, каждое изменение определенно и непосредственно приписывалось деятельности воли или духа в изменяемой вещи или вне ее. Теперь, непосредственно сознавая действие воли на члены и в то же время усилие, происходящее между волей и движением членов, естественно было предположить точное сходство в природе действия духа других вещей, которые в действительности были лишь отражениями собственного духа, и таким образом понятие сознательного усилия было соединено с понятием воли и изменения, чтобы образовать целое составное понятие причины, то есть понятие действия духа в мире для производства изменения. О том, насколько личным изначально было это понятие, можно судить по нескольким разрозненным намекам. Во-первых, греческое слово «причина» – всего лишь производное от прилагательного, выражающего личную ответственность. Во-вторых, каждый глагол, то есть каждое обозначение изменения, в первую очередь личностный, то есть он утверждает вмешательство некой воли, которая усилием воли приводит к изменению. Можно резонно усомниться в том, что так называемые безличные глаголы действительно безличны, даже сейчас, в соответствии с выражаемым ими понятием, не означает ли id всегда некую квазиличную силу. Должен признаться, что в моем сознании, насколько я могу охватить свои мысли, всегда скрывается такая идея, когда я использую какой-либо безличный глагол. Эта идея причинности, происходящая из первоначально общей веры в существование духов в вещах, была распространена этой верой на все изменения в мире естественным и логичным образом. Эта идея не угасала по мере того, как убеждение, на основе которого она возникла, постепенно ослабевало и угасало. И это неудивительно.
В наших современных языках едва ли найдется слово с таким широким значением, как слово «причина», которое не несло бы в себе смутные духи веры, некогда облекавшие его в энергичную жизнь, но теперь давно умершие. Разве все концепции моральной науки не лишены смысла без принятия давно отброшенной доктрины о месте и телесной конституции души? Несомненно, это метафоры, но метафора бессмысленна, если мы не можем представить себе некоторое сходство между сравниваемыми вещами. Примерно все более тонкие метафоры отсылают наше нынешнее представление о внешнем или внутреннем мире к более раннему объяснению или убеждению о нем. Мы все еще называем солнце колесницей Феба, а луну – бледной Синтией, но ни одно из этих выражений не имеет никакого значения, кроме как в связи с полузабытыми мифами многобожия. Почему нас трогает, когда поэт восклицает: «Безмолвная природа оплакивает своего певца и празднует его похороны»? Потому что это восклицание вызывает из смерти к жизни полумертвые убеждения, которые еще цепляются за эти слова. Каждая метафора, пытающаяся дать жизнь современному творению или изобретению, всегда имеет для нас что-то вынужденное или надуманное. Воображение все еще оживляет объекты, которым первоначальное убеждение давало жизнь, но оно отказывается выходить за пределы этих объектов. Когда человечество еще верило, что все движущиеся вещи наделены сознательной жизнью, не было паровых машин. Поэтому поэт, приписывающий жизнь паровым машинам, повинен в анахронизме, и мы отказываемся следовать за ним.
Вся наша концепция причинности – это большая метафора, то есть отголосок в нашем воображении того, с чем разум покончил. Хьюм, который стремился понять эту концепцию только с помощью разума, не нашел в ней никакого содержания. В соответствии со своим принципом, согласно которому все наши представления могут быть получены только из восприятия индивида, он должен был заявить, что никакое представление не может быть связано со словом «причина», поскольку не существует соответствующего восприятия. Однако такое восприятие существует, и в этом общее сознание человечества право. Но разум также прав, когда заявляет, что эта идея совершенно неприменима во многих случаях ее применения. И поэтому, чтобы иметь возможность применять эту концепцию во всех случаях, мы должны отодвинуть ее на задний план вместе с ее реальным содержанием и облечь ее в темную неопределенность.
Для нас, сторонников возможности того, что убеждения и склонности к убеждениям могут жить в людях, весь личный опыт которых тем не менее расходится с этими убеждениями, очевидная дилемма Хьюма (либо не существует понятия силы, либо мы применяем эту идею в противоречии с самой собой) не представляет никакой трудности, и мы предполагаем, что величайший мыслитель Англии не стал бы так легко отвергать гипотезу, содержащую зародыш истинной теории, если бы он знал о двух фактах – анимизме и наследовании убеждений.
Таким образом, мы убедились, что концепция, которую люди обычно формируют о причинно-следственной связи, хотя когда-то и охватывала все поле модификаций, вызванных первоначальным анимизмом, теперь вписывается лишь в небольшую часть этих модификаций, и что осознание этого факта придало концепции причинно-следственной связи все большую неопределенность.
Подведем краткий итог обсуждению обычного понятия причины.
Во-первых, обычное понятие причины, обычно синонимичное понятию силы, состоит из понятий воли, стремления и изменения, из всех трех понятий, взятых вместе в том порядке, который наблюдается здесь. Это понятие взято из опыта нашего воления, которое вызывает изменения в нашем теле посредством стремления.
Во-вторых, эта концепция причины была сформирована в то время, когда все вещи еще рассматривались как желающие, стремящиеся, вызывающие изменения личности или духи по их сходству с людьми – во времена анимизма. В то время эта концепция была распространена на все вещи в результате такого взгляда на вещи.
В-третьих, в силу унаследованных убеждений или склонности к убеждениям, несмотря на противоположный опыт, эта концепция сохранялась даже тогда, когда способ взгляда на вещи, на котором основывалось ее применение, был признан ложным для многих вещей и полностью прекратился. В применении к этим вещам понятие, конечно, должно было теперь все больше и больше терять свое действительное содержание и становиться неопределенным и расплывчатым.
В-четвертых, наше обычное понятие причины, таким образом, многообразно: первоначально обозначая сознательное воление, приводящее в движение члены тела, оно многократно опустошалось и ослаблялось, пока не превратилось в понятие неодушевленной силы. Но оно всегда обозначает деятельность, и если мы хотим прояснить, о чем мы думаем, мы всегда должны возвращаться к тому, что мы переживаем в себе, а именно к нашему сознательному волевому усилию, приводящему в движение члены тела.
Вторая глава
Понятие вещи.
Понятие вещи в нашем смысле естественным образом вытекает из ответа на вопрос: какие характеристики должны быть включены в определение вещей внешнего мира? Конечно, это ограничивает понятие вещи вещами внешнего мира. Но не ошибочно, как будет показано далее. Предваряя это, мы обсудим определение в целом, а затем ответим на вопрос: какие характеристики должны быть включены в определение вещей внешнего мира?
Поскольку цель всякой речи – вызвать в сознании другого представления, соответствующие представлениям говорящего, сам говорящий должен быть прежде всего уверен, что каждое из используемых им слов воспринимается в том смысле, в каком воспринимает его он сам. Единственный способ убедиться в этом – тщательно определить каждое слово, значение которого может вызывать сомнения. Под определением мы понимаем максимально полное изложение идей, которые слово вызывает в сознании говорящего. Если человек, к которому обращается оратор, ранее не имел ни малейшего представления о значении используемого слова, он сможет с пониманием отнестись к аргументу, который в противном случае был бы для него бессмысленным; если же, напротив, используемое слово вызывает в его сознании иные мысли, чем у оратора, определение устранит заблуждение и предотвратит бесчисленные ошибки и недоразумения. Приведем распространенный пример: Если я объясняю англичанину, для которого Франция является синонимом иностранных государств, полезность франко-германской войны, то мои усилия окажутся напрасными, если я сначала не объясню и не научу его своему более ограниченному представлению о Франции. Но если мне удастся это сделать, то главная трудность моей задачи будет преодолена. Таким образом, четкое определение используемых слов является первым условием для донесения истины. Теперь мы должны спросить, в какую форму лучше всего облечь это определение. Но сначала мы должны ответить на вопрос, все ли слова могут быть определены, и если нет, то какие из них могут оставаться неопределенными без ущерба.
Разумеется, значение большого количества слов должно быть известно всем людям. В противном случае, поскольку все слова пришлось бы объяснять другими словами, человек всегда объяснял бы неизвестное столь же неизвестным и, таким образом, бесконечно блуждал бы в темноте. Ни один благоразумный человек не может этого отрицать. Вопрос лишь в том, какие слова могут оставаться необъясненными без ущерба для себя. Конечно, те, значение которых мы можем согласовать с помощью других средств, кроме слов. Что это за средства и как их можно применить, станет достаточно ясно из нескольких примеров. Если кто-то не знает, что я имею в виду под словом «собака» или «дерево», самое верное средство наставить его – указать на тот или иной предмет. Никакое объяснение, выраженное словами, не даст ему более четкого представления о том, что я хочу сказать, хотя научное определение, несомненно, передаст более точное понятие. Если же он спросит меня: «Что такое справедливость?», то я, очевидно, не могу идти тем же легким путем, что и раньше; теперь я должен прибегнуть к словам и сказать: «Справедливость – это отношение к каждому в точном соответствии с его делами», в надежде, что каждое слово этого объяснения будет понято лучше, чем само объясняемое слово, – надежда, в которой я часто обманываюсь.