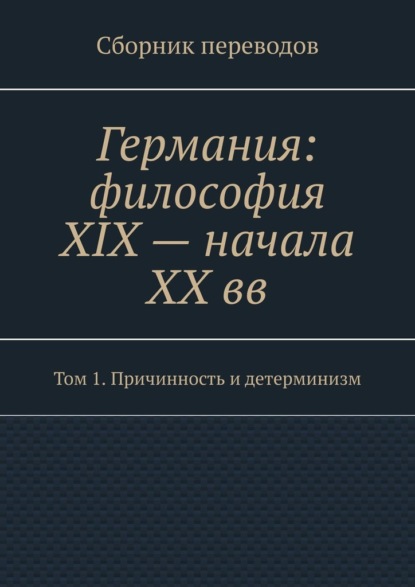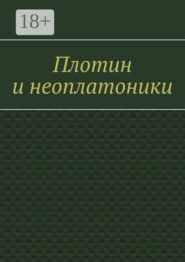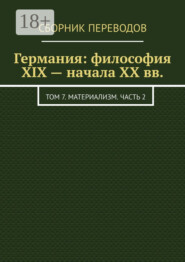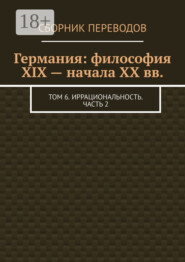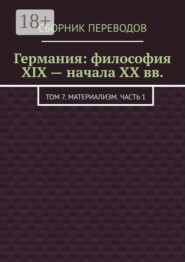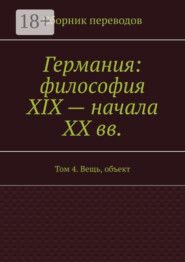По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 1. Причинность и детерминизм
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таким образом, мы пришли к выводу, что все названия природных объектов остаются необъясненными без вреда и могут быть использованы в качестве отправных точек для определений, но не нужно много размышлять, чтобы увидеть, что эти названия сами по себе недостаточны для того, чтобы мы могли общаться друг с другом. К счастью, существует несколько других классов слов, значение которых мы можем прояснить с помощью той же или аналогичной процедуры. Так, мы можем прояснить значение таких слов, как равный и неравный, близкий и далекий, сославшись на два объекта, которые соответствуют этим терминам. Более того, мы можем показать значение слова, обозначающего деятельность, выполнив эту деятельность. Это, как мне кажется, подводит нас к последним словам, которые можно объяснить напрямую. Но всех этих слов явно недостаточно. У нас еще нет выражений для наших внутренних чувств, для нашей радости и нашего горя, для наших надежд и страхов. Пока мы не можем использовать слова, выражающие эти чувства, с осознанием того, что нас поймут, половина – и, безусловно, самая важная половина – всего нашего языка будет оставаться подвешенной в воздухе. С этими словами, кажется, мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями. Ведь очевидно, что мы не можем напрямую применить к ним нашу прежнюю процедуру: мы не можем указать пальцем на движение ума и сказать: это любовь, и не можем взять другую руку и сказать: смотри, вот ненависть. К счастью, природа и здесь не оставляет нас в сомнениях. Она так устроила, что самые простые чувства, такие как боль и удовольствие, – если они не подавляются намеренно, – дают о себе знать в мимике и жестах, то есть в знаках, поскольку они в целом одинаковы у всех людей, а в определенных пределах даже у всех животных. Внешние знаки, разумеется, не дают прямого знания об обозначаемых вещах, поскольку они ничем не напоминают их. Улыбка – это не то же самое, что радость, и ее нельзя с ней сравнивать, – но они отсылают нас к нашему собственному внутреннему миру и заставляют задуматься о тех чувствах, которые были связаны в нас с этим знаком. Тогда мы вряд ли можем сомневаться в том, что чувства наших ближних, о которых говорят эти знаки, совпадают с нашими прежними чувствами. Точно так же, чтобы объяснить без слов, что такое удовольствие или боль, мы можем либо указать на человека, который испытывает удовольствие или боль, либо попытаться имитировать признаки этих чувств на своем лице. В любом случае мы можем быть уверены, что сделали себя вполне понятными.
Сколько внутренних состояний души можно объяснить таким образом с помощью сопровождающих их знаков – вопрос сложный. Его решение следует оставить ученым, которые определят пределы, в которых изменения лица неразрывно связаны с изменчивыми состояниями души. По крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что, за исключением признаков, сопровождающих первые и простейшие эмоции, изменения лица настолько тонки и быстро преходящи, что не дают достаточно надежного средства для распознавания видов и разновидностей чувств. Для проявления более сложных чувств мы должны прибегнуть к помощи слов. Мы сочетаем безусловно понятные названия простых чувств с названиями внешне ощутимых качеств и отношений, таких как большой, маленький, горький, сладкий и т. д., которые можно объяснить с помощью непосредственного обращения к органам чувств. С помощью этой комбинации названий мы можем дать некое, пусть и очень неточное, представление обо всех наших более тонких внутренних действиях и страданиях. В некоторых случаях нам постоянно напоминают о том, что используемое выражение – всего лишь метафора, как, например, когда мы говорим о черной печали, но выражение тяжелый недуг не менее метафорично, поскольку слово тяжелый имеет действительно определенное значение только по отношению к осязаемым вещам. В самом деле, необходимость обозначать гораздо большую часть явлений нашей внутренней жизни неаутентичными выражениями, взятыми из внешнего мира, окутывает все наши рассуждения о предметах нравственной и внутренней жизни мраком, от которого не могут освободиться даже самые ясные мыслители.
Итак, мы видим, что все слова, которые могут быть полностью объяснены без помощи других слов и которые, таким образом, способны образовать элементы и строительные блоки языка, делятся на три категории. Во-первых, это названия вещей с их свойствами и открыто существующими отношениями, такими как размер, малость и т. д.; во-вторых, названия действий; в-третьих, названия нескольких простых чувств. Все остальные слова, утверждаю я, должны быть объяснены с помощью этих, и каждое разумное определение или объяснение должно быть в конечном счете прослежено до этих элементов. Мы уже разработали объяснение или определение сложных чувств. Объяснение или определение составных действий лучше всего дать, упомянув различные состояния, через которые проходит агент во время действия, и упомянув опыт действия. Что касается остального, то мало что можно сказать об определениях слов, которые объясняются другими словами. Это названия вещей, понятие которых не может быть непосредственно понято другим человеком; они могут быть адекватно объяснены только сочетанием слов, значение которых мы можем передать непосредственно, либо путем ссылки на соответствующие вещи, либо другим из рассмотренных способов. Но даже при таком способе объяснения с помощью соединения слов мы в некоторых случаях можем получить лишь смутное и сомнительное представление о значении этих слов и не всегда можем быть полностью уверены, что используемые нами выражения понимаются именно в том смысле, в каком понимаем их мы. Причина в том, что в таких случаях, как, например, когда мы говорим о сложных чувствах, возникающих при прослушивании музыки, по крайней мере значительная часть используемых выражений должна быть заимствована из внешнего мира и применена к нашему внутреннему миру, для которого, строго говоря, они не подходят.
Поскольку, в конечном счете, вся правильность наших языковых выражений зависит от естественного использования тех слов, которые могут быть понятны без посторонней помощи, и поскольку только в отношении них мы можем прийти к общему для всех пониманию, очень важно, чтобы в них, где мы можем избежать всех ошибок, мы также не были виновны ни в каких ошибках. Наши усилия в этом отношении, однако, не увенчались столь легким и очевидным успехом, как это может показаться на первый взгляд. Однако в отношении слов, выражающих чувства и действия, у нас в руках всегда есть средства, чтобы вызвать правильное представление об их значении. Мы всегда можем имитировать внешние признаки чувства или совершить какое-нибудь простое действие на глазах у собеседника; но слова, обозначающие предметы внешнего мира, представляют большие трудности. Если бы весь видимый и осязаемый мир со всеми принадлежащими к нему вещами находился рядом с нами при каждом моргании глаз, определение внешних вещей было бы излишним; достаточно было бы просто сослаться на свидетельство глаз и других органов чувств, ибо именно к свидетельству органов чувств как к последней инстанции для объяснения этих вещей мы всегда должны были бы прибегать в этом случае. Но поскольку число вещей, на которые в любой момент можно сослаться так непосредственно, неизбежно очень мало, почти во всех случаях мы вынуждены прибегать к словам. Поэтому наш долг – изучить, какими словами можно выразить наши определения внешних вещей.
Так много всего, что касается определений в целом. Во-первых, важно отметить, что наши определения слов – это не просто номинальные определения. Определение состоит в изложении идей, которые слово вызывает у нас. Это всегда определение слова, но определение его мысленного и воображаемого смысла, то есть опять-таки определение соответствующего понятия, которое, разумеется, неизбежно связано со словом и становится для нас понятным и осязаемым только через слово какого-либо языка. Не все слова могут быть определены таким образом. Определение в конечном счете предполагает слова, которые понятны сами по себе. Обратное привело бы к процессу in infinitum. Каждое определение должно быть прослежено до таких самопонятных слов. Это слова, обозначающие видимые вещи, простые чувства, действия. Ребенок обязательно придет к их пониманию тем путем, который указал Шюте. Называя слова, он осознает чувственные вещи, он распознает смех и плач в себе как знаки радости и боли, а также воспринимает их как такие знаки в других, названия действий становятся понятными для него, если он называет эти действия по мере их выполнения. Но, по мнению Шюте, число слов, которые он может понять сам, может быть лишь небольшим. Из «безусловно важнейшей половины всего нашего языка», выражающей чувства, к ним относятся только слова, обозначающие несколько простых чувств. И с выражениями, обозначающими деятельность, дело обстоит иначе. Только названия нескольких простых видов деятельности можно считать словами, которые понятны сами по себе. Названия чисто психических состояний, как и названия большинства чувств, должны объясняться с помощью выражений, заимствованных из внешнего мира. Поэтому для согласования и понимания значения слов, будь то без помощи других слов или с помощью определений, решающее значение имеют вещи внешнего мира и их названия, за исключением нескольких простых чувств и действий. Но даже о вещах внешнего мира мы лишь относительно редко можем договориться без помощи слов, потому что у нас есть только несколько из них, достаточно близких, чтобы иметь возможность ссылаться на них; даже с ними мы должны «почти во всех случаях прибегать к словам», чтобы достичь согласия и понимания. Учение об определении – это учение о том, с помощью каких и скольких слов мы можем договориться и понять наших собратьев, будь то без помощи других слов или с помощью других слов, а не о том, что мы сами можем постичь своим сознанием и сделать правдоподобным и понятным для себя с помощью мышления и воображения. Только для первых, а не для вторых вещи внешнего мира имеют решающее значение; только первые – вторые лишь постольку, поскольку они совпадают с первыми, – принимаются во внимание в нашем общении с ближними и в науке. Поэтому мы справедливо исключаем последнее из круга нашего обсуждения и подводим первое под понятие опыта. В этом мы также следуем Шюте, который считает, что опыт состоит из восприятий через органы чувств, ощущений и деятельности. В том же отрывке он объясняет разум как принцип или силу сознательной чувственной жизни, с помощью которой мы совершаем действия, выдающие понимание и намерение. Таким образом, у нас нет никакого опыта духа, кроме как в его деятельности. После всей этой дискуссии у нас не останется сомнений в том, что мы не можем искать понятие вещи нигде, кроме как в определениях вещей внешнего мира. Теперь нам предстоит поговорить об этих определениях. Читатель не преминет заметить, что обсуждение сразу же переходит от отсутствующих вещей внешнего мира к вещам внешнего мира вообще.
Ближайший способ адекватно описать отсутствующие объекты – это подчеркнуть присутствующие или вполне знакомые похожие объекты и указать на различия между ними. Этот метод почти повсеместно используется обычными людьми; но он не является, следовательно, несостоятельным с научной точки зрения. Описание тигра как «очень большой кошки, которая живет далеко отсюда, в лесах Индии, и ест волов и лошадей» или Везувия как «холма, в точности напоминающего тот, что находится над нашей деревней, за исключением того, что он немного больше и имеет мощное круглое отверстие на вершине», вероятно, создаст настолько точное представление об описываемых вещах, насколько это возможно в сознании любого человека, с которым говорят подобным образом.
Но этот метод неприменим в очень многих, а возможно, и в большинстве случаев. Дать человеку, который никогда не видел слона, представление о слоне, сравнив его с одним из наших местных животных, очевидно, невозможно. Более того, указание на разницу между описываемой вещью и той, с которой она сравнивается, почти во всех случаях остается неопределенным и, следовательно, может породить лишь нечеткое представление.
Если, таким образом, нам удастся открыть общеприменимый метод описания внешних вещей, то было бы хорошо, ради простоты и единообразия, применять его и в тех случаях, когда метод сравнения с известными объектами может дать столь же точное и, возможно, более яркое представление об объясняемой вещи. Мы должны искать такой метод, но после того, что мы уже сказали, найти его нетрудно. Сначала спросим, все ли вещи, которые представляются нашим органам чувств, поддаются определению. Предположим, что человек слеп, и все философы и физиологи признают, что научить его понятию цвета невозможно. Предположим также, что человек слеп к определенному цвету, например, к различию между зеленым и синим, тогда и здесь никакие слова не смогут просветить его об этом различии. Он может осознать, что другие знают о разнице, но не может сформировать представление о разнице между двумя цветами. То же самое можно сказать о разнице между звуками в случае глухого человека и о разнице во вкусе в случае человека с дефектным или нечувствительным органом вкуса. В целом можно сказать, что никто не может сформировать соответствующее понятие о простом познании, получаемом от пяти органов чувств, если он сам не получил это познание от них.
Но неопределимость простых познаний, получаемых с помощью органов чувств, – не единственная их особенность. Они также обладают тем важным свойством, что они или, по крайней мере, наиболее важные из них постоянно повторяются в ряде совершенно несхожих объектов, что позволяет нам дать тем, кто никогда не видел этих объектов, представление по крайней мере об определенных их свойствах. Так, тот, кто видел глубокий синий цвет неба или любого другого материала, может составить представление о цвете Средиземного моря, если ему скажут, что оно точно такое же. И даже больше! Наши знания о природных вещах на самом деле являются лишь комбинацией простых чувственных восприятий, полученных от них. Человеку, не являющемуся философом, должно казаться, что все, что мы знаем или можем знать о внешних вещах, мы узнаем с помощью пяти органов чувств; и хотя некоторые философы сомневаются в этом предположении, тем не менее, не будучи обеспокоенными их софистикой, мы можем следовать простому здравому смыслу и согласиться с ним. Согласно этому предположению, все наши представления о внешних вещах являются результатом нашего внешнего опыта, опосредованного органами чувств, а этот внешний опыт – результат комбинации этих простых чувственных восприятий. Но из этого неизбежно следует, что все наши представления о внешних вещах должны быть соединениями простых представлений, соответствующих этим простым восприятиям, например, что представление о том или ином растении – это просто соединение простых представлений о его цвете, запахе, вкусе и так далее. Конечно, у нас также есть представления об их размере, весе, форме и так далее. Это понятия, которые мы получаем не непосредственно из восприятия, а путем сравнения различных восприятий (я должен вспомнить вес других металлов, чтобы сказать, что свинец тяжелый или легкий). Однако, поскольку эти понятия также получаются из различных простых восприятий, в целом можно сказать, что все наши знания о внешнем мире в конечном итоге могут быть прослежены до ряда различных связанных между собой сенсорных восприятий.
Со времен Локка ментальные репрезентации этих простых чувственных восприятий называются в философии простыми идеями, и лучший способ определить данный внешний объект – это перечислить простые идеи, связанные друг с другом в его понятии. Так, например, правильное определение плуга будет состоять в перечислении всех простых идей, которые мы связываем с этим названием: его цвет, форма, размер, вес и так далее. (некоторые из этих идей, как мы уже говорили, не являются простыми идеями в строгом смысле слова, но поскольку они формировались из таких идей в течение очень долгого времени и очень легко выводятся из них, их обычно рассматривают как простые идеи ради единообразия). Добавим к этому указание на его использование, которое распознается по простым идеям или по идеям, которые можно разложить на простые, – и наше определение завершено.
Пройдя по благоприятным следам английской философии до этого момента, мы пришли к результату, одобренному большинством современных логиков. Но если мы попытаемся исследовать этот вопрос более глубоко, задавшись вопросом, каковы простые идеи, которые мы обычно связываем с именем, и все ли или только некоторые из них должны быть использованы для определения, боюсь, мы обнаружим пропасть между нашей доктриной и доктриной школ, которую невозможно преодолеть никаким способом.
Я могу пойти еще на один шаг дальше, обратившись к нашим философам. Философы сходятся в том, что называют силы вещи, из которых мы узнаем ее природу, ее свойствами. Например, тепло – это свойство огня; оно вызывает в нас немедленное ощущение. Магнит обладает свойством притягивать железо, и это свойство дает о себе знать нашему лицу и, если нужно, нашим чувствам. Все ли свойства объекта становятся известны нам через ощущения, или некоторые из них становятся известны нам каким-то другим способом – этот вопрос часто обсуждается философами. Я придерживаюсь мнения большинства английских философов о том, что чувственные восприятия являются для нас единственным источником знаний о внешней природе. Но разница во мнениях по этому вопросу практически не влияет на предмет нашего исследования. Свойства внешних вещей, которые, по мнению некоторых философов, должны быть известны нам иным путем, нежели через чувственные восприятия, – это в основном, если не все, свойства всех вещей, такие как протяженность, то есть заполнение определенной части пространства. Такие свойства, однако, очевидно, не могут быть частью определения, которое должно позволить нам отличить один объект от всех остальных. Каковы же тогда свойства, которые должны быть включены в определение контр-объекта? Все те, которые включает в себя название, говорят философы. То есть все сенсорные восприятия, о которых мне напоминает имя. Но очевидно, что имя будет напоминать каждому из нас о разных восприятиях в соответствии с разным опытом. Для того, кто только что поранил руку о розовый куст, свойство обладать шипами будет очень заметной частью его общего представления о розовом кусте, в то время как обычно представление об этом качестве, хотя и скрытое, не будет немедленно вызвано именем. Для человека науки название металла или химического вещества вызовет в памяти бесчисленные свойства, являющиеся результатом его собственного опыта, но совершенно неизвестные большинству людей. Можем ли мы тогда сказать, что единственное совершенное определение – это то, которое выражает как обычный опыт, так и научные знания о вещи? Но такие определения, по мере развития науки, будут постоянно расти, становясь чудовищными, и в конце концов станут настолько громоздкими, что от них вообще не будет никакого толку.
Или мы должны выбирать только научное определение? Во многих случаях это не позволит обычному человеку распознать вещь, когда он ее увидит. Или, наконец, мы должны включить в наше определение только обычные характеристики? Против такого предположения можно выдвинуть два серьезных возражения. Во-первых, почти невозможно с уверенностью установить, каковы самые обычные свойства вещи, гарантированные опытом всех людей; во-вторых, отнюдь не обязательно, что эти свойства, если они будут найдены, позволят нам отличить вещь от всех других, поскольку очень часто в вещах, которые очень далеки друг от друга по своим скрытым свойствам, различия, которые присутствуют открыто, очень незначительны и малозаметны.
Нет ли способа преодолеть эти трудности? Я полагаю, что есть, и это средство позволяет дать определение, которое в некоторых отношениях является более удовлетворительным и полным, чем сложная процедура, рекомендуемая логиками. Давайте немного подробнее рассмотрим, в чем состоит цель определения. Мы говорили, что оно состоит в том, чтобы вызвать у собеседника состояние мысли, как можно более сходное с состоянием мысли говорящего. Теперь, в результате более или менее частого восприятия вещи, говорящий, несомненно, обладает рядом идей, относящихся к этой вещи. Но эти идеи не являются в его сознании беспорядочным нагромождением отдельных членов, а скорее, как я полагаю, образуют упорядоченную систему членов, связанных между собой в определенном порядке; и даже если бы он мог сообщить все эти идеи другому в соответствии с требованиями логиков, его работа осталась бы очень неполной и недостаточной, если бы он представил их без определенного порядка и не упомянул о порядке идей, согласно которому он начинает с одной или нескольких конкретных идей и переходит к другим, но не наоборот. Если предположить, что идей, вызываемых названием вещи, слишком много, чтобы включить их все в определение, то разумнее всего будет довольствоваться перечислением тех, которые естественным образом первыми приходят в голову при упоминании названия вещи, поскольку они, вероятно, более важны. Моя задача – найти принцип, с помощью которого мы могли бы определить, какие первые представления о вещи подходят для включения в ее определение. Решение этой задачи не будет сложным.
Порядок идей, относящихся к предмету, отнюдь не безразличен. Как сами идеи, по крайней мере те, о которых мы сейчас говорим, имеют свои прототипы в восприятиях, так и порядок идей соответствует порядку восприятий, относящихся к объекту, поскольку они повторяются при каждой встрече с ним. Если бы порядок восприятий каждый раз был абсолютно переменным, то представления также появлялись бы в одном порядке в одно время и в другом порядке в другое время. Но примерно во всех случаях порядок восприятий, относящихся к предмету, определен, и в подавляющем большинстве случаев восприятия, которые каждый раз приходят первыми, принадлежат одному и тому же органу чувств.
Предположим, что, обладая совершенно здоровыми органами чувств, мы впервые видим растение или цветок, проезжая мимо по железной дороге или в вагоне. Все знания, которые мы получаем о нем по этому случаю, передаются через наши глаза, и все наше представление о нем должно быть, по своей природе, образом растения или цветка. Теперь предположим, что мы ботаники или травники. Тогда мы начинаем искать растение. Мы видим его на расстоянии и приближаемся к нему. Мы воспринимаем его через обоняние, возможно, мы также чувствуем его и узнаем его структуру. В-третьих, предположим, что растение найдено и помещено в нашу учебную комнату или лабораторию. Мы входим в комнату, видим растение, лежащее на столе, и начинаем расспросы. Они дают нам дополнительные знания, то есть различные представления о нем. Через несколько дней кто-то другой или мы сами называем растение. Это название внезапно вызывает в нашей памяти все или часть представлений, которые мы имели об этом объекте; но оно вызывает их не все сразу и не все с одинаковой силой. Прежде всего, в нашей памяти вновь возникают те восприятия, которые впервые предстали перед нами в каждом из трех случаев, когда мы видели объект, а именно те, которые происходили через глаза. Сначала мы вспоминаем форму и цвет предмета, то есть образ, который мы сформировали. За ним, часто после длительного перерыва, следуют образы других восприятий, которые следовали за восприятием лица в различных случаях. Итак, далее, видимый облик объекта представал перед нами во всех трех случаях, тогда как с другими его качествами (как в выбранном нами примере) этого, возможно, не происходило, и, конечно, ни одно из них не оставалось для нас столь долго, поскольку мы, несомненно, постоянно смотрели на объект, когда воспринимали его на запах, вкус или осязание. Отсюда следует, если предположить, что ничто не мешает, что наше представление о видимом виде объекта гораздо сильнее и ярче, чем о других его качествах. Конечно, яркость восприятия не зависит от частоты его возникновения, так как одно восприятие часто вызывает такое же сильное ощущение, как и несколько более слабых восприятий вместе взятых. Так, человек, обжегший какую-либо часть своего тела, долгое время будет ассоциировать с названием «огонь» представление о резкой боли, а не о комфортном тепле, хотя последнее ощущение было гораздо более частым в его опыте. Но такие причины, вмешивающиеся в обычный ход нашей перцептивной жизни, не являются ни частыми, ни поддающимися какому-либо расчету по сравнению со всей массой восприятий, так что мы должны оставить их в стороне, если хотим попытаться научно рассмотреть этот вопрос. Оставив их в стороне, мы приходим к выводу, что, как правило, восприятие внешнего объекта глазами происходит раньше и гораздо ярче, чем восприятие другими органами чувств. Мало того, в большинстве случаев восприятия других органов чувств не следуют какому-либо определенному порядку. Некоторые вещи, такие как вишня или яблоко, я могу попробовать на вкус, не прикасаясь к ним, а затем прикоснуться к ним, не пробуя их на вкус, и нет никакой причины, кроме большей яркости одного из двух восприятий, почему представление об одном из них должно следовать за зрительными представлениями, сформированными при упоминании названия, а не за представлениями о другом. Я уже говорил, что первая группа представлений, которые мы формируем об объекте, воспринимаемом по какому-либо поводу, в большинстве случаев является визуальными представлениями.
Однако я должен заметить, что это правило, каким бы общим оно ни было, нельзя назвать полностью общим. Есть предметы, такие как дьявольский навоз и чеснок, запах которых представляется нам раньше, чем мы их видим, и держится дольше, то есть продолжается и после того, как предмет исчезает из поля нашего зрения. В этих случаях наше первое, а на самом деле почти единственное представление о вещи, вызванное названием, – это воспоминание об обонятельном ощущении, вызванном этим названием, и эта вещь была бы наиболее адекватно определена в терминах различия запахов, если бы не тот факт, что различение различных обонятельных ощущений словами гораздо сложнее и гораздо больше подвержено ошибкам, чем определение формы, размера и цвета, воспринимаемых глазом.
Давайте поместим себя в центр пейзажа и рассмотрим, как окружающие нас предметы влияют на наши органы чувств. Все они влияют на наше зрение и почти не влияют на другие органы чувств. Облака над нами, конечно, могут пролиться на нас дождем и сделать нас мокрыми, но мы не связываем мысль о том, что мы мокрые, с мыслью об облаках, поскольку обычно мы наблюдаем облака без какого-либо подобного восприятия. Мы не прикасаемся ни к одному из миллионов листьев и стеблей на деревьях, полях зерна и травы, составляющих пейзаж. У нас нет представления о различиях между дубовым и вязовым листом с точки зрения ощущений, хотя мы легко различаем их на глаз. Воздух, как мы его воспринимаем, благоухает бесчисленными цветочными запахами, но дыхание весны смешивает все потоки ароматов в один поток, и мало кто из нас может различить различные обонятельные ощущения, возникающие от каждого цветка.
Глаза не только дают нам первые и самые яркие впечатления обо всех природных явлениях, но и являются источником буквально всех знаний, которые мы получаем лично и непосредственно от большинства из них. (Я пока оставляю в стороне знания, которые мы можем получить из книг или из учения натуралистов). Естественным представляется вывод, что представление о видимом виде этих вещей составляет основу и главное содержание наших представлений о них и что представления обо всех других известных нам их свойствах возникают в нашем сознании только при упоминании их названий, когда вызывается и предваряется представление об их видимом виде.
Я призываю каждого спросить свое сознание, не состоит ли его понятие о внешней вещи в основном – я почти сказал полностью – в представлении о ее видимом виде. Если это так, и если под определением мы должны понимать объяснение понятия вещи, то единственный способ, которым мы можем одновременно избежать неприятного многословия и дать другому как можно более полное представление о нашей мысли, как она формируется в нас при упоминании имени, – это сокращенное описание качеств вещи, которая предстает перед нашим лицом, ее цвета, размера, формы и т. д.
Поэтому мы утверждаем, что правильное определение описывает вещь так, как мы ее видим, и что «вещь», о которой мы говорим и думаем, в первую очередь понимается как то, что мы видим. Поэтому в будущем, когда мы будем говорить о вещах или об идеях вещей, мы всегда будем иметь в виду видимые вещи, то есть сумму тех простых визуальных идей, из которых состоит весь наш мысленный образ вещи. Другие качества вещи, представления о которых следуют за зрительными представлениями о ней, впервые пробужденными в нас упоминанием ее названия, запаха и т. д., мы будем называть атрибутами. Ни один из атрибутов в этом смысле не обязательно входит в определение вещи; в обычной речи, следовательно, ни один из них не включается в определение. Для некоторых целей изучения или преподавания может оказаться важным добавить к определению, соответствующему вещи, один или несколько ее наиболее важных атрибутов. Например, чтобы описать внешний вид паслена, можно добавить, что его ягоды ядовиты. Но каким должен быть этот добавленный впоследствии атрибут и к какому органу чувств он должен относиться, полностью зависит от объекта исследования. Описание видимого внешнего вида вещи завершает неизменную и универсально достоверную часть определения.
Подведем краткий итог сказанному об определении внешних вещей и о понятии вещи в целом: Во-первых, все наши знания о внешних вещах проистекают из восприятий органов чувств и состоят из представлений, соответствующих этим восприятиям. Во-вторых, для определения внешней вещи все зависит от знания идей, которые пробуждает в нас название вещи. Но они не одинаковы для всех людей, они различны опять-таки для сведущих, и те, что обычно связаны с именем, иногда трудно обнаружить, иногда недостаточны для различения вещей. В-третьих, существует определенный порядок в восприятиях, относящихся к вещи; восприятия лица являются первыми, а последние – самыми продолжительными, то есть они повторяются во всех восприятиях других органов чувств.
Соответственно, образы лица – это те, которые первыми и наиболее ярко пробуждаются в нас именем. В-четвертых, определение внешней вещи дается путем неполного описания тех качеств, которые предстают перед нашим лицом. В-пятых, под понятием вещи мы понимаем представление о ее видимом виде, сумму простых зрительных идей, из которых состоит наш мысленный образ ее. Остальные качества, представления о которых следуют за зрительными представлениями о ней, впервые пробужденными в нас ее названием, мы называем ее атрибутами». Таким образом, Шюте признает в качестве существенных характеристик, из которых вещь состоит в соответствии с обычной логикой, простые визуальные образы этой вещи, которые впервые появляются и сохраняются в каждом восприятии и представлении. Но вещь рассматривается также как носитель ее изменений, и эта сторона в приведенном определении ее понятия вообще не затрагивается. Конечно, то, что подразумевается под тем, чтобы называть вещь носителем ее изменений, можно описать только словами, которые не проясняют ситуацию. Но как мы приходим к тому, чтобы считать вещи носителями их изменений, я полагаю, можно объяснить более подробно в тесной связи со взглядами Шюте. Шюте утверждает, что не изменение вещи, а сама вещь является причиной в обычном смысле слова. Ибо понятие причины в обычном смысле является сугубо личным. Поэтому, согласно этому понятию, вещь – это личность. Думаю, последнее предложение следовало бы назвать так: Поэтому, согласно этому понятию, изменение (как причина) есть вещь. Только так оно кажется связанным с предыдущей пропозицией и вытекающим из непосредственно предшествующей пропозиции. Но если это так, то изменение или явление становится вещью оттого, что мы представляем его как причину в обычном смысле, то есть как человека. Но что это значит, как не то, что изменение или явление, представляемое нами как причина в обычном смысле или как человек, становится причиной изменений, которые влекут за собой другие изменения, как средство собственных изменений? Термин «вещь» здесь нельзя понимать иначе, чем носитель собственных изменений. Термин носитель собственных изменений является лишь небольшим расширением термина причина собственных изменений, поскольку он включает в себя также изменения, происходящие против воли причины, вещи – причина и вещь всегда понимаются как личность. Делаем вывод: Согласно Шюте, вещь становится носителем своих изменений тем же способом и по той же причине, по которой и по какой изменение или явление становится причиной в обычном смысле, а именно благодаря тому, что и оно, и вещь мыслится как лица. Вместе с этим, однако, вещь как носитель своих изменений также полностью приравнивается к причине в обычном смысле. И все же, по свидетельству нашего сознания, мы должны проводить строгое различие между ними. Сможем ли мы это сделать? Попробуем сделать это следующим образом.
Под атрибутом мы понимаем свойство, восприятие которого следует за восприятием вещи и которое отделено от первого восприятия вещи более или менее ощутимым отрезком времени. Присутствие вещи в нашем воображении или восприятии вызывает более или менее сильное ожидание атрибута – вид розы издалека вызывает ожидание ее аромата, когда мы приближаемся к ней. Теперь, когда мы говорим, что причина – это признак следствия, мы имеем в виду, что причина – это вещь или явление, восприятие которого вызывает в нас ожидание того, что мы также воспримем следствие.
Поэтому кажется, что наше определение причины и следствия совпадает с определением вещи и атрибута и что нет никакой разницы, называем ли мы одно явление следствием другого или называем его атрибутом. Но это противоречит нашему сознанию. Когда мы говорим, что одно явление является следствием другого, и когда мы заявляем, что атрибут принадлежит вещи, мы осознаем, что делаем два совершенно разных утверждения. В чем же тогда разница? Только в том, что мы можем считать причину несуществующей, если следствие все еще присутствует, в то время как мы ни на секунду не можем допустить, что вещь, атрибут которой предстает перед нашим восприятием, не существует.
Таким образом, может оказаться, что одно и то же восприятие должно рассматриваться либо как следствие, либо как атрибут, в зависимости от того, можем ли мы думать о нем как о продолжающемся или не продолжающемся после исчезновения вещи или причины. Так, вес, несомненно, является атрибутом книги, и мы осознаем его через давление, которое книга оказывает на часть нашего тела, например, на руку. Ощущение этого давления может сохраняться в течение некоторого времени после того, как книга убрана, и в этом случае мы уже не говорим, что чувствуем вес книги на руке, а продолжаем ощущать давление, вызванное книгой. Вес книги и ощущение давления – это в данном случае два названия, выражающие одно и то же восприятие, но это восприятие сначала рассматривается как неотделимое от книги, а затем как существующее само по себе.
Ранее мы видели, что видимый облик или образ, составляющий наше представление о вещи, сохраняется, пока мы воспринимаем ее атрибуты. Тогда каждое восприятие, которое мы делаем после того, как вещь исчезла из наших глаз, и которое, тем не менее, часто или постоянно следует за восприятием вещи, мы называем не атрибутом, а эффектом вещи. Точно так же атрибут вещи можно назвать причиной другого атрибута, если оба они следуют друг за другом в восприятии в том же порядке и последнее продолжается или может рассматриваться как продолжающееся после исчезновения первого. Таким образом, атрибут может быть причиной другого атрибута той же вещи, как, например, когда мы говорим, что вина является причиной угрызений совести; он также может быть причиной изменения другой вещи, как, например, когда мы говорим, что плохое настроение порождает непопулярность, или, наконец, он также может – и только в некоторых случаях – быть причиной вещи в собственном смысле этого слова, например, жара порождает туман. Вещь может быть либо причиной другой вещи, как желудь – причиной дуба, либо изменением другой вещи, как огонь – причиной плавления воска. (Мы могли бы с большим основанием сказать, что тепло огня является причиной плавления, но я постараюсь доказать, что оба выражения одинаково оправданы, поскольку они одинаково распространены). Мы никогда не можем с полным правом сказать, что вещь является причиной одного из своих собственных атрибутов, но я не думаю, что мы обычно говорим так, хотя по какой-то непостижимой причине философы всегда очень хотели, чтобы мы выбрали именно такую форму выражения.
Таким образом, явное различие между понятиями эффекта и атрибута (или соответствующих причин и вещей) состоит в том, что атрибут всегда должен быть одновременным с вещью, тогда как эффект либо продолжает существовать, либо, по крайней мере, может считаться продолжающим существовать после исчезновения причины. Есть некоторые случаи, в которых причины действительно обычно происходят одновременно со своими следствиями, но я бросаю вызов любому, кто назовет следствие, которое нельзя представить как продолжающее существовать после исчезновения причины, или атрибут, который может оставаться присутствующим в наших чувствах после исчезновения его вещи из сознания. Поскольку различие между эффектом и атрибутом или причиной и вещью заключается именно в этом, легко заметить, что они включают в себя все связи явлений, порождающие ожидания. Несомненно, существуют и другие связи между явлениями, такие как их тождество, сходство и противоположность, но ни одна из них не дает повода для ожиданий. Нетрудно было бы объяснить, почему в других связях явлений или идей не возникает ожиданий, но такое объяснение увело бы нас слишком далеко от нашей темы. Мы должны довольствоваться утверждением, что связи причины и следствия, вещи и атрибута – это единственные две связи явлений, которые имеют наиболее заметное значение среди элементов нашего мира мысли. Когда мы воспринимаем один из двух признаков, которые мы называем причиной или вещью, мы сразу же ожидаем наступления эффекта или атрибута. Единственное различие между ожиданием в этих двух случаях заключается в том, что в первом случае мы не вынуждены предполагать, что настоящее восприятие продолжается во время ожидаемого восприятия, а во втором это предположение мы должны сделать обязательно.
Вот вам и разница между понятиями причины и следствия и понятиями вещи и атрибута. Следствие всегда можно представить себе отдельно от причины как сохраняющееся после ее исчезновения, атрибут никогда нельзя представить себе отдельно от вещи как сохраняющийся после ее исчезновения. Причина и вещь – единственные идеи, которые вызывают в нас ожидания; причина вызывает в нас ожидание следствия, вещь – ожидание атрибута. Причина и вещь – это знаки грядущих явлений, и, когда человек раскладывает явления по парам, воспринимает предыдущие как знаки, чтобы подготовиться к последующим, они, конечно, остаются неразличимыми. Вопрос в том, как человек приходит к тому, чтобы различать эти знаки на причины и вещи?
Мы с полным основанием полагаем, что первая задача человека – приспособить свои действия к обстоятельствам и организовать свою жизнь как можно более безопасно и безболезненно. Поэтому для него должно быть важно осознание того, что одни явления влекут за собой другие явления только благодаря его собственной деятельности, в то время как другие последствия явлений происходят совершенно независимо от его деятельности. Гром следует за молнией, пока он лежит на спине и смотрит на облачное небо. Но огонь появляется на сухом дереве только тогда, когда он трет его другим куском. В общем, можно сказать, что атрибуты вещи становятся нам понятны только благодаря нашей собственной активности, тогда как следствия следуют за причинами, пока мы бездействуем. Различие между теми восприятиями, которые являются для человека знаками того, что он может произвести другое восприятие, совершив определенные действия, и теми восприятиями, которые являются знаками того, что он должен произвести другое восприятие, хочет он этого или нет, кажется слишком очевидным, чтобы не быть сделанным в самом начале. Это различие между последствиями явлений, которые происходят совершенно независимо от нас, и теми, которые предполагают действие с нашей стороны для их возникновения, приводит, на мой взгляд, к различию между эффектом и атрибутом, хотя эти области не полностью совпадают.
Например, атрибутом тигра является то, что он поедает волов, и он выполняет эту деятельность без какой-либо другой активности, будь то волы или пастухи. Но, во-первых, большинство вещей неподвижны, и ни один из их атрибутов (за исключением тех, которые в некоторых случаях воспринимаются обонянием) не воспринимается, если воспринимающий не совершает для этого другой деятельности, помимо восприятия. Во-вторых, что касается животных или движущихся вещей, то сначала на его познание накладывается не непосредственно атрибут, а некое ощущение, возникающее в связи с ним. Человека волнует не активность, исходящая из пасти тигра, а потеря быка в результате этого и последующий голод. Животное в строгом смысле слова является причиной таких переживаний, которые приходится испытывать человеку. Поскольку первоначальное значение слова «причина» тесно связано со значением психической деятельности, легко понять, почему различие между следствием и атрибутом могло возникнуть только из различия между последствиями явлений, происходящих независимо от нас и условно, на поздней стадии развития нашего разума, и почему область последнего различия могла быть четко отграничена от первого.
Согласно этому объяснению возникновения различия между причиной и вещью, следствием и атрибутом в ходе развития человеческой мысли, человек в самом начале своего умственного развития сначала упорядочивал последовательные явления попарно, принимая предшествующие за признаки последующих, чтобы подготовить себя к последним. Тогда, в самом раннем периоде своего развития, он различал последовательности явлений, которые происходят только благодаря его собственной деятельности, и последовательности явлений, которые происходят совершенно независимо от его собственной деятельности. Это послужило основой для различения признаков наступающих явлений на те, которые не должны продолжаться до тех пор, пока существуют наступающие явления, и те, которые должны продолжаться до тех пор, пока существуют наступающие явления, или на причины и вещи. – Итак, изначально нет никакой разницы между связями явлений, которые мы называем причиной и следствием, и связями, которые мы называем вещью и атрибутом. Обе связи – это способы взгляда на явления, созданные разумом посредством мышления; связь явлений как причины и следствия – первая, от которой с течением времени отделяется и разводится связь явлений как вещи и атрибута, опять-таки посредством мышления. Таким образом, в последней инстанции связь между причиной и следствием является также связью между вещью и атрибутом. В завершение наших исследований причины и следствия, вещи и атрибута мы добавляем возражение против главного основания первого и опровержение этого возражения.
Утверждение, что закон равномерности хода природы не является ложным только потому, что он ничего не значит, кажется нам парадоксом. Конечно, верно, что равномерность хода природы не может быть доказана логически. Более того, поскольку условия никогда не бывают абсолютно одинаковыми, бессмысленно утверждать в соответствии с этим законом, что одни и те же условия всегда приводят к одному и тому же результату. Но во многих случаях условия если и не абсолютно одинаковы, то все же похожи друг на друга. И ровно настолько, насколько условия в двух случаях похожи друг на друга, настолько же похожи друг на друга и результаты. Это предположение, которое делает каждый, кто вступает в контакт с вещами внешнего мира, и которое он расширяет тем больше, чем больше этих вещей он узнает. Таким образом, мы приходим к тому, чтобы придать этому предположению общую форму и назвать его законом единообразия хода природы. Конечно, мы не имеем права утверждать, что эта равномерность будет сохраняться всегда или даже что она сохранится и после сегодняшнего дня. Но тем не менее мы утверждаем это, потому что без этого мы не можем сделать ни шагу, а поскольку ход природы действительно однороден, это оправдывает наше утверждение.
В опровержение этого возражения мы говорим следующее: Мы тоже можем сказать, что утверждаем равномерность хода природы, потому что без нее мы не можем сделать и шага; но мы продолжаем: поскольку ход природы в целом или приблизительно равномерен, это оправдывает наше утверждение. Утверждение, что течение природы абсолютно равномерно, кажется нам равносильным предположению об объективности причинно-следственной связи. Жизнь действительно дает нам гарантию для предположения о равномерности хода природы; но эта гарантия дается нам не опытом, а следующим соображением. Как вследствие нарушения существующего порядка или нарушения единообразия хода природы некоторые виды низших живых существ исчезли с земли до появления человека в творении, так и большое нарушение единообразия хода природы привело бы к исчезновению с земли нынешнего рода человеческого. Но поскольку все наши расчеты неизбежно основываются на предположении, что наша раса останется на Земле, мы должны также предположить, что равномерность хода природы достаточна для этого предположения. Это предположение не является аксиомой, относящейся к природе вещей, поскольку оно легко может быть ошибочным; но оно является аксиомой для жизни, которая является нашей единственной заботой как человеческих существ.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: