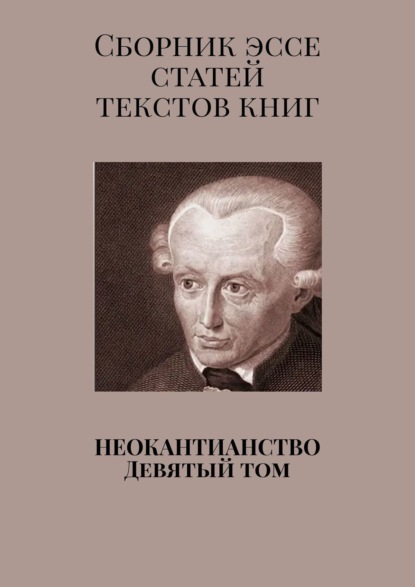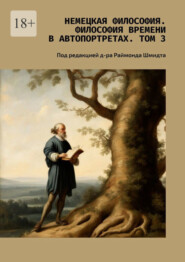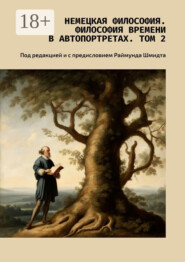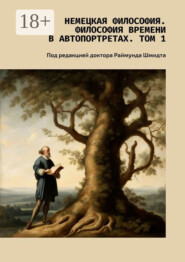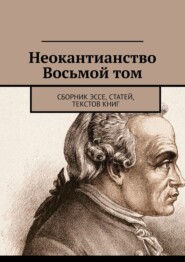По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неокантианство. Девятый том
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
они не могут быть найдены путем анализа общих понятий! Их понятия нерасчленимы, но как таковые они не хуже других подходят для классификации в дедуктивном ряду.
Итак, несмотря на все усовершенствования, рационалистический метод и рационалистический идеал познания остаются в силе. Тем более недвусмысленно, что в» Снах призрака» 766 года хотели найти эмпиризм или даже скептицизм. Совершенно ошибочно. Правда, в этом письме Кант высмеивает воздушных архитекторов, таких как Вольф и Крузиус, которые пытаются построить порядок вещей из небольшого строительного материала опыта или представить мир несколькими высказываниями о мыслимом и немыслимом, и считает более разумным способом мышления брать основания для объяснения вещей из того материала, который представляет нам опыт, чем теряться в головокружительных концепциях полузакрытого, полузакрывающегося разума. Но в том же письме он заявляет, что метафизика – то есть всегда рационалистическая метафизика, – в которую ему выпала судьба быть влюбленным, имеет то преимущество, что она справляется с задачами, которые ставит перед собой пытливый ум, когда он ищет скрытые качества вещей с помощью разума, А письмо, которое он пишет МЕНДЕЛЬСОНУ о «Снах», развеивает последние сомнения в том, что уже в то время онне только верил в возможность метафизики, но и сам был живо занят метафи зическими спекуляциями. То, что он придерживается, в частности, рациональной онтологии и теологии, более чем вероятно. Его полемика направлена лишь против попытки вывести конкретные причинно-следственные связи – ни здесь, ни в более ранних работах он не обсуждает ни само понятие причинности, ни принцип причинности – априорно, путем умозаключений. Конечно, положение о том, что фундаментальные отношения причины и следствия могут быть определены только на опыте, направлено именно против того, что до сих пор делала рациональная психология, пытавшаяся силлогистическим путем определить природу души и ее связь с телом. Понятия особых причинно¬следственных связей сохраняют свое прежнее положение. Они эмпиричны, но как понятия они, тем не менее, являются неразрывными понятиями, которые могут быть присоединены к рациональной системе. Нет ли в этом противоречия? Понятно, как можно вводить в дедуктивный ряд понятия, которые, оказавшись в
нашем сознании, сопротивляются дальнейшему разрешению. Но эмпирические понятия? Разве они не принадлежат к совершенно иному миру? Ответ на эти вопросы содержится в отрывке из одной из ранних работ («Versuch den Begriff der negativen GroBen in die Weltweisheit einfuhren»): «Всякого рода понятия должны основываться только на внутренней деятельности нашего духа, как на своем основании. Внешние вещи могут содержать в себе условие, при котором они так или иначе возникают, но не силу, способную их реально породить. Сила мысли души должна содержать в себе реальные основания для них, настолько, насколько они естественно возникают в ней». Таким образом, и понятия опыта можно рассматривать как спонтанные продукты духа. Сразу видно, что эта точка зрения Канта имеет для рационалистического метода то же значение, что и лейбницевское учение Вольфа о полной спонтанности восприятий. Это также не что иное, как трансформация последней, учитывающая признание influxus physicus [взаимодействия тела и души – wp] между душой и телом. Однако в своей новой теории Кант обосновывает – и теперь уже определенным и осознанным образом – право брать из нашего естественного сознания неразложимые понятия, материальные принципы, не заботясь о том, не могут ли они возникнуть в опыте.
Именно имманентный ход развития привел философскую мысль Канта к той точке зрения, на которой мы ее находим примерно в 1766 году. Потребность в совершенствовании метода возникла в результате неудач в его применении, а эмпирическая модификация, которая, по- видимому, несколько понизила рационалистическую метафизику, которая, по-видимому, несколько понизилась в «Грезах» – под впечатлением ли «Новых сочинений» Лейбница, впервые увидевших свет в это время, – нельзя сказать с уверенностью. Несомненно лишь то, что эта возобновленная спекулятивная работа привела к тому существенному повороту в мышлении Канта, который произошел в 1769 году.
К нему возвращаются пережитые когда-то «перевороты». И в ходе повторных метафизических экспериментов он заметил, что таким образом нередко метафизические предложения, стоящие друг напротив друга, как утверждение и отрицание, получают одинаково убедительное доказательство. Это уже не может быть связано с
недостаточной осторожностью в обращении с методом. Кант подозревает, что смущающий факт хотел бы объяснить себя из иллюзии понимания, и, чтобы раскрыть его, он «совершенно серьезно пытается доказать пропозиции и их противоположности».
Диссертация 1770 года показывает, на решение каких проблем направлены эти попытки. Это, в частности, два космологических вопроса, которые приводят к двум парам противоречивых, но, по- видимому, одинаково определенных предложений, а именно к противоположностям, которые мы впоследствии вновь встречаем в «Критике» под названием «математические антиномии». Мир имеет заключение в пространстве и во времени – мир бесконечен в пространстве и во времени; пространственное и временное целое в мире состоит из простых, далее не делимых частей – все пространственное и временное, а значит, и все субстанции в мире бесконечно делимы. В обоих случаях тезисы и антитезисы, как представляется, могут быть обоснованы одинаково строго. С одной стороны, неоспоримый факт, что прогресс, как и деление на пространство и время, никогда не прекращается, с другой – столь же неоспоримый принцип, согласно которому ряд условий не может быть бесконечным, а должен иметь свое конечное условие в конечном принципе. Эти антиномии впервые поколебали веру Канта в реалистический рационализм, в метафизику, которая видит в результатах априорной дедукции мысли непредвзято адекватные образы реальных вещей. На этот раз, однако, выход еще есть. Предпосылки для предварительного решения этой проблемы заложены в предшествующем развитии КАНТа. Для ученика НЬЮТОНА космическое пространство – бесконечная и бесконечно делимая величина, как и время. Поэтому антитезы имеют свое право. Для философа рационалистической школы, однако, понятия мира как совокупности и простого, из которого состоит все сущее, также являются необходимыми, абсолютно надежными компонентами познания мира. Таким образом, остается только одно: предположить, что тезисы и антитезисы вытекают из разных источников знания. Фактически Кант теперь рассматривает пространство и время как общие формы видения, которым противостоят дискурсивные понятия и пропозиции понимания. Вопрос лишь в том, какой из этих двух источников знания предлагает нам вещи как они есть сами по себе? Для рационалиста ответ не вызывает сомнений: понимание постигает вещи сами по себе в их внутренней сущности, мыслит основные формы и отношения реальности, а созерцание,
чувственность, есть лишь субъективная форма, в которой вещи воздействуют на нас. Тем самым выражается субъективность пространств а и времени и осуществляется различие между явлениями и ноуменами: ноумены, чистые, но тем не менее объективно действительные понятия понимания в полном смысле слова, являются собственно метафизическими понятиями. Тезисы и антитезисы верны, если только последние не смешиваются с элементами восприятия, если последние ограничены интуитивной сферой. Но антитезисы относятся только к видимости, к вещам, как они предстают в наших представлениях через посредство субъективных элементов, тогда как тезисы наделяются абсолютной объективной истиной.
Таким образом, реалистический рационализм снова спасен – ценой преобразования онтологии, поскольку пространство и время должны быть исключены из круга метафизических понятий, но с тем преимуществом, что, помимо рациональной космологии и теологии, теперь вновь подготовлена почва для рациональной психологии, поскольку исчезли трудности, лежащие в основе отношения между телом и душой, которые оставались неразрешенными в «грезах».
Однако диссертант незаметно перескочил
через один кардинальный пункт, и вскоре сам Кант заметил, «что ему все еще не хватает чего-то существенного, что он, как и другие, оставил без внимания в своих долгих метафизических изысканиях и что действительно является ключом ко всей тайне метафизики, которая до сих пор была от него скрыта» (письмо ГЕРЦУ от 21 февраля 1772 г.). Вопрос заключался в следующем: " Н а каком основании покоится отношение того, что в нас называется воображени ем, к предмету? Как могут наши представления иметь объективную обоснованность, обоснованность для реальных вещей? В случае представлений о реальностях, которые создает сам воображающий дух, а также в случае чувственных представлений, возникающих в результате воздействия реальных вещей, вопрос отвечает сам собой. Однако ни одна из этих возможностей не относится к нашим интеллектуальным представлениям, к понятиям понимания, к ноуменам. «Если интеллектуальные представления основаны на нашей внутренней деятельности, то откуда берется то согласие, которое они должны
иметь с предметами, и аксиомы чистого разума об этих предметах, откуда они согласуются с ними, без того, чтобы это согласие могло заимствовать помощь из опыта?» В моем понимании сформировать априорные понятия вещей, которые должны быть адекватны реальным вещам, значит сконструировать «реальные принципы об их возможности, с которыми опыт должен верно согласиться и которые тем не менее независимы от него». Как это возможно? Как априорное знание может быть достоверным? Фактически здесь уже ставится знаменитый фундаментальный вопрос критики: Как возможны синтетические априорные суждения? – Вопрос, который философия Лейбница-Вольффа тщетно пыталась решить с помощью deus ex machina [бога из машины – wp], с помощью предположения о заранее стабилизированной гармонии между нашим познанием и реальным миром, вопрос, который в конечном счете должен привести к краху реалистического рационализма в первую очередь.
Правильно поставленная проблема решается наполовину. Полное решение – это «дело Коперника» Канта. Оно заключается в реализации мысли о том, что предметы должны быть направлены в соответствии с нашим познанием, в соответствии с нашими понятиями, и что мы a priori узнаем от вещей только то, что сами в них вкладываем. Ответ на основной критический вопрос, несомненно, был инициирован примером математики. Математические предложения априорны, но тем не менее обладают объективной действительностью, и эта объективная действительность основана на том, что объекты, о которых они говорят, действительно являются необходимыми компонентами видимости, наших чувственных представлений о вещах, но тем не менее это всего лишь субъективные компоненты, возникающие в сознании, к тому, что дано в ощущениях. Не должны ли и априорные принципы и понятия метафизики основывать свою объективную достоверность на том, что они действительно являются субъективными, но тем не менее необходимыми элементами, фундаментальными условиями вещей в той мере, в какой они нами представляются? Но к этому добавил ось еще одно обстоятельство. Мы не ошибемся, если предположим здесь решающее влияние Юма, что, конечно, не могло не натолкнуть и не стимулировать мысль Канта. Юме начал свою критику с понятия причинности. Он показал, что необходимая связь между двумя процессами, которая мыслится в причинном отношении, никогда не может быть выведена из опыта, но что такая
связь столь же мало может быть выведена разумом, a priori, из понятий, и теперь заключил из этого, что понятие причинности есть не что иное, как «бастард воображения, которое, пропитанное опытом, подвело некоторые идеи под закон ассоциации, и субъективная необходимость, т.е. привычка, вытекающая из этого, для объективной необходимости. i. привычка, для объективной из проницательности». Кант разделяет предпосылки, но вывод у него другой: он приходит к выводу, что причинность – это понятие, с помощью которого понимание мыслит себя априорной связью вещей опыта. И это прозрение порождает более далекое открытие, что понятие субстанции, взаимодействия и вообще все метафизические понятия такого рода, что они последовательно служат пониманию только как формы, в которых оно обобщает многообразие опыта. Отсюда, однако, возникает задача вывести их все из единого принципа, из спонтанной деятельности мысли. Конечный результат этого исследования представлен в таблице категорий «Критики Р. В., а принципом, из которого вытекают метафизические понятия, является функция суждения. Но Кант, в отличие от Юма, считает метафизические понятия объективно действительными, поэтому на нем лежит еще одна обязанность – вывести эту действительность. Если бы объекты опыта были вещами самими по себе, как это предполагал Юм, то, однако, объективная истинность этих метафизических понятий не могла бы быть сохранена. Только в диссертации был получен результат, что вещи, данные в опыте, являются только видимостями, только представлениями. Если метафизические понятия – лишь формы, служащие для рационального связывания материала опыта, то все, очевидно, зависит от того, являются ли они как таковые необходимыми факторами, непременными компонентами комплекса видимостей. Фактически понятия старой онтологии оказываются конституирующими условиями опыта. Тем самым обеспечивается их объективная истинность. Но было бы ошибкой ожидать теперь, что из них можно сразу же получить априорное знание о вещах; сами по себе они являются пустыми функциями мышления, которые приводят к знанию только тогда, когда им даны объекты. Но объекты даны в восприятии, и поэтому все суждения о реальном должны основываться на восприятии. Многообразие опыта, масса ощущений, как было показано в диссертации, обязательно вписывается в формы пространственного и временного воображения. Так возникает эмпирическое представление, на котором основываются эмпирические суждения о реальности, синтетические суждения a
posteriori. Только в самих представлениях о пространстве и времени возникают чистые, априорные представления. В этом и заключается основа возможности априорного познания реальных вещей: синтетические суждения a priori могут быть выработаны из понятий понимания, связанных с чистыми представлениями о пространстве и времени.
Можно предположить, что основная идея этого критического решения основной метафизической проблемы возникла у Канта очень рано – возможно, одновременно с письмом к ГЕРЦУ, во всяком случае, не намного позже. Однако полное ее осуществление происходило лишь постепенно. Из опубликованных Райке «Losen Blattern» в сопоставлении с лекциями по метафизике, прочитанными около 1778 г., видно, как в течение 70-х годов XX века понятия и предложения рациональной психологии, космологии и теологии, которые полностью выходят за пределы опыта и не могут быть основаны на наблюдении, постепенно отделялись от понятий и предложений онтологии, категорий и принципов понимания, имеющих конституирующее значение для опыта. Этот процесс завершился в «Критике чистого разума».
LITERATUR – Heinrich Maier in Kantstudien 2, Hans Vaihinger (Hg), Hamburg und Leipzig 1898
Примечания
1) Дальнейшее исполнение вступительной лекции автора на его хабилитации в Тюбингенском университете.
Логика и эпистемология
В логике сегодня стало принято подводить логическое исследование под методологический аспект. То есть довольствуются введением элементарного мышления в позитивные науки и применением простых форм мышления в последних. Это было возможно и на почве традиционной теории. И даже к самой абстрактной формальной логике, которую мог бы разработать ученик Канта или Гербарта, в этом смысле может быть добавлено учение о методах или «прикладная» логика. Произошедшая в последние десятилетия «реформа логики» идет глубже. Она разорвала с традицией и положила начало новому фундаменту науки на иной основе. Однако ее доминирующей идеей является поиск логического мышления непосредственно в научном познании, в научных методах.
Логика, таким образом, становится учением о ф ормах и законах научного мышления. Такая более конкретная постановка задачи логики имеет под собой основания. Сегодня существует приятное единодушие в том, что основным объектом логики является то мышление, которое находит свое выражение в актах суждения. Это исключает из сферы логического интереса значительную часть функций, которые обычно объединяют под названием «мышление». Непроизвольное возникновение и спонтанный поиск представлений или идей, неконтролируемая игра потока идей и их произвольное воспроизведение, преднамеренное инициирование серий мыслей с определенной целью, интуиция, не поддающаяся дискурсивному структурированию, если таковая существует, и все остальное, что можно считать «мышлением», – все это относится к дологической сфере мышления. Логическая рефлексия начинается там, где возникает претензия на общезначимость того, что мыслится, и приходит осознание необходимости мышления. Акты мышления такого рода, однако, по своей природе связаны с формой суждения. Поэтому логика с ее точки зрения может приравнивать мышление и суждение. И именно от нее зависит определение форм и условий общезначимого и необходимого суждения. Это имеет решающее значение для направления логического исследования. Ясно, что ближайшей точкой отсчета для него будет естественное сознание, и оно также в значительной мере сможет воспринять те языковые формы, в которых донаучное мышление создало свой внешний облик.
Это одно и то же мышление, которое позволяет человеку в практической жизни найти свой путь в мире и в своем собственном внутреннем мире и которое служит исследованию как орган для постижения природы и духа с помощью знаний. Задача установления идеальных норм мышления принадлежит только логике. Она должна показать условия, при которых возможны логически совершенные суждения. Но суждение является логически совершенным, когда акт суждения с однозначной определенностью требуется его объектом и поэтому не только осуществляется с неоспоримой очевидностью, но и подкрепляется уверенностью в общей обоснованности. И это в том случае, когда элементы суждения полностью определены и точно сформулированы, а предмет суждения представляет собой или содержит исчерпывающее основание для синтеза суждения. Понятно, что наивное, нерефлексивное мышление не может и не хочет удовлетворять этим требованиям. Но идеалом научного мышления является получение системы логически совершенных предложений. С одной стороны, наука стремится как можно полнее и точнее собрать материал знания, но в то же время она хочет сформировать формальные элементы, в которых должно быть схвачено содержание знания, таким образом, чтобы в результате получились суждения о неоспоримой необходимости мысли. Поэтому в практике научной процедуры логика берет на вооружение не только методы, ведущие к познанию, но и нормы и критерии необходимой и общезначимой мысли. В частности, при конкретном формулировании элементов суждения она будет брать на себя предварительную работу живого научного предприятия и учитывать потребности науки повсюду. Система специальных форм суждения и умозаключения, таким образом, также должна вырасти из рефлексии научной мысли.
Роковой ошибкой основателя этой дисциплины было то, что он принял ненаучный, диалектический и риторический способ мышления в равной степени за научный способ мышления. Тем самым он лишил свою логическую теорию того проникновения в глубинную сущность процесса суждения, которое возникло бы у него на основе его метафизики и эпистемологии, а также той структуры процессов суждения и умозаключения, которая, с его точки зрения, учитывала бы различия в мышлении, действующем в научном процессе мышления. Несомненно, что процедура АРИСТОТЕЛЕСА, который, к тому же, принципиально верно определил точку зрения на логическое рассмотрение функций мышления, привела логику на путь, на котором она все больше теряла из виду свое отношение к задачам и потребностям науки и в конце концов погрузилась в скучный формализм. Акты ненаучного мышления не поднимаются выше уровня эндоксона [обыденного – wp]. С другой стороны, в них все же есть намек на идеал мышления, так как, безусловно, в каждом
суждении как таковом выражается по крайней мере необходимая и общезначимая необходимость. Таким образом, логика и с этой стороны отнесена к научному мышлению.
Другой вопрос, вправе ли человек формировать
логику исключительно как теорию познания. На этот счет можно делать оговорки.
Процессы мышления, находящиеся на службе познания, функции, в которые вступает материал познания, данный в сознании, чтобы стать познанием
через мышление, – это, несомненно, наиболее яркие приложения мышления, которые не служат цели познания и исключение которых из области логики было бы тем не менее неоправданным. Рядом с познанием или даже выше его в жизни человека находится действие. И мышление также является неотъемлемым инструментом действия. Когда я размышляю сам с собой о том, что я хочу сделать, этот вопрос вызывает игру мотивов, которую доводит до конца обдуманное мышление. А когда я принял решение, когда я стремлюсь к определенной цели, размышления о средствах, которые могут привести меня к цели, – это опять-таки работа рефлексивного мышления. Может ли это мышление быть лишено логики? Не говорим ли мы о согласованности воли и действия, которая, по- видимому, предполагает работу логических процессов в совершенно особой форме? Можно ответить, что мышление в этих случаях, конечно, не является научным, а значит, не является необходимым и общезначимым. Но разве не существуют и практические науки, которые не стремятся к познанию сущего, а в конечном счете хотят лишь дать руководство к какому-либо действию? И не является ли одной из важнейших задач логики осветить факелом методологии и эти науки, т.е. юриспруденцию и технические дисциплины в самом широком смысле? Эти соображения можно развить и дальше. Фактом является то, что в истории человеческой культуры научное знание само выросло из практических потребностей жизни. И точно так же ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что прекраснейший долг науки – быть проводником человеческого общества на пути его развития. Как видим, перед нами как минимум апория, с которой логика должна разобраться.
Казалось бы, выход из этой ситуации очевиден. Если объектом логического исследования является научное мышление, то необходимо лишь расширить понятие науки таким образом, чтобы в нем нашлось место и практическим наукам. Тогда логика может остаться исследованием знания. Ведь практические науки также стремятся к познанию в
широком смысле слова.
Но это не так, если мы хотим сформировать логику как учение о знании. Логика мыслится как учение об и стинном мышлении. Но мышление истинно в той мере, в какой мыслимое соответствует чему- то реальному. Истинными являются те акты суждения, которые обладают объективной достоверностью. Поэтому интерес логики принципиально направлен на познание сущего, будь то в сфере природы или историко-духовной реальности. А мышление, которое логика стремится нормативно определить, определяется как совокупность действий, посредством которых поступающие в сознание данные перерабатываются в упорядоченное познание.
Тем не менее, в сферу логики таким образом могут быть включены и дисциплины, служащие реализации некоторой практической цели. То, что прикладное естествознание может основывать свой научный характер только на точном знании внешней реальности, не требует доказательств. То же самое относится и
к таким дисциплинам, как юриспруденция. В той мере, в какой она фиксирует и систематизирует действующее право, в той мере, в какой она прослеживает многообразие исторических форм права в их развитии, она является теоретической наукой. Но применение действующего права к конкретным случаям происходит и в актах познания. Установление фактов и дедукция, подчиняющая конкретный случай общему понятию рассматриваемой правовой нормы путем обычного силлогизма или по аналогии, – это процессы теоретического познания. В судебном решении фактически определяется лишь то, что соответствует действующему праву в конкретных случаях. Однако не менее теоретическим делом является построение идеального закона, с которым критически соизмеряется позитивное право. Философ права, если он не хочет терять себя в беспочвенных спекуляциях, должен опираться на психологические корни права: только всесторонний анализ правосознания может открыть ему идеал права. Поэтому, даже если цель права и юриспруденции – практическая, а юриспруденция, следовательно, в конечном счете практическая дисциплина, логика юриспруденции все же вписывается в рамки теории познания. В принципе, действие практической жизни также зависит от мышления, которое, по сути, является познанием. Размышления, предшествующие принятию решения, позволяют просчитать последствия, к которым приведет реализация возможных целей; точно так же размышления о средствах, которые могут послужить реализации выбранной цели, и о последующих целях, на которые должны быть направлены частичные действия, предполагают теоретическое осмысление определенных причинно-следственных связей. Таким образом, во всех случаях
«практическое» мышление – это деятельность сознания, в ходе которой из рецептивно данного получается знание о реальном. И нет сомнений, что логика практических дисциплин также может быть понята в собственном смысле слова как теория познания. При этом следует иметь в виду: формирование логики как теории познания не означает полного и окончательного подчинения ее целям теоретического познания. Ничто не мешает применять на практике научное, т.е. общезначимое и необходимое, мышление, стандартизированное логикой.
Конечно, такое решение не будет полностью удовлетворительным. Даже юриспруденция, стремящаяся сконструировать совершенный закон, полностью соответствующий назначению права, открывает перспективы для практической науки, которая не просто косвенно или непосредственно подготавливает реализацию тех или иных целей, а сама ищет конечные цели определенного комплекса воль и действий и стремится сделать их объектом общезначимого знания. Философия права соизмеряет действующее право с его целью, с представлением об идеальном состоянии общества, которое представляет собой особую ценность для сознания. Она ведет к этике. В остальном конечные цели прикладных наук, т.е. те, на реализацию которых направлены все средства и частичные цели, над которыми приходится работать в этих дисциплинах, являются эмпирически данными величинами. Возможно, они могут быть генетически выведены из природы человека в необходимой последовательности. В любом случае, однако, это ментальные факты, которые могут быть восприняты теоретическим познанием и включены в когнитивные суждения. В этике дело обстоит, по-видимому, иначе. Здесь цели носят нормативный, императивный характер. И этот особый тип находит свое выражение в новом классе суждений, в суждениях, которые, как представляется, существенно трансформируют специфический критерий логически обоснованных актов мышления. Этические ценности облекаются в высказывания, которые не случайно названы суждениями. Ведь они не стремятся, подобно познавательным суждениям, встретиться с существующей вещью и приписать мысли объективную обоснованность. Они уже не измеряют свое содержание эталоном истины. Скорее, они оценивают прошлую, настоящую или будущую волевую детерминацию в сравнении с нравственным идеалом, не отказываясь, однако, от претензий на необходимость, всеобщую обоснованность и абсолютную доказательность. Как видно, перед логикой ставится новая задача: систематизация и методическая обработка моральных ценностей и целей, фигурирующих в этических суждениях. И в связи с этим возникает необходимость в иной версии логики. Логическая рефлексия уже не может быть ограничена познавательными суждениями. Характеристикой логических актов
мышления становится уже не истина, а в более широком смысле: необходимость и непосредственная очевидность. Но рядом с этическими сразу же возникает еще один вид родственных суждений: комплекс высказываний, в которых заданные смысловые содержания оцениваются с точки зрения эстетического удовольствия. А эстетические суждения также хотят быть общезначимыми и необходимыми. Таким образом, превращение логики в общую теорию общезначимых и необходимых актов мышления, по-видимому, напрашивается и с этой стороны.
Но действительно ли этические и эстетические суждения относятся к сфере логики? Вряд ли кто-то склонен это признать. Напротив, размышляя об этических и эстетических суждениях, познавательные суждения, в свою очередь, предстают в таком свете, в котором они вновь оказываются исключительным объектом логики. Казалось бы, все они тоже являются суждениями – в той мере, в какой они оценивают материал суждения по критерию истинности.
Истинное, хорошее, прекрасное – это, надо полагать, согласованные идеалы. Поэтому логика, этика, эстетика, как науки об истинном, добром и прекрасном, должны быть поставлены рядом.
Я все-таки не считаю этот путь жизнеспособным. Уравнение логики с этикой и эстетикой не может быть осуществлено. Вряд ли нужно подчеркивать, что при систематическом развитии этики и эстетики, как и любой другой практической дисциплины, приходится на каждом шагу прибегать к логическим функциям. Но даже концепция когнитивного суждения, из которой исходит эта координация, не может быть сохранена. То, что все познавательные суждения соизмеряют себя с эталоном истины, что все они хотят быть истинными, действительно верно. Но акты суждения – это связи, «вставки» идей. А сознание истины – это всего лишь момент, имманентный этим синтезам. Конечно, этот момент может быть и явно выведен за пределы суждения. И это действительно происходит, когда есть сомнения в попытке соединения идей, когда есть основания для сомнений. Тогда я объявляю, что оспариваемое суждение истинно. Однако делать такие «суждения об истине» типом суждения вообще – это, как мне кажется, изнасилование элементарной функции суждения. Суждения об истине сами по себе являются суждениями, и они связаны с этическими и эстетическими суждениями. Уже одно это проливает новый свет на последние. В суждении об истине я сужу о суждении. По этой причине, однако, весь акт является обычным суждением. Субъект суждения – судимое предложение, к которому я присоединяю предикат «истинный». Аналогичным образом в
этических и эстетических суждениях о тех или иных содержаниях сознания констатируются предикаты «хорошо» и «красиво». Однако истинное, хорошее, красивое и их противоположности – это модальные отношения, т.е. отношения, в которых выражаются отношения предметных содержаний к определенным ценностным эталонам. Сами эти ценностные эталоны представляют собой психические реальности. Таким образом, этические и эстетические суждения, как и суждения истины, в той мере, в какой они действительно могут претендовать на общезначимость и несомненную доказательность, предстают как реляционные суждения, необходимые для мышления, объективные и общезначимые. Поэтому в той мере, в какой они выражают реальный факт, все они должны быть причислены к познавательным суждениям.
Такой взгляд на вещи покажется кому-то странным. Но он соответствует лишь тому фундаментальному положению, которое этика и эстетика занимают в системе наук. Этические и эстетические идеи – это реальные факторы. Возможно, они никогда полностью не воплощаются в действии, во внешней реальности. В нравственной самооценке всегда будет существовать большой разрыв между этической нормой и фактической волей и действием. И художник может не без оснований сетовать на недостижимость задуманного им идеала. Несомненно также, что этические и эстетические нормы – в отличие от ограниченно правомерных аспектов гедонистического суждения, результат которого выражается в предикатах «приятно» или «неприятно», в отличие, кроме того, от всех оценок по критерию полезности, восходящих к практико¬техническим целям, наконец, к фактической воле, к эмпирически данным мотивам – требуют безусловного признания в качестве абсолютных ценностей. Этические и эстетические нормы и идеалы являются, таким образом, и духовными реалиями. Они являются живыми движущими силами, властно вмешивающимися в ход психических событий в нравственном и художественно-эстетическом сознании. И задача этики и эстетики – исследовать и анализировать эти психические реальности. Это теоретическое познание, постижение реального бытия – работа, которая во всех случаях должна предшествовать генетическому исследованию нравственно¬эстетических явлений. То, что результат предстает в описательной форме, понятно. Но ясно и то, что это описание в то же время способно в полной мере отразить безусловный, абсолютно нормативный характер этических и эстетических идеалов. Правда, этика и эстетика вновь поступают на службу практике. И это естественно, поскольку нормы, над которыми они работают, хотят определять действие или эстетическое производство и суждение. Но научный характер этих двух дисциплин опять-таки не страдает от
того, что их результаты могут быть одновременно использованы практически.
Таким образом, все науки как таковые стремятся к познанию существующего, независимо от того, является ли их конечной целью теоретическое познание или практическая задача. Научное мышление, таким образом, встречается в познании повсеместно. И во всех случаях оно в конечном счете ставит себя под стандарт истины. Конечно, при этом следует иметь в виду, что мышление не полностью тождественно познанию. Процесс познания включает в себя и данность данных знания, а мышление предполагает эту данность и оформляет ее в объективно достоверное знание. Поэтому мышление является частью познания: познание завершается в истинном мышлении. Но логика должна зафиксировать условия и формы этого мышления. В этом отношении ее можно и нужно понимать как теорию познания.
Но тут она встречается с той философской дисциплиной, которой человеческое познание отведено в качестве особого объекта исследования. Это наука, которую современное кантовское движение выдвинуло на передний план философского интереса и которой не без оснований привыкли приписывать фундаментальное значение для всей философии. В чем состоит
особая задача «эпистемологии», в целом можно согласиться, если только взгляды на метод и конечные результаты науки различаются. Прежде всего, она должна исследовать объективную обоснованность и абсолютную реальность познания и его отдельных факторов, определить рамки и пределы познания и, если это вообще возможно, отделить субъективные и транссубъективные (внементальные) его элементы. Как соотносятся логика как теория познания и эта теория познания?
В этом вопросе и сегодня существует большая путаница. Кажется очевидным ограничить эпистемологию исследованием того, каким именно образом нам даны эмпирические данные знания, и оставить логике анализ и определение синтетических процессов, посредством которых из этих элементов образуется упорядоченный комплекс знаний. Но такое разделение труда не представляется возможным. Ни одна из дисциплин не может решить свою задачу таким образом. Знание – это только логически завершенный опыт. Данные знания, которые мог бы предложить чистый, еще совершенно необработанный опыт, были бы, если бы их вообще можно было полностью отделить от синтетических интерполяций, разрозненными, бессвязными, фрагментарными
содержаниями сознания. С другой стороны, такие понятия, как объективная достоверность, реальность, истина, также восходят к синтетическим функциям логического мышления: логика, следовательно, тоже не может абстрагироваться от того, как дан материал познания. Остается ли в этих условиях что-либо иное, кроме как полностью опирать логику на эпистемологию?
Не было недостатка в попытках привнести в
логику эпистемологические соображения, что должно обеспечить ей возможность быть теорией познания, но при этом искать и определять сами логические функции обычным способом, возможно, со специальным учетом научных методов, но без дальнейшей эпистемологической рефлексии. Но это полумеры, которые не позволяют провести логическое исследование резко и уверенно в его принципах. Ясно одно: если логика, в той мере, в какой она хочет быть учением о познавательном мышлении, действительно должна опираться на эпистемологию, то она вынуждена выводить свои нормы и формы непосредственно из эпистемологического исследования.