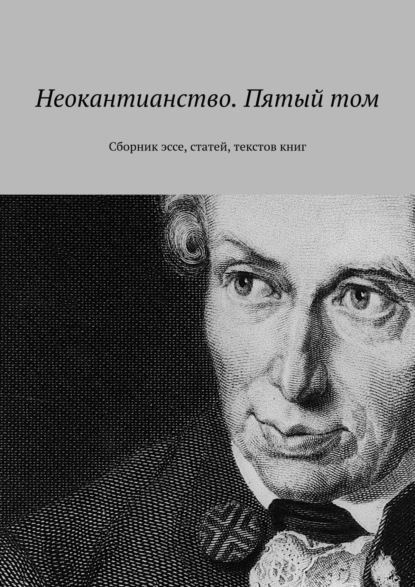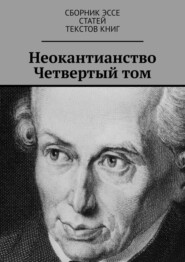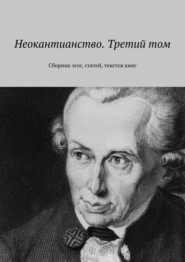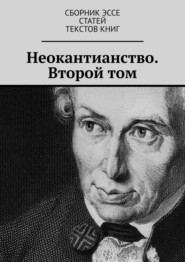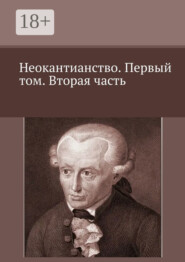По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Неокантианство. Пятый том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Определение – трудное и в то же время необходимое дело для философа. Очевидно, что всякому полному знанию должно предшествовать определение, то есть подробное и точное представление о его объекте. Однако, с одной стороны, можно с готовностью признать трудность такого дела.
Прежде всего, примитивные ощущения, в силу своей простоты, не могут быть, с нашей точки зрения, определены. Действительно, я даже не могу быть уверен, показав их объект, что другой имеет точно такие же ощущения от них, как и я от них.
Во-вторых, никакие объекты опыта, состоящие из таких ощущений, не могут быть определены; поскольку их понятия могут быть изложены столь же мало подробно, сколь точно они могут быть изложены, поскольку мы можем постоянно обнаруживать в них новые признаки, которые не могут быть выведены как свойства из их сущности из тех, которые уже содержатся в их понятиях, и которые мы должны поэтому добавлять к их понятиям как новые составляющие, и которые, следовательно, никогда не могут стать подробными; поэтому при внимательном рассмотрении можно также показать, что некоторые признаки понятий не являются существенным определением, а просто свойствами других признаков, и поэтому должны быть исключены из определения.
Чистые понятия форм a priori или субъективных условий всего мышления в целом не могут быть определены, поскольку они предшествуют всем определениям и должны лежать в их основе.
Более того, использование языка создает новые трудности для определения. Поскольку язык был изобретен не философом, а простым человеком, то было бы неприлично, если бы философ ставил себя в этом отношении законодателем. Но использование языка, именно потому, что он был введен простым человеком, очень неустойчиво. Как же тогда философ должен браться за определение таких слов и терминов, которые используются в обыденной жизни?
Но, несмотря на все эти трудности, философ не может полностью отказаться от определения, только он должен быть осторожен в этом деле.
Примитивные ощущения не могут быть определены как таковые, но в этом и нет необходимости. Они – материя в объектах, то есть простые элементы мысли, но не сама мысль, ставшая таковой лишь благодаря своим чувственным и интеллектуальным формам. Сами чувственные объекты не могут быть определены в строгом смысле этого слова; но, тем не менее, они допускают определения, которые могут быть все более и более исправлены и дополнены опытом и экспериментом. Формы мышления сами по себе не могут быть определены, но условия их использования могут быть указаны a priori. Что касается использования языка, то философ, конечно, не может бросить монету или произвольно изменить стоимость уже используемых, т.е. он не может ввести в язык новые слова или произвольно определить значение старых. Однако он может указать обменный курс; и если он осторожен в этом отношении и не считает свои определения неизменными, но готов изменять и улучшать их по мере необходимости, то законность и полезность таких определений не может быть оспорена.
Дефиниции и дефиниты находятся примерно в таком же отношении друг к другу, как мелкая и крупная монета. Первая наиболее удобна для немедленного повседневного использования, вторая – для немедленного повседневного использования, а третья – для торговли в больших масштабах. Локк выступает против использования определений в философии. Он считает, что безопаснее работать, если вместо определения, состоящего из родового термина и следующего вида, давать все характеристики объекта; потому что такому определению обычно не хватает полноты. Лейбниц, с другой стороны, защищает его использование.
Первый уделяет больше внимания полноте понятия, с помощью которого его предмет распознается и отличается от всех других: второй, с другой стороны, в то же время стремится к точности, с помощью которой в понятие вводятся только те характеристики, которые не могут быть выведены друг из друга, и где, таким образом, следствия связаны с их истинной причиной.
Я считаю, однако, что с точки зрения объектов математики Лейбниц прав. Любое математическое понятие всегда детализировано с учетом его последствий. Прямоугольный треугольник не более детализирован с точки зрения его следствий, а именно, что, например, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, чем понятие треугольника вообще с точки зрения его самого, например, что сумма его углов равна двум прямым углам. Поэтому нет необходимости вносить эти следствия в само понятие, как существенные части.
С объектами природы, однако, ситуация совершенно иная; здесь, как мне кажется, Локк прав, утверждая, что такие определения бесполезны, поскольку всегда приходится добавлять новые характеристики, которые не могут быть выведены из уже известных как свойства их сущности, и, следовательно, понятия никогда не могут быть детализированы. Однако, перечисляя все известные характеристики, всегда можно приблизиться к этой полноте. Точность при этом ничего не теряет, так как эти понятия в любом случае никогда ее не достигнут, поскольку мы не знаем внутренности объектов природы настолько, чтобы вывести их свойства отдельно. Однако объяснение слова, каким бы способом оно ни было дано, всегда необходимо.
Книгу, содержащую такие объяснения в систематическом или алфавитном порядке, можно сравнить с таблицей курсов валют. Дефиниции здесь – это знаки внутренней ценности определений, монет в целом. Понятия, которые они представляют, бывают разного рода; одни, хотя и небольшие по количеству, тем не менее имеют большую ценность; они состоят из небольшого числа существенных определений и, тем не менее, в силу своего большого влияния на человеческую мысль, имеют большое значение; другие же, наоборот, подобны мелкой монете, содержат много в себе, но мало между собой. Первые служат для немедленного использования, а вторые могут также служить для изобретения новых истин.
Эти определения могут быть расположены либо в систематическом порядке целой науки, либо в алфавитном порядке. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки. Систематический порядок полезен для изучения, но алфавитный порядок словаря полезен только для справки. Первый порядок предполагает второй.
Моим намерением в этом словаре ни в коем случае не является объяснение объектов философии в алфавитном порядке по какой-либо известной системе (как, например, это делает Walch в своем философском лексиконе, который расположен по вольфианской системе, единственной преобладающей в его время, или как это делает Шмидт в своем словаре, который предназначен только для поиска кантовских работ), но свободное обращение с предметами философии, в котором я буду иногда приближаться к этой системе, иногда к той, иногда отклоняться от обеих, и при этом буду указывать причину этого отклонения. Поэтому нельзя вменять мне в вину отклонение от той или иной системы как недосмотр, пока не исследована причина, побудившая меня к этому.
Кроме того, я буду стремиться объяснить в основном те слова, которые широко используются в обычной жизни, такие как мораль, эстетика и т.п., и буду добавлять только те логические и трансцендентальные термины, которые оказывают на них влияние. И поскольку план этой работы обширен, так как он распространяется на всех, чьи знания полезны, я не мог разработать все сразу. Поэтому мне пришлось разделить его на различные части, каждая из которых должна содержать целый алфавит. Однако я постараюсь устранить возникающие неудобства при поиске информации с помощью универсального указателя, который я готов добавить в конце.
Этот словарь будет содержать не только определения, но и главным образом связанные с ними истины, так что большинство статей следует рассматривать как краткие эссе. Это, так сказать, руководство, к которому я хочу приложить свои мысли, и поэтому мне нет необходимости, как по содержанию, так и по форме, связывать себя какими-либо обязательствами.
Возможно, не будет неприличным, если я стану сетовать здесь на упадок философии, на то, что в наше время ее мало кто поощряет, и тому подобное. Но, во-первых, я не верю, что такими жалобами можно избавить от зла. Во-вторых, такие жалобы не кажутся столь обоснованными, как хотелось бы. В-третьих, я не могу сделать это лучше, чем привести слова одного из наших величайших мыслителей, который в предисловии к своим «Письмам о философии Канта» выражается следующим образом. (1)
«Не без печали он полагал (говорит он о своем друге, которому адресует эти письма), что заметил, что состояние нашей научной и ученой культуры определяется все более широким стремлением к осязаемому; что никогда не бывший очень большим энтузиазм нации к своим поэтам и философам зримо уменьшается; что нравственность все более и более низводится учителями морали до эгоистического благоразумия, что права человечества все яснее и яснее объясняются знатоками права из преимуществ одного государства, что дела религии откладываются в сторону здравомыслящими умами и в значительной степени оставляются на бесплодную борьбу между защитниками суеверия и неверия; что элементарная философия вырождается из-за стремления приблизить ее к воображению обывателя, а ценность учебников оценивается в зависимости от того, насколько они щадят мысль; Что каждое сочинение, выдвигающее новые идеи, понимается, опровергается и порицается в той же пропорции, и что, наконец, немногие самостоятельно мыслящие люди в своих попытках, которые время от времени появляются почти против благодарности публики, работают друг против друга больше, чем когда-либо, с намерением и без намерения, и так решительно, что всегда один разрушает то, что построил другой.»
«Так как, по моему убеждению, главный источник этой неприятности лежит там, где мой друг меньше всего подозревал, – во внутреннем состоянии самой философии, а именно в полном отсутствии тех принципов, которые он считает давно найденными: поэтому, чтобы успокоить его, мне ничего не оставалось делать, как попытаться обратить его внимание на некоторые из самых существенных потребностей философии до сих пор; и так как я познакомился с новой, которая обещает удовлетворить эти потребности, пригласить, ободрить и подготовить его к ее изучению. Так возникли те указания на природу настоящей и будущей философии, которые составляют содержание этих писем».
Но я полагаю, что, как бы ни были обоснованы сами по себе замечания этого друга, выраженная по их поводу жалоба не так уж обоснована, как может показаться на первый взгляд; потому что, как выражается сам автор, главный источник этого недомогания следует искать во внутреннем состоянии самой философии. Только в этом я не могу согласиться с этим великим мыслителем, когда он считает, что его следует искать в полном отсутствии тех принципов, которые его друг считает давно изобретенными; по этой причине он стремится в этих письмах обратить его внимание на новые принципы, с которыми он сам познакомился, и тем самым поднять причину этого недомогания; Но я считаю, что причина этого зла кроется не в том или ином способе философствования, а в самой природе философии, которая, обращаясь к объектам опыта, обнаруживает разрыв между теорией и практикой, который никогда не может быть заполнен.
Я бы ответил на месте этого друга: Я охотно признаю, что нынешний способ философствования ущербен с точки зрения принципов, и что только кантовская философия, в той мере, в какой она основана на принципах априори, заложенных в самом разуме, способна создать полную теорию. Однако здесь речь идет не о возможности чистой, а о прикладной философии. Поэтому кантовская система может быть совершенной с точки зрения теории, но всегда остается сомнение в отношении ее применения, и пока необходимость этого применения не может быть доказана, состояние нашей научной и учебной культуры не может быть определено иначе, как все более широким стремлением к осязаемому, а мораль должна быть низведена до эгоистического благоразумия и т.д., поскольку такие мотивы признаются всеми людьми как практические, т.е. определяющие действие. Чистая философия, с другой стороны, будет рассматриваться ими просто как систематическая наука, которая имеет для них спекулятивный интерес. Трудно убедить политика, что в своих переговорах он должен принимать во внимание не особые интересы своего государства, а интересы человечества в целом, и тем более не следует убеждать его, что он должен действовать, руководствуясь не интересами вообще, а только формой. Я полагаю, что даже великий человек, создатель этой системы, не хотел смотреть на нее с какой-либо другой точки зрения, кроме этой.
Но поскольку я подробно объяснил это как в данной работе, так и в других, я не буду больше на этом останавливаться.
Кстати, я вполне могу предвидеть, что, отклоняясь от двух доминирующих философских партий по некоторым пунктам данной работы, я подвергнусь некоторой критике. В частности, можно найти много поводов для критики в моем изложении и стиле, в экономичности моего письма и в решительности моих утверждений. Первое я всегда надеюсь оправдать; ибо, что касается лекции и т.д., я сам признаю, что они не самые лучшие. Но в связи с последним, а именно с решительностью утверждений, я считаю, что нужно меньше всего заботиться о столь восхваляемой скромности в философии. Очень противно постоянно повторять формулы: я думаю, я придерживаюсь этого, согласно моей маленькой проницательности, и тому подобное, когда этого не требует сама природа вещи. Эти формулы вежливости уже являются бесполезным бременем в обычной жизни; тем более они должны быть такими в философии, поскольку хорошо известно, что каждый писатель выставляет себя в качестве учителя, как бы он ни хотел отказаться от этой чести.
Примечания
1) См. предисловие к «Письмам о философии Канта» Рейнгольда.
LITERATUR: Salomon Maimon, Philosophisches W?rterbuch oder Beleuchtung der wichtigsten Gegenst?nde der Philosophie, Berlin 1791.
АВГУСТ МОЛЬТЦНЕР
Эпистемологическая теория СОломона Маймона
Попытка улучшить философию Канта
Введение
Настоящая работа вызвана интересом к человеку, который, спустя почти столетие после смерти, был, вероятно, одним из самых странных самостоятельных и оригинальных мыслителей, которых когда-либо знала история философии. Приходится удивляться тому, как этот человек, выросший в самых угнетающих и жалких условиях юности, будучи женатым одиннадцатилетним незрелым мальчиком, даже вынужденный провести часть своей жизни в бродяжничестве по миру в качестве оборванного нищего еврея, не имея никакого философского образования, но обладая упорной и железной силой воли, он достиг такой интеллектуальной остроты, что Кант признал его самым важным и проницательным из своих оппонентов, а Фихте отзывался о его таланте с «безграничным уважением».
То, что этот человек, тем не менее, стал столь знаменитым уже на пороге XIX века, то есть вскоре после своей смерти, поразительно. Основная причина этого заключается в том, что в результате позднего изучения немецкого языка он писал в очень напыщенном, часто неправильном стиле, который было трудно понять в его работах, и что, кроме того, его попытки улучшить критическую философию в основном оставались попытками, которые прокладывали путь к решению проблемы, но сами не достигали этого решения.
Й. Э. Эрдманн, который в своей «Истории современной философии» (Geschichte der neueren Philosophie) предлагает нам довольно подробное изложение системы Маймона, может по праву претендовать на славу человека, вырвавшего Маймона из безвестности. Маймон также рассматривается в большом труде по исторической философии Куно Фишера, Эдуарда Целлера (Geschichte der deutschen Philosophie) и Витте в трактате «Саломон Маймон. Странная судьба и научное значение еврейского мыслителя». Берлин, 1876 г. В нем дается подробная биография Маймона, но в остальном о системе Маймона нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в только что упомянутых работах. Интересные дискуссии в трудах Маймона, затрагивающие современную философскую точку зрения, прежде всего предвестие эпистемологического монизма, вплетенного в его философию, послужили более близким поводом для освещения эпистемологической попытки совершенствования Маймона в этой работе.
Но прежде чем мы перейдем к этой теме, для облегчения понимания будет полезно кратко изложить два основных положения «Критики чистого разума» Канта, чтобы предварительно сориентироваться в состоянии проблемы познания, которая, казалось, нуждалась в разработке прежде всего для посткантианской, а значит, и для маймонианской философии:
В «Критике чистого разума» для ответа на вопрос о том, как возникает наше познание, Кант предположил два вида нашей познавательной способности – чувственность и рассудок, общий единый корень которых он предполагал (1), но не смог конкретизировать. Первый из этих двух факторов, чувственность, рассматривался как способность восприимчивости, т.е. способность получать впечатления, ощущать их или подвергаться различным воздействиям; и эти чувственные впечатления образуют материал явлений, наш познавательный материал, который другой фактор, рассудок, как способность спонтанности, должен упорядочить в соответствии с присущими ему законами и объединить в наглядные предметы.
Это разделение чувственности и рассудка как стволов нашего познающего теоретического разума и стремление привести их к общему корню и тем самым придать нашему знанию единый, надежный фундамент – это один пункт проблемы, решение которой ставит своей задачей философия Маймониана: другой – устранение кантовской «вещи в себе», которая возникла у Канта в вопросе о причине и источнике этих чувственных впечатлений и ощущений. Поскольку они являются материалом для явлений и чувственно распознаваемых предметов, их источником не может быть само явление, распознаваемый предмет, тогда это должен быть этот неизвестный и непознаваемый предмет, внепространственный и вневременной субстрат мира явлений, трансцендентальное X, «вещь-в-себе», лежащее в основе всякого явления за пределами нашей познавательной деятельности.
По природе вещей критическая философия должна была в своем дальнейшем развитии взять на вооружение эти два момента, являющиеся основополагающими в проблеме познания: единый принцип познания, сознание как позитивный фактор и «вещь-в-себе» как негативный фактор нашего познания. На первый взгляд, возможны три пути дальнейшего развития, но на самом деле только один из них может привести к верной цели.
Либо оставить вещь-в-себе в ее непознаваемости, тогда для возражения скептика против критической философии очевидно: если мы вообще не знаем вещь-в-себе, то зачем ее вообще утверждать? И тогда критическая философия снова окажется на краю скептических скал, которые, как ей казалось, она благополучно обошла. Или же вещь-в-себе позиционируется как познаваемая, и тогда критическая философия возвращается к старому догматическому реализму, разрушением и преодолением которого она только что гордилась.
Дальнейшее развитие критической философии не могло идти этими двумя путями: Оставалась только третья возможность – полностью устранить вещь-в-себе в ее действительности, так что только сознание остается как принцип познания, который постигает все существующее в себе и не позволяет ничему существовать рядом и отдельно от него. Этот освободительный шаг делает Маймон, и сейчас мы увидим, каким образом он решил свою задачу.
I.
Сознание в целом и вещь-в-себе
«Высшее родовое понятие, самая общая и потому самая неопределенная функция» (2) нашей познавательной способности, которая лежит в основе всех ее высказываний и без которой невозможны все остальные функции, есть для Маймона «сознание или знание вообще», которое в нашем языке, именно потому, что это самая общая функция, не может быть обозначено никаким адекватным выражением (Log 244) (3). Но это, по мнению моего Маймона, не имеет значения, ибо понятие уже однажды существует и достаточно громко заявляет о себе каждому мыслящему существу. Само это сознание, которое Маймон также однажды называет «мышлением в самом широком смысле слова, как мышлением вообще» (Trph 16), не выражает простого действия познавательной способности, относящегося ко всем предметам, но одновременно включает в себя субъект, который что-то сознает, и объект, о котором он сознает. То, что не является объектом возможного сознания, не является и объектом способности познания в целом. (Log 15 и Kat 100)
В своем анализе сознания Меймон действительно обнаруживает тесную и необходимую связь между мышлением и бытием, между представляемым бытием и представляемым бытием как неразрывными моментами сознания; и глубоким прозрением Меймона является установление «сознания вообще» как необходимого основания, необходимого условия того, что мир вообще может существовать для познающего человека. Оно не является действительным и непреходящим только для самого себя, но в то же время оно включает в себя как субъект сознания, так и объект сознания, и мир, то есть все, что есть, не имел бы существования, если бы не содержался именно в этом познающем сознании.
Далее Маймон справедливо заключает: все функции познавательной способности (ощущение, мышление, воображение, распознавание и т.д.) принадлежат «сознанию вообще», которое в каждой из них выражает себя особым образом; и все эти особые выражения его можно рассматривать и объяснять как его особые виды, тогда как само оно не может быть объяснено. Ибо поскольку оно есть высшее родовое понятие всех наших познавательных функций, а «определение требует genus proximum и differentia specifica, то можно видеть, что сознание вообще не может быть определено, не более чем оно может быть представлено как факт посредством характеристик, ибо каждая характеристика, которую хотелось бы указать для его объяснения, уже предполагает то же самое.» (Streif 195, Log 16)
Это «сознание вообще» (4) как наиболее общая форма нашей познавательной способности может теперь, если его рассматривать отдельно от определенных объектов, на которые оно направлено, быть названо «неопределенным сознанием», которое становится «определенным сознанием» только через объект, предмет, к которому оно относится, т.е. познание этого объекта, познание предмета. Неопределенное сознание лежит в основе всякого детерминированного сознания, т.е. всякого конкретного познания; «именно неизвестное X получает в каждом детерминированном сознании детерминированное значение a b c d и т.д.». (Cat 143) Конкретное определение в каждом конкретном сознании является его предметом, который мыслится рефлексией как нечто отличное от «сознания вообще», но тем не менее невозможное без него.
Это маймоновское «сознание вообще», которое, таким образом, является необходимым условием для каждой операции познавательной способности, без которого невозможно ни восприятие, ни идея, ни мысль, ни понятие, является лишь центральным принципом познания, объединяющим кантовские источники познания, чувственность и рассудок, и устраняющим их принципиальную противоположность. В том смысле, что он обязательно должен сопровождать и лежать в основе каждого акта мышления, его можно сравнить и составить с кантовским «синтетическим единством апперцепции», которое, по словам Шопенгауэра, является «как бы беспредельным центром сферы всех наших представлений, радиусы которых сходятся к нему, предметом познания, коррелятом всех наших представлений». То, что Кант хотел сказать этим «синтетическим единством апперцепции» то же самое, что Маймон выражает своим «сознанием вообще», видно из всех его высказываний; то, что он, однако, не выразил этого ясно и точно, видно уже из колеблющихся выражений «самосознание», «трансцендентальная апперцепция», «трансцендентальное единство самосознания» и т. д. Естественно, что Кант не мог отменить принципиальную оппозицию между чувствительностью и рассудком в этом «синтетическом единстве апперцепции», не перевернув в корне свою теорию познания, которая была построена именно на этом, в то время как Маймон – как мы увидим позже – легко свел эту принципиальную оппозицию только к одной ступени.
Помимо попыток Меймона предположить единый принцип познания, подобные попытки предпринимались и его современниками, причем нельзя утверждать, что они оказали какое-либо влияние на исследования Меймона или даже послужили для них стимулом. Первыми, кто увидел недостаток «Критики чистого разума» Канта в допущении двух источников знания, были так называемые философы чувства или веры; и среди них первым следует назвать Гаманна, который еще в 1784 году в своей «Метакритике о пуризме разума» назвал вышеуказанное разделение неоправданной денсотомией [Aufspaltung – wp] и высказал мнение, что «два стебля, оторванные от общего корня, должны отпасть и завянуть». Однако, поскольку сам Гаманн не в состоянии указать этот общий корень, и поскольку его сочинение – по какой причине, здесь не место обсуждать – было опубликовано только в 1800 году, нельзя утверждать о его влиянии на Маймона.
Даже Якоби, который в 1787 году в своей работе «Дэвид Юм о вере или идеализм и реализм» стремится проследить все наше знание до последней непосредственной уверенности, «веры», фактичность которой ему не нужно доказывать и о происхождении которой нам не нужно спрашивать, не мог оказать прямого влияния на Меймона, поскольку нигде в трудах Маймона мы не находим упоминаний о Якоби и его философии, в то время как в своей автобиографии он упоминает поименно всех людей, чьими исследованиями он занимался, особенно в тот период, когда он жадно стремился проникнуть в каждую книгу, которая попадалась ему на глаза.
Как и в случае с Гаманном и Якоби, мы не можем предположить, что Маймон находился под влиянием Рейнгольда, который, вероятно, вдохновленный философами чувства, стремился проследить наши познавательные функции до единой центральной деятельности. Его первая работа в этом отношении, «Versuch einer neuen Theorie des Vorstellungsverm?gens» («Попытка новой теории способности воображения»), появилась в 1789 году, то есть за год до «Трансцендентальной философии» Маймона. Если, однако, учесть, что до появления в печати этой первой работы Маймона прошло довольно много времени – ведь рукопись до этого находилась в руках Канта, которому она была отправлена Маркусом Герцем на рецензию, и который, в силу своей занятости, высказал свое мнение о ней лишь спустя значительное время, – то можно смело предположить, что Маймон не знал «Теорию воображения» Рейнгольда до создания своей «Трансцендентальной философии», но скорее он сам увидел недостаток «Критики чистого разума» Канта, исходя из ее духа. Даже если эта первая работа Маймона не разработана четко, методично и упорядоченно, она, тем не менее, уже раскрывает его точку зрения: он указывает на трудности, вызванные кантовским разделением чувственности и рассудка, и в принципе отдает предпочтение системе Лейбница-Вольффа, которая избегает этого разделения.
Позже, когда он познакомился с рейнгольдовской философией, это один из основных пунктов, установленных Рейнгольдом, единый принцип познания, рейнгольдовское «сознание как способность воображения», против которого Маймон, особенно в своих «Рассуждениях в области философии», часто полемизирует даже в довольно оскорбительном тоне. Положение о сознании, на котором Рейнгольд строит свою философию: «В сознании идея отличается от субъекта и объекта и связана с обоими», может относиться только к сознанию идеи, но не к «сознанию вообще». Для Рейнгольда это сознание как способность всей воображаемой деятельности является общим и необходимым фактом, который нельзя объяснить, но можно описать как факт, разложив его на составные части (субъект и объект). Таким образом, по Рейнгольду, воображение – это наиболее общее, первое в способности познания; ощущение, восприятие, понятие, идея: для него все можно проследить до общего термина «воображение», тогда как для Маймона оно должно рассматриваться именно как последнее среди действий познания (KU 61).