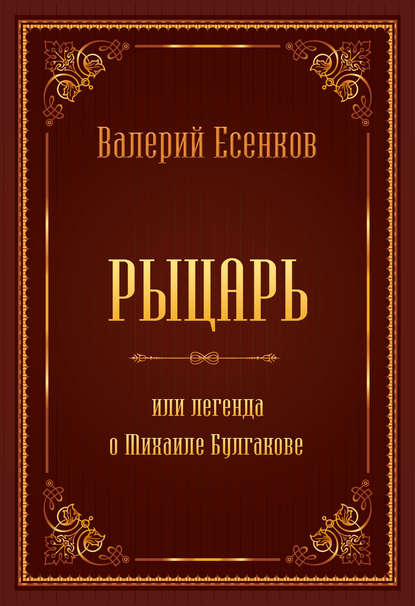По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рыцарь! Рыцарь! Разве можно поддаваться на провокацию? Разве не видишь, что тебя желают заманить в мышеловку, разоблачить, выволочь наружу твое дореволюционное прошлое, Первую гимназию, университет, ещё прежде рассказы отца и по меньшей мере грубо и гадко насмеяться над ним?
Полно, всё он видит, всё понимает. Он и прежде не позволял бесстрашным истребителям славного прошлого глумиться и над славным прошлым и над собой, и когда, после его выступления с докладом о музыке, В. Вокс набирается смелости утверждать в «Коммунисте», что его доклад является простым, да ещё легковесным, переложением книг по истории музыки, он, способный исполнить все арии «Севильского цирюльника» или «Фауста», отвечает самодовольному критику на страницах той же паршивой газеты, обличает его в полнейшем незнании музыки и рекомендует редакции не «поощрять Воксову смелость».
На этот раз в его присутствии оскорбляется самый дух национальной русской культуры, свергается её самая светлая, её бесценнейшая святыня. Предать Пушкина для него почти то же, как если бы он предал Христа. Он ещё способен понять, что страх удавки или топора палача овладевает и старым солдатом, каким был вошедший в историю Понтий Пилат, но такого страха не способен прощать ни другим, ни себе. Он не Понтий Пилат и Христа не предаст. И пусть ему грозит что-то похуже, чем немилость Тиверия, которой испугался пятый прокуратор и всадник, он не может смолчать. Вся его мягкая, доброжелательная натура интеллигентного человека в этот миг встает на дыбы. Вся его дерзость пробуждается в нем. И он составляет доклад. И в этом докладе всё лучшее, что он знает о Пушкине. И он сам тоже в этом докладе, со своим страстным, непримиримым характером, со своей ясностью и остротой, которые вызывают у одних восхищение, в других гнуснейшую зависть, у третьих, то есть у большинства, кровожадную жажду оспорить, разметать, уничтожить, испепелить. Очень, надо сказать, примечательный, многообещающий дар!
«Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. «Ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума…» Говорил Он: «Клевету приемлю равнодушно». Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи. И показал!..»
Битва идей разгорается в бывшем летнем театре. Убожество обстановки вполне достойно эпохи всеобщего разрушения ценностей, не только материальных, но и духовных, которые разрушить нельзя. На сцене торчит какой-то колченогий столишко, реквизированный черт знает где. Графина, натурально, нигде не нашлось, да и какие быть могут графины в революционном быту, эта несомненная принадлежность недорезанных, паразитов и бывших. Вместо графина на колченогом столишке бутылка с водой.
Т. писатель Булгаков М. А., в потрепанном френче, в старых обмотках, причем обмотки разной длины. Однако тщательно выбрит бессмертной бритвой «Жиллет». Его светлые волосы смелой свежей стрелой прорезает безукоризненный интеллигентный, по новым понятиям белогвардейский, пробор.
Он утверждает своим холодным, сдержанным до поры до времени, презирающим противника тоном, что Пушкин – «революционер духа», что Пушкин ненавидел тиранов и тиранию и по этой причине близок был декабристам. Светлый пушкинский гений! К насилию ненависть! Неиссякаемый, неумирающий гуманизм! И что-то ещё.
И так говорит, что предыдущий оратор у всех на глазах лежит на обеих лопатках. И в глазах недорезанных, паразитов и бывших он читает пылающий расплавленным жаром призыв: «Дожми его! Дожми!» И он дожимает, уже не зная пощады. И обнаруживается в этот прекрасный момент, впервые обнаруживается, надо признать, однако неискоренимо и навсегда, что в душе его не плещется ни единой капли христианского милосердия к кровным врагам, даже если перед ним поверженный враг. Он знает, конечно, после апокалиптических лет гражданской взаимной резни, верную цену всем тем, кого позднее назовет обобщающим именем: Марк Крысобой. Никогда по отношению к Крысобою и крысобоям из уст его не вылетит это странное, это неуместное слово: «добрый человек». Он уже навсегда убежден, что быть интеллигентным человеком вовсе не значит быть идиотом и подлецом.
Разлезается, рушится, ко всем чертям летит его маска, и воины с бывшей культурой первыми ощущают, что под маской веселого балагура и остряка скрывается нешуточная натура бойца, и ему, натурально, тотчас наносят ответный удар. В этом ответном ударе легко распознать характернейшие черты и приемы всех бывших и всех будущих такого рода ударов, которые в таком поразительном изобилии обрушатся на него. И самая гнуснейшая черта этих ударов: донос.
В «Коммунисте» является гневливый отчет, в котором т. писатель Булгаков М. А. уже именуется литератором бывшим, то есть тем двусмысленным, однако вполне убивающим обозначается словом, после произнесенья которого в гуманистический спор непременно вступает со своим грозным авторитетом ЧК. В «Записках на манжетах» он подведет невеселый итог:
«Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я – «буржуазный подголосок»…»
Вторая непременная черта всех ответных ударов: оргвыводы. И оргвыводы уже на носу, поскольку битва идей, заполыхав один раз, имеет несчастное свойство никогда не кончаться, только формы менять да разгораться всё жарче. Обе стороны то и дело подбрасывают свежий хворост в огонь.
Наконец, третья черта, может быть, самая гнусная: молчание роевой общей жизни, когда тебя бьют у неё на глазах. Он впервые испытывает её на себе. Ведь читал же он в глазах многих это призывное слово «дожми!», и он дожал, однако когда принимаются дожимать его самого, никто не встает рядом с ним, никто не возвышает свой голос в защиту. Нет, трусливо и пряча глаза его единомышленники оставляют его одного на растерзанье неправедным, но имеющим власть. И до конца жизни станут оставлять его одного. Всегда и во всем.
А пока доклады «бывшего литератора» следуют своим чередом, и в каждом из них он неизменно прославляет кого-то из тех, кого предлагается со спокойным сердцем швырнуть в революционный огонь. И не может не прославлять, заметьте себе. Несмотря даже на то, что читает доклад по обязанности.
К докладам присовокупляются пьесы. В страшной спешке кропает он эти первые пьесы одну за другой, и в такой же спешке их тотчас воспроизводят на сцене, и выручает эти скороспелые пьесы единственно то, что он знает сцену с замечательной тонкостью и что антрепризу в Первом советском театре Владикавказа держит прекрасный антрепренер Сагайдачный, пригласивший известных актеров, а также талантливых молодых.
«Бывший литератор» вынужден бросить в этот костер свою юношескую мечту о блистательном начале театрального поприща. Непременно в столичном, то есть, конечно, в московском театре. Непременно с выношенным уже, вырванным из самого сердца главным героем, которого давно называет «Алеша Турбин». С этим светом души, горящим в потемках разрушительных битв, со словами о чести, о достоинстве, о любви. Всё так продумано в этом сюжете, что работа кажется легкой и что спешка ничему не вредит.
«Братья Турбины» называется пьеса. Подзаголовок гласит: «Пробил час». То есть, как видите, пьеса не о геройских подвигах красных бойцов, которые добивают белую контру, а пьеса о том, что в жизни всегда наступает тот час, когда надо сделать решительный выбор, выбор пути, по которому дальше идти. И всегда это выбор между бесчестьем и честью.
Боже мой! Это же всё интеллигентские штучки! Пьеса прямо обречена на провал!
Премьера состоится в четверг, двадцать первого октября. В заглавной роли выступил Поль, сильный и уже известный актер.
Удивительная судьба: с Турбиным ему своеобразно и непременно везет! Хотя этот первый Алеша Турбин не имеет почти ни малейшего отношения ни ко второму, ни к третьему, «треск успеха» падает на него со стороны тунеядцев, недорезаныз, бывших и паразитов, которые большей частью и посещают Первый советский театр. Что там падает – обрушивается на счастливую голову автора.
Первый треск. Самый, самый первый в его жизни настоящий успех. Он на седьмом небе, вы полагаете? Он с сияющим лицом вылетает на вызов? Мой читатель, когда же перестанешь ты на его счет заблуждаться? У этого нового драматурга, который где-то в страшной глуши рождается у нас на глазах, есть не только достоинство, гордость собой и убийственно острый язык. Он ещё имеет острейшее критическое чутье в отношении себя самого. Бесценный, однако мучительный дар. И оттого ни седьмого неба, ни сияющего лица, ни переполненного пеной радости сердца. Треск успеха ему доставляет страданье. Вскоре он пишет об этом двоюродному брату в письме:
«Жизнь моя – мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда «Турбины» шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня на душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать, – писать. В театре орали «автора» и хлопали, хлопали… Когда меня вызвали после второго акта, я выходил со смутным чувством… Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «а ведь это моя мечта исполнилась… но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь…» Судьба насмешница…»
Однако, если автор уходит после премьеры с кровоточащей раной в совестливой душе, то истребители духа с зубовным скрежетом налетают на «бывшего литератора». Одной фразы о «разъяренных Митьках и Ваньках» оказывается слишком достаточно, чтобы разразиться в «Коммунисте» тирадой, полной самого зловещего смысла:
«Мы заявляем, что если встретим такую подлую усмешку к «чумазым» к «черни» в самых гениальных страницах мирового творчества, мы их с яростью вырвем, искромсаем на клочья…»
Все-таки ещё три вечера «Братьев Турбиных» повторяют, а двадцать шестого октября должен состояться Пушкинский вечер, причем афиша, которая извещает граждан об этом событии, подписывается странным именем: администратор Филь.
Самое имя Пушкина в пределах Владикавказа раскалено, а тут ещё убогую сцену украшает самодеятельный портрет, изготовленный голодными местными силами, готовыми ради куска хлеба ухватиться за любую работу. С такими наглыми выпуклыми глазами портрет, с такими остервенелыми бакенбардами, что гражданин на портрете из-под размашистой кисти местных сил выходит как две капли воды бесстыжий Ноздрев. Ужасающие последствия столь оригинальной игры рисунка и красок нельзя не предвидеть. Натурально, разражается настоящий скандал.
«Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской…» В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне: «Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!» Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло кресчендо. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта – театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Бис!!!» Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию…»
Я не знаю и не хочу знать, что на этот раз навалял сукин сын, нашедший себе на полосах «Коммуниста» трибуну. Сам Михаил Афанасьевич приводит такой отрывок из подлой статейки «Опять Пушкин!», должно быть, впоследствии им самим сочиненный, однако выдержанный именно в духе этого рода погромных статей:
«Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника \каким, положим, он и был/ с бакенбардами…»
К этому отрывку далее следует его комментарий:
«Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..»
Под арест его, слава Богу, собачий кретин не подводит, однако без промедления оргвыводы следуют, при гробовом молчании почтеннейшей публики. Двадцать восьмого октября является комиссия для расследования подрывной деятельности подотдела искусств, составленная из таких же отъявленных истребителей духа. Расследует. Составляет доклад. Направляет доклад куда следует. Там где следует на обложке доклада делают краткую, однако возмутительную, небезопасную для жизни размашистую надпись карандашом:
«Изгнаны: 1. Гатуев, 2. Слезкин, 3. Булгаков \бол./, 4. Зильберминц…»
Имеется довольно смелое предположение, будто сокращение в скобках надлежит понимать как «белый», «белогвардеец», с чем я согласиться никак не могу, поскольку толкование этого рода вело бы за собой непременный арест, и о т. писателе Булгакове М. А. больше бы никто никогда ничего не услышал, как и о том, сказавшем прямо в глаза, кто он такой. Аминь. Я не сомневаюсь, что тут мужественная рука «того, кого следует», пренебрежительно сократила ненавистное словцо «беллетрист», что спасло Михаилу Афанасьевичу свободу, возможно, и жизнь, поскольку предполагало именно только изгнание.
«Я – уже не завлито. Я – не завтео. Я – безродный пес на чердаке. Скорчившись сижу. Ночью позвонят – вздрагиваю. О, пыльные дни! О, душные ночи!..»
Нечего прибавлять, что после столь громкого инцидента литературные вечера запрещают и что вступительные слова о ком бы то ни было отпадают сами собой. Так же сами собой прекращают регулярные выдачи постного масла и огурцов.
И все-таки, все-таки…
Как замечательно он запишет однажды в интимном своем дневнике:
«Блажен, кого постигнул бой…»!
Глава девятнадцатая
Отверженный
Даже зная про этот стержень души, который выражается весь в этой потрясающей записи, не может не поражать, как это он, по ночам вздрагивая от слабейшего звука, всё ещё не сдается, а он не сдается!
В эти горчайшие осенние дни, когда над ним нависает такое тусклое небо, которое напоминает портянку, он напряженно и много работает, и работает не как-нибудь так, оттого, что накатывает священная лихорадка труда, а с сознанием дела, с расчетом. Во-первых, в этом кошмаре, когда истребляется дух, он пробует создавать какие-то настоящие, как ему представляется, вещи, разумеется, исключительно для себя, поскольку их решительно негде печатать. Во-вторых, создавать что угодно для спасенья себя.
Во-первых. Это «рассказы, которые негде печатать» и которые, по всей вероятности, до нас не дошли или нам известны в других редакциях и под другими названиями.
Во-вторых. «Братья турбины» отправляются без промедленья в Москву, в литературную секцию Масткомдрама, которую возглавляет, как прекрасно известно ему, Мейерхольд. На что он рассчитывает, предпринимая этот отчаянный шаг? Он рассчитывает, по-видимому, убить одним ударом двух зайцев: получить из центра заветную бумажку с настоящей круглой печатью, в которой бы черным по белому одобрялась его четырехактная драма и которой можно бы было заткнуть кровожадные глотки ретивых местных властей, а вместе с такой превосходной бумажкой совсем недурно было бы в том же пакете обнаружить приглашение от самого Мейерхольда прибыть срочнейшим порядком в Москву. И он просит Надю, чтобы она сходила в этот чертов Масткомдрам и похлопотала за его несчастное детище. Он как на иголках живет:
«Дело в том, что творчество мое резко разделяется на две части, подлинное и вымученное. В мечтах – Москва, лучшие сцены страны…»
И ведь уже никогда ему не избавиться от этого противоестественного, резкого разделения на вымученное и подлинное. Между ними придется ему разрываться всю жизнь…
Однако, ожидание ожиданием, но он не сидит сложа руки. С умопомрачительной быстротой он строчит комедию-буфф «Глиняные женихи», в тайной надежде, что уж эту-то безобидную дичь без затруднений удастся продвинуть в репертуар и тем несколько смягчить и улучшить свою погубленную почти репутацию, да к тому же и заработать хотя бы немного, поскольку ему не выдают, как известно, ни постного масла, ни огурцов.
Комедию-буфф он лично читает облеченной властью комиссии и, к прискорбию своему, обнаруживает, на каком космическом расстоянии друг от друга располагаются нынче в членах комиссии живая душа и затверженная на вечную память идея.
В продолжение всех трех часов комиссия беспрестанно гогочет жеребячьим гоготом. Однако, поскольку автор уже не просто «бывший литератор», но и тем, кому следует, изгнан с государственной службы, а также поскольку комедия-буфф не представляет ни одного из доблестных героев гражданской резни, что в глазах комиссии могло бы явиться безошибочным признаком несомненного достоинства пьесы, комиссия принимает решение, которому позавидовать могли бы в виртуознейших интригах закосневшие иезуиты.