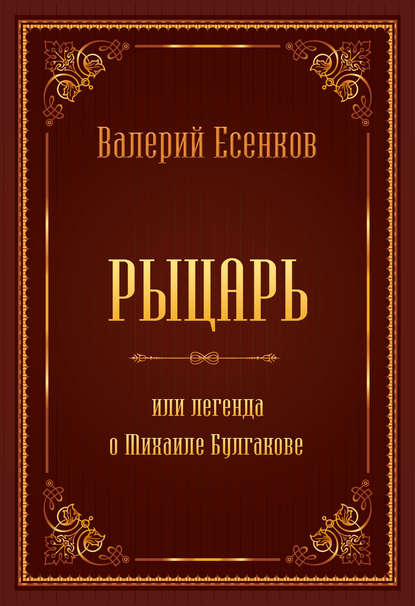По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рыцарь, или Легенда о Михаиле Булгакове
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Далее категории распределяются по убывающей. В самой низшей категории бывшие, паразиты, тунеядцы, знакомые нам, то есть актеры, писатели, профессора, творческая интеллигенция, одним популярным словом сказать, для комиссара с револьвером и в бурке первейший жизненный враг, да и по сей день жизненный враг многих других, без револьверов и бурок. Этой категории выдается одно только постное масло и огурцы. Против склероза отличная вещь. Впрочем, можно предположить, что комиссар с револьвером и в бурке ни о каком склерозе ничего не слыхал, однако не может всё же не знать, что нельзя жить на постном масле и огурцах, непременно ноги протянешь через месяц-другой.
К счастью, у Таси всё ещё имеется цепь, золотая, не менее одного метра длиной, как она уверяет по истечении лет, и они с Мишей отрубают от этой восхитительной цепи звено за звеном и продают на толкучке никогда неунывающим спекулянтам, которые что-то продавали на этом заколдованном месте при белых, стали продавать и при красных, да и теперь продают, уже не скрывая того, что они спекулянты. Если вдуматься, бессмертнейший тип!
На вырученные деньги Тася покупает печенку и делает из печенки паштет. Иногда они ходят в подвальчик и едят, запивая араки, шашлык. Затем снова на постное масло и огурцы.
В Лито делать решительно нечего. С приходом красных куда-то исчезла бумага. При белых была, выходили газеты, кое-что доставалось толстым журналам. А тут хоть шаром покати, кругом ни клочка. Единственная газета, орган ревкома, взявшего под строжайший контроль все запасы бумаги и всё типографское дело Владикавказа, выходит нерегулярно, то двумя полосами, то четырьмя, форматов самых разнообразных, что зависит единственно от того, у кого именно и какую бумагу удается взять под строжайший контроль. Так что, даже если бы во Владикавказе ненароком завелись литераторы, выразить себя им было бы не на чем. Удивительное постоянство судьбы! Некоторые просторы приоткрыты только поэтам, поскольку стихотворение можно исполнить в концерте. Но и поэты в Лито не ходят, один только случай и был:
«Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла. «Та, та, там, там. В сердце бьется динамо-снаряд! Та, та, там». Стишки – ничего… Мы их… того… как это… в концерте прочитаем. Глаза у поэтессы радостные. Ничего – барышня. Но почему чулки не подвяжет?..»
Революционные поэты, трубный глас победившего трудового народа, в Лито брезгуют заходить, поскольку зав. Лито из недорезанных, тунеядцев, паразитов и бывших. Революционные поэты обитают под лестницей, ведущей в редакцию свободного печатного органа, поставленного ревкомом под строжайший пролетарский контроль. Юноша в синих студенческих брюках, старик на шестидесятом году, ещё несколько человек неопределенного вида, однако с грозным поэтическим жаром в глазах. Самый опасный один, тоже в сердце, видать, динамо-снаряд. Впрочем:
«Косвенно входил смелый, с орлиным носом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк – бывшее летнее собрание. По неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:
Довольно пели нам луну и чайку!
Я вам спою чрезвычайку!..»
Временами заглядывают писатели известные и даже очень известные, тоже всё из тунеядцев, паразитов, недорезанных, бывших, без динамо-снаряда. Кто из Москвы в Тифлис, кто из Тифлиса в Москву. В пасмурный день входит поэт, Мандельштам, невысокий, но стройный, с высоко поднятой маленькой лысеющей головой, удивительно чем-то непонятным похожий на Пушкина, входит и убивает своей лаконичностью:
– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?
Рукописей, разумеется, при комиссарах не покупают нигде, то есть комиссары денег не платят, поскольку служащим выдается паек, а с неслужащими вопрос пока не решен, и Мандельштам исчезает, а следом Пильняк в дамской кофточке едет в Ростов:
– В Ростове лучше?
– Нет, я отдохнуть.
Серафимович с глазами усталыми глухим голосом читает доклад о мучениях творчества, точно комиссарам, с револьверами, в бурках, что-то известно о творчестве:
– Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой – платок… Этикетку как-то молочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул – сверху другое поставил. Подумал – ещё раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая… Теперь пишут… Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону.
Сам собой возникает недоуменный вопрос: что же делает Лито, пожирающее постное масло и огурцы, когда ни поэтов, ни писателей нет? О, именно без них-то и работа кипит, так что зав. Лито не разгибает несчастной спины! Сочиняет доклады о сети литературных студий. Обращается к осетинам и ингушам с воззванием о сохранении памятников старины. Он то историк литературы, то историк театра, то спец по музыковедению, то спец по археологии и архитектуре, то мастак по революционным плакатам, то готовит удар по араке, поскольку и арака, которую он иногда пьет в ресторанчике, относится к мрачному наследию ещё более мрачного прошлого. Время от времени по несчастной спине пробегает ужасающий холодок, а потом становится что-то уж слишком тепло:
«Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх не свойствен. Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл! Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно. «Завлито?» – «Зав. Зав». Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более…»
Всё это называется коротко, одним объемным, обобщающим словом: строить новый мир!
Но самыми ударными темпами строительство нового мира идет во время концертов. Концерты устраивают после митингов, после воскресников, то есть почти каждый день. Устраивают литературные вечера. И все концерты непременно сопровождают обширным вступительным словом, иногда длиннее концертов. Вступительные слова посвящаются Пушкину, Чехову, Гайдну, Моцарту, Баху. Некоторое время вступительные слова берет на себя адвокат Беме, из тунеядцев, паразитов и бывших, однако газета «Коммунист», орган свободной печати, то есть ревкома, тотчас производит предупредительный выстрел-донос:
«Адвокат Беме после социалистического переворота не преминул использовать для своей речи бесславное пушкинское: «увижу ли народ освобожденный и рабство падшее…»»
Тотчас видать, что писал негодяй и дурак, поселившийся под строжайшим контролем ревкома, однако после этого выстрела Беме, осторожности ради, уходит из Лито и делается вообще не приметен, точно не существует на свете. Кому же вступительное слово произносить? Зав. Лито, кому же ещё? Но видавший виды зав. Лито пытается уклониться и в той же свободной газете ревкома помещает зазывное объявление:
«В политотделе искусств. Литературная секция политотдела искусств приглашает тт. лекторов для чтения вступительных слов об искусстве на концертах и спектаклях, устраиваемых политотделом искусств…»
Однако охотников обращать на себя пристальное внимание свободного «Коммуниста» отчего-то не находится ни во Владикавказе, ни в окрестных селеньях, всё ещё кишащих толпами беженцев, не успевших за конницей генерала Эрдели. И приходится на линию огня выдвигаться зав. Лито, то есть самому выступать, отрабатывать постное масло и огурцы, от которых не разжиреешь, а без которых подохнешь, поскольку больше нечего есть.
Да ещё расторопный тов. Слезкин Ю. Л., тоже за масло и огурцы, на убитой булыжником мостовой, в приземистом, как-то слишком в стороны раздавшемся доме, окрашенном в обыкновенную, удивительно неприятную желтую краску, открывает бесплатный театр, и красное полотнище плещется на грязном фронтоне, извещая, что это «Первый советский театр», бесплатный единственно оттого, что деньги при новой власти вообще не в ходу.
Перед каждым спектаклем и после него в зале дружными голосами поется «Интернационал». Казалось бы, этого и довольно, однако же нет, полагается и при этой оказии вступительное слово читать. И тов. Слезкин Ю. Л. обращается за помощью к т. писателю Булгакову М. А. Первым ставят на обновленных подмостках «Зеленого попугая» никому не известного Шницлера, поскольку новых пьес своих авторов всё ещё нет, а действие пьесы австрийского драматурга происходит в тот знаменательный день, когда лихие парижане штурмом брали пустую Бастилию.
И т. писатель Булгаков М. А. Произносит вступительные слова, и приходится без утайки сказать, что результаты его добросовестно подготовленных вступительных слов становятся плачевней день ото дня. Некоторые из своих выступлений он опишет впоследствии, ненавязчиво накладывая самые знаменательные штрихи. Привожу одно из таких описаний, больно уж хорошо:
«Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или ещё почему-нибудь, у меня в голове как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: «Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..»
Правда, в тот вечер сам Антон Павлович себя в обиду не дал. «Хирургия» и рассказ о том, как чиновник чихнул, прошли на «ура». У Антона Павловича был полнейший успех.
Можно предположить, что с такого рода успехов и начинается во Владикавказе нешуточное сражение, впрочем, не столько умов, сколько двух, друг друга взаимно исключающих, доктрин. Заваривается какая-то абсолютно сумасшедшая каша. Представьте себе, мой читатель, в громадной стране уже от края до края уничтожено решительно всё, что только может быть уничтожено, истреблены все, в соответствии с разнообразным чутьем, кого только можно истребить в братоубийственной бойне, когда ярость борьбы ослепляет одинаково и того и другого врага. Заводы уже не работают, трубы давно не дымят. Транспорта нет. О классных вагонах давно позабыто. Поезда составляют из покореженных, облупившихся, повидавших разнообразные виды теплушек и тащатся без всякого расписания с такой убийственной скоростью, что на дорогу убиваются месяцы, так что Михаил Афанасьевич шутит, мефистофельски улыбаясь, что до Петрограда надо ехать три года. Голод в стране. На продразверстку дремучие мужики отвечают по-своему, как испокон веку завелось на привольной Руси: бунтуют не часто, комиссаров не бьют, однако изворачиваются таким хитроумнейшим способом, что хлеба все-таки нет, поскольку наловчились засевать самый маленький клин, лишь бы достало семье на еду, и пусть продразверстка лютует, пусть новая власть отбирает у мужика семена, хлеба все-таки нет, идет замиренная, но непримиримая война новой власти и мужика.
В этой бескрайней, невежественной, даже неграмотной большей частью стране интеллигенция истощена до предела. Кто не протянул ног, лишенный пайка, кого не приставили к стенке, тот уплывает поспешно в Константинополь, в Париж. Остаются немногие, но самые чистые, самые честные, желающие народу добра и потому увлеченные светлой идеей создания нового мира без богатых и бедных, главное без невежества и нищеты, тем не менее и этим немногим дозволяется жить на положении тунеядцев, паразитов, недорезанных, бывших и ещё черт знает каких.
А между тем начинает обнаруживаться в ходе кровопролитных боев, что страну эту мало завоевать, страной этой ещё надо уметь управлять. А как управлять красному командиру и красному комиссару? Он не умеет ничем управлять. И в бескрайней стране созидается на месте разрушенных напрочь прежних бессчетное множество новых, а все-таки учреждений, даже несколько больше, чем было прежде. Это сделать нетрудно, ума тут много не надо. Трудность в другом. Для правильного течения дел все учреждения требуют людей подготовленных, хотя бы грамотных элементарно, умеющих написать протокол, желательно несколько образованных.
Ищут и не находят. Почти не остается такого рода людей. Приходится должности замещать сплошь и рядом героями гражданской войны, вступившими в партию большевиков на скаку, изучавшими политграмоту с шашкой в правой руке, отчасти из немногих уцелевших рабочих, отчасти из грамотных и даже вовсе неграмотных мужиков, отчасти из обитателей, которых революция перемешала и кой кого подхватила наверх. Все эти граждане в спешном порядке вооружаются несколькими ходячими революционными афоризмами, но не понимают ни малейшего толку в делах, подписывают бумаги, не всегда понимая их смысл, и разводят такую бумажную волокиту, какой отродясь не бывало в видавшей всякие виды стране.
Кажется, остановиться наступает пора, оглядеться, привлечь на свою сторону именно тех, кто ещё не плывет пароходом в чужие края, голодной смертью не умер и к стенке пока не попал. Однако же – нет! Жажда истребления и разрушения всего бывшего, всего, что принадлежит старому миру, причем принадлежит без вины, как будто обретает второе дыхание, приготавливаясь к самой длинной дистанции, какие только знала история. Уже мало истреблять и калечить живых. Принимаются за почивших в веках. Под корень вырубают всю нашу культуру, истребляют всю нашу духовную жизнь.
Революционные поэты, газетчики революционных газет, взятых под строжайший контроль новой власть, цитируют приблизительно и кое-как, пишут с ошибками самыми грубыми, среди них элементарную корректуру некому подержать, до того далека от них азбуки соль. Что им Пушкин? Что им чеховский юмор? Не надо им ничего, что достается нам от прошедшего, которое проклято ими безумным проклятием, им новое, новое подавай. Традиция? Это великое слово им неизвестно. Все поэты, рожденные той или иной революцией, в духовном смысле безродны, бездомны. Тем яростней они громят то, чего не успели или не захотели узнать, что не понимают и понимать не хотят, считают постыдным, силой оружия, силой проклятия запрещают себе и другим. Вот полюбуйтесь на них:
«Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…»
Стоит страшная летняя духота. Михаил Афанасьевич, который Гоголя любит как родного отца, присутствует в первом ряду и обливается потом. Интеллигент из интеллигентов, с молоком матери впитавший в себя блистательные традиции великой русской и европейской культуры, на Пушкине воспитанный, благодаря Пушкину и всей богатейшей русской культуре ставший истинно порядочным человеком, он принужден выслушивать весь этот малограмотный, революционно-сознательный бред. Да что – выслушивать? Он принужден молчать, как подлец! В духовном отношении его загоняют в мерзейшую школу оплевательства и поношения, причем оплевывают и поносят именно то, что оплевательству и поношению не подлежит.
Прежде открытый и легкий, заводила и весельчак, мистификатор и любитель ядовитых острот, не щадивший решительно никого, он приучается терпеть и держать язык за зубами. Он помнит всегда и везде, что на карту брошена его жизнь и что его жизнь может быть очень просто обрезана каким-нибудь одним необдуманным, неосторожно сказанным словом. Пролетели блаженные времена, когда человек мог быть и мог жить сам собой и перед людьми являться таким, каков есть, хотя бы в белых штанах. Нынче такая откровенность представляется глупой, как если бы вздумалось голым ходить. Ходить нынче безопасней одетым. Ещё лучше подыскать себе маску, чтобы не удалось никому выражение твоего лица подглядеть. В противном случае печальнейшие происходят истории. Всё тот же популярный, но посредственный автор таким образом передает его задушевную мысль, обобщившую жизненный опыт:
«Алексею Васильевичу довелось однажды… собственно, даже не ему, а одному его знакомому, видеть такого обнаженного человека: он нисколько не стеснялся своей наготы. Он даже – наивный человек – гордился ею. Просто пришел и заявил – я такой и такой и иным не желаю быть и костюма не надену… Да, просто так и сказал, с полной искренностью, от чистого сердца. И, представьте себе, – ему поверили. Его приняли за того, чем он был в самом деле, потому что он не собирался казаться чем-нибудь иным… Вот и всё. Вы не верите, чтобы на этом кончилась его история? Но представьте – это так. С тех пор его уже никто не видел. Аминь…»
И т. писатель Булгаков М. А. Старательно обучается труднейшей и сквернейшей науке носить непроницаемую, но, что бы ни говорили, подлейшую маску, единственно для того, чтобы остаться в живых, не уповая, как уповают обыкновенно глупцы, что, мол, там разберутся. Он видел довольно, чтобы понять, что там, в контрразведке или в ЧК, не станет никто разбираться, как видел достаточно для того, чтобы сделать безошибочный вывод, что вместо искренности и голого вида благоразумней иметь простую бумажку с хорошей круглой печатью. И он коллекционирует эти бумажки с круглой печатью, при всяком удобном случае добывает мандаты, удостоверения личности, пропуск для передвижения по ночным улицам после комендантского часа. Одним словом, бумажки с круглой печатью на все случаи жизни, поскольку бумажка с круглой печатью в этом месиве надежней всего.
И было бы глубочайшим заблуждением думать, что такого рода насилие над собой ему нравится и дается легко. Могу со всей ответственность сказать: такое насилие над собой является для него величайшей из мук, которой еще и еще раз его испытует судьба.
Ведь если бы речь заходила о вздорах и пустяках, о пошлейшей благопристойности, как он пытается аттестовать свою противовольную скрытность, тогда бы дело другое. В действительности же речь заходит о самой сути его оскорбленной души, о его совести, закаленной и развернувшейся в те блаженные времена, когда никого не ставили к стенке и он был удачливым земским врачом. Речь заходит о духовном его существе.
Ибо новая власть требует жестко, чтобы т. писатель Булгаков М. А. Искренне и добросовестно служил той невероятной галиматье, которую эта новая власть производит на ниве культуры. Добросовестно. Искренне. В противном случае стенка. Голодная смерть. Паразит, недорезанный, бывший. Малейшее подозрение в недобросовестности и в неискренности влечет за собой именно это свинцовое, противное словцо: саботаж.
И он то и дело выступает перед неграмотными красноармейцами, которых новая власть усиливает просветить на все сто в одночасье. Выступает с всевозможными вступительными словами, понимая, конечно, что эти неграмотные герои гражданской войны решительно не понимают ни слова из его вступительных слов. Мало того, выступает, обливаясь мерзким потом при мысли, что это и есть саботаж. Он сочиняет какие-то грошовые юморески и вновь обливается потом. Он ещё способен беззаботно шутить, наблюдая, как на великую «Травиату» загоняют неграмотных, а у грамотных отбирают входные билеты на том основании, что командование доблестных красных частей таким способом надоумилось бороться с неграмотностью. Вообще, как выясняется в эти прискорбные дни, он очень многое может, подавленный страхом расстрела, который противен ему и который он себе не может простить.
Однако как же он может служить добросовестно, искренне публичному уничтожению Пушкина? От самого себя отказаться никому не дано, а в Пушкине воплощена вся его духовная суть, вся его вера, весь его идеал. Тронуть Пушкина означает тронуть его самого. Правда, он и в этом случае начеку. Он собирает всю свою волю и всё же молчит, слушая этот малограмотный бред про камер-юнкерство и про штаны. Молчит и молчит. И все-таки он ещё недостаточно владеет собой. На лице его маска ещё не плотно сидит. Не по размеру пришлась. И вот результат. Когда своим агрессивным невежеством распаленный оратор, освежившись стаканом теплой воды, предлагает Пушкина выкинуть без сожаления в печку, он улыбается.
Какая неосторожность! Какой ужасающий промах! Нынче и улыбки довольно вполне, чтобы иметь вагон неприятностей, если не много больше вагона. «Улыбка не Воробей», – вынужден констатировать он. И в подтверждение этой отвратительной истины вспыхивает, как порох на полке, скоропалительный диалог:
– Выступайте оппонентом!
– Не хочется!
– У вас нет гражданского мужества!
– Вот как? Хорошо, я выступлю!