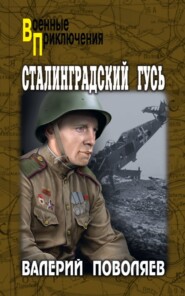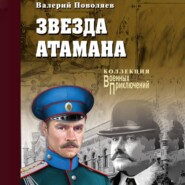По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охота на убитого соболя
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вся живность в Арктике двух тонов – серого и белого. Только тогда можно быть неприметным в стылой кипени снегов, в нагромождении льда и обмерзлых, в скользкой белёсой скорлупе камней, а сярким опереньем – как голенький на ладони, со всех сторон виден, издалека.
Он понимал, что будет тосковать по Ольге, иногда она ему будет чудиться среди многих лиц, обитающих на ледоколе, а женщин здесь много, больше, чем на других судах: и в медсанчасти, и на камбузе, и в кают-кампании, и среди обслуги – без женских рук железный ледокол превращается в угрюмую необихоженную железку.
Но любая потеря – это еще не остановка, жизнь продолжается, на то она и жизнь, чтобы в ней образовывались пустоты, от нас уходят женщины, уходят годы, уходит былой покой, на смену им мы получаем старость, которая также не является итогом, конечной точкой пути, а неким взволнованным и мудрым состоянием души, в котором будет немало светлых радостных дней, когда все бывает донельзя понятно, все счеты сведены и остается только одно – ждать, вместо одних женщин возникают другие, а покой, который сменила бессонница, возвращается с помощью целебных микстур и успокоительных таблеток, одно состояние диалектически вытесняется другим, и этой смены не надо бояться.
Улетучится тоска, пройдет печаль, вся нервная муть, обида, возникшие после расставания с Ольгой, улягутся, земные заботы свалятся с плеч, словно гнилые вериги, останутся только заботы морские – и это будут заботы одиночества, – в неделе просто станет больше воскресений. Хотя в море воскресений не бывает, воскресный день от обычного, невоскресного, отличается только тем, что в обед в кают-компании подают курицу – цыплячье крылышко либо грудку, – такое впечатление, что куры только и состоят из одних крыльев и жестких белых грудок, каждая несушка имеет по пять пар крыльев и ни одной ноги, сколько Суханов ни ел воскресную курицу, ему обязательно попадались синие пупырчатые крылья, обильно политые густым жиром, на завтрак – традиционный сыр и чай, а ужин, он уж вольный, что захочет кок на плите смастерить, то и мастерит.
В конце концов наступит момент, когда былые обиды и поражения покажутся мелкими, не заслуживающими того, чтобы по их поводу печалиться, произойдет окончательное отторжение от того, что было, и наступит облегчение. Но до этого момента надо еще дотянуть, не годится кричать «гоп», пока плетень не перепрыгнут и в самом себе не найден спасительный источник света, способный облегчить муку и помочь в одолении медленно тянущихся, будто специально созданных для пытки серых дней. Впрочем, и этих дней не надо бояться, они тоже останутся позади.
Когда прошли южное колено залива, за ним среднее, миновали заснеженный голый мыс Шавор и одолели часть северного колена, появилась чайка, на которую все обратили внимание. Чаек в этом колене было почему-то больше, чем в ковше, – нахальных, горластых, жадных. Чайки вечно волокутся за пароходами, ныряют вслед, выхватывают из пены зазевавшихся рыбешек, либо летят на уровне камбуза, который определяют безошибочно, заглядывают в иллюминатор, клянчат подачку, но никто никогда не обращает на них внимания, а на эту чайку обратили: грудь и крылья у нее были яркого брусничного цвета.
– Что за черт! – изумился лоцман, вытянул шею, привстал на цыпочки, чтобы получше рассмотреть диковинную птицу, и совсем забыл про ледокол, который вел, на висках у него проступили темные натуженные жилы, словно он поднимал что-то тяжелое. – Вот те раз!
Капитан Николай Иванович Донцов даже рот открыл, из зубов выпала трубка, полетела на пол, от удара выбило ароматный дорогой табак, и он золотым махристым сеевом распластался на ковре. Капитан на трубку даже не глянул, она сиротливым деревянным сучком валялась под ногами. Чтобы капитан не раздавил свою драгоценную трубку ботинками, Суханов нагнулся и поднял ее. Про себя удивился: надо же, если бы сейчас с небес посыпал дождь, на буях и швартовых бочках выросла бы крапива, а на земле, на частых, до основания промерзших островков, каких в Кольском чулке десятки, вымахали б апельсиновые деревья с оранжевой россыпью зрелых плодов, то Донцов рта бы не открыл, принял как должное, а тут распахнул его настежь, словно новобранец, хвативший перцу в батальонной столовой.
Из двери, ведущей в радиорубку, вымахнул Алеша Медведев, плотнотелый, с косолапой бесшумной поступью, выдававшей в нем охотника, любящего подобраться к зверю неслышно и потом уж наверняка угостить катаной свинцовой кашей, да и сама фамилия этого человека говорила о занятии его далеких славных предков, – одетый в неформенную джинсовую куртку с выпущенным наружу клетчатым воротом байковой ковбойки. Подойдя к лобовому стеклу рубки, Медведев замер и нехорошо покривился лицом. Может, жалел о том, что нет в руках ружья, не то бы хорошее чучело украсило его каюту. Пробормотал что-то невнятное.
Чайка, распластав длинные узкие крылья, шла перед судном. Она словно бы вела ледокол на невидимой привязи, легко скользила по воздуху, подхватываемая струистыми холодными потоками, иногда поток подбивал ее ладное легкое тело, подбрасывал вверх, тогда чайка кренилась, заваливала тело набок, спускалась, затем снова выравнивала свой полет. Вот уже целую минуту она шла рядом с ледоколом и ни разу не взмахнула крыльями – планировала умело, выгибала невесомую скульптурную головку, косила черным блестящим зернышком глаза на рубку. Суханову даже показалось, что он видит в этом зернышке нечто насмешливое, унижающее его, ему захотелось схватить что-нибудь тяжелое, швырнуть в чайку, но он стоял, не двигаясь, и грустно улыбался, поражаясь тому, что видел, правоте Ольги и своему оцепенелому состоянию.
В горле у него запершило, словно он принял какой-то невкусный порошок, запил его водой, но воды не хватило, и порошок, горький, сухой, прилип к глотке, вызвал нехороший зуд, жжение, Суханов поморщился: ловко выстрелила Ольга!
Эту птицу надо немедленно ловить и совать в спиртовой раствор, она же находка для ученого мира, Возможно, эта красная чайка перевернет все и вся, объяснит происхождение человека и птиц, поможет воссоздать выпавшие звенья цепи, которые вот уж столько лет пытаются отыскать, но увы, – пока эта задача из тех, что не решаются, зубы превращаются в крошево, стираются под корешок, а задача как была твердым орешком, который невозможно раскусить, так твердым орешком и осталась. Хотя чего общего может быть между чайкой и человеком? Человек далек от птицы, как канадский город Торонто от липецкой Добринки, а антоновское зимнее яблоко, произрастающее в средней полосе России, от диковинного аравийского фрукта хермеш, смахивающего на молодую кедровую шишку, но ничего общего с ней не имеющего. Человек начинается далеко за теми пределами, где кончатся животное – будь то зверь, птица или обезьяна; между животным и венцом природы – громадный черный пустырь, который никто не знает, как одолеть. Если бы знали, то многое можно было бы изменить, подправить, подретушировать, создать некое подобие человека, но совершенно иной, быть может, более добродушной ипостаси.
Возможно, явлением этого алого дива природа приоткрывает завесу над одной из самых туманных своих тайн. Всегда была, есть и будет природа загадочна: если что-то в ней умирает, то на смену приходит новое, и это новое бывает не менее интересно, чем умершее.
В рубке установилась глубокая проволглая тишина, каждому, кто смотрел на красную чайку, сделалось холодно, неуютно, что-то клейкое, чужое, здорово мешающее, схожее с паутиной, налипло на щеки, лица сделались далекими, лишенными обычной суеты и озабоченности, каждый ощущал свою принадлежность к природе и одновременно отторженность от нее. Суханов чувствовал, что у него такое же лицо, как у Донцова, как у лоцмана, как и у всех остальных. Лицо будто бы стянуло прочными нитями, как иногда стягивает кожу зарубцевавшаяся рана, рот твердо сжат, словно Суханов выслушивает неприятную новость, глаза сухи и ничего не выражают – ни боли, ни удивления, ни разочарования, будто Суханов не плоть во плоти, а состряпан из какого-то лишенного нервных клеток теста, либо вырезан из дерева.
Он сам себе напоминал знаменитого японского болванчика-пуговицу нецкэ с плотно захлопнутым ртом, сжатыми глазами и заткнутыми ушами: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Но он не был японской пуговицей нецкэ. В нем все стонало, дергалось от немощи и удивления, руки остыли, перестали что-либо ощущать – он впивался ногтями в ладони и не чувствовал их. Откуда взялась красная чайка, что она означает? И что она вообще: явь, реальность или давно исчезнувшая тень?
Чайка еще немного подержалась в воздухе, паря впереди ледокола, потом, подбитая сильным встречным потоком, споткнулась обо что-то невидимое, сломалась и, резко отвернув в сторону, исчезла. Исчезла так же мгновенно и неожиданно, как и возникла.
Очнувшись, Донцов поскреб пальцами подбородок, вытер мундштук трубки о носовой платок:
– Моряки, что это было, не знаете?
Никто не ответил капитану.
Ночью, в ноль-ноль часов, Суханов снова заступил на вахту. Первым делом узнал, какой процент готовности в машине. Процент готовности – понятие, которое введено, пожалуй, только на атомных судах. Суханову ответили:
– Готовность сорок процентов.
Это означало, что реактор работал на сорока процентах мощности. Судно шло со скоростью восемнадцать узлов.
Льда в Баренцевом море было мало, да и тот – слабый, ноздреватый, плохо склеенный. Лед вяло разваливался перед носом судна на рыхлую мясистую массу, с шорохом расползался в разные стороны. Слепящие прожекторные снопы выхватывали беспокойную темную воду, огрызки льдин с чьей-то вмерзшей топаниной – глубокими следами, то ли медвежьими, то ли еще чьими, – не понять, спекшиеся рыхлые блины, припорошенные снегом. Это выглядело несколько странно: на льдинах с топаниной снега не было, а на блинах был.
С камбуза прибежал какой-то шустрый паренек – видать, из новых, только что принятых, – принес чай на небольшом подносе, накрытом белой, негнущейся от крахмала салфеткой, поставил перед Сухановым. Тот кивком поблагодарил.
– Александр Александрович, можно мне немного побыть на мостике? – попросил разрешения паренек.
Суханов взглянул на него. Чем-то паренек напоминал того пухлогубого жениха, который устроил в «Театральном» смотрины, и эта схожесть кольнула Суханова, снова заставила думать об Ольге.
– Побудь, если нравится, – наконец разрешил Суханов.
– Нравится, – паренек встал рядом с Сухановым, вцепился руками в деревянный приклад, проложенный по всей рубке. – Скажите, Александр Александрович, а рыба здесь водится?
– Сайка, – однозначно ответил Суханов.
– Может, сайда? – не понял паренек и развел руки в стороны, показывая, каких размеров способна достичь эта северная рыба тресочьего происхождения.
– Сайка. Рыба без тела. Большая голова и большой хвост, – пояснил Суханов, – середины нету.
Когда ледокол находится в дрейфе и вмерзает в лед, то сзади, около кормы, у него обязательно образуется промоина – туда сливается отработанная теплая вода, промоина курится, пысит мокрым паром, пар этот замерзает, превращается в звонкую ледяную капель, со стеклянным щелком опускается в воду, в промоине что-то ворочается, бурлит, и невольно чудится, что из темной глубокой воды сейчас вымахнет чудище с ороговелой спиной, острозубой пастью и мечтательными фиолетовыми глазами, на нижней палубе всегда толпятся матросы, заглядывают в курящуюся промоину и пробуют свое рыбацкое счастье – насаживают на крючок кусок мяса либо хлебную горбушку, приправленную для «духа» подсолнечным маслом, плюют на наживку – традиционная шутка, не поплюешь, добычи не будет, рыбешка сдобренную наживу брать любит – и швыряют в дымную промоину: ловись рыбка большая и маленькая!
Иногда рыбка ловится, но чаще всего нет. Если ловится, то только сайка – головастая, дурная, с выпученными, подернутыми нездоровой желтизной глазами, такая тощая, что ребра у нее, как у подгнившей селедки, ощущаются даже сквозь чешую.
Изогнувшись кольцом, сайка немедленно приклеивалась мокрым хвостом к голове – словно бы на пяльцы насаживалась, и такая гнутая, как бублик, мгновенно одеревеневшая от мороза, поступала на камбуз. Там кок брал ее в руки, вертел оценивающе, подкидывал, пробуя на вес, и бросал в лохань с объедками. Намерзшимся же рыбакам готовил что-нибудь из мерлузы или простипомы, подавал на стол прямо в сковороде, те, обжигаясь, придыхая, ели, смачно обсасывали каждую косточку и хвалили самих себя: все-таки ловкие они добытчики, не последние, так сказать, на этом ледоколе!
Над «удачливыми» рыбаками потихоньку посмеивались.
Низко в небе, прямо по курсу, страшновато, мертвенно, одиноко высветлилось небо, изгибистая мутная полоса северного сияния проползла вперед, разрубая облака, шевелясь и кидая на воду зеленоватые отблески. К горлу подступило что-то нехорошее, шею под челюстями сдавило: ощущение такое, словно сверху кто-то наблюдает за судном, старается предугадать действия, того гляди, протянет хваткое сильное щупальце, попытается остановить, либо сделает что-то худое, причинит боль.
Человека почти всегда охватывает страх и восторг одновременно, когда он видит сполохи в небе, цветные жутковатые ленты северного сияния – от загадочного небесного свечения перехватывает дыхание, сердце останавливается, совсем его не слышно, все пропадает, даже судно проваливается под воду – ничего кругом нет, кроме человека и длинной светящейся бескостной рыбины, плывущей по-над облаками. Вот у рыбины светлеет, вспыхивает яркими брызгами пузо, наливаются яростным зеленым огнем глаза, видно, как работают ее хищные челюсти – наткнулась рыбина на что-то вкусное, приостановила свой лет, сжевала и снова, изгибаясь по-змеиному, вихляя хвостом, двинулась дальше, потом неожиданно скакнула вбок и назад, хапнула еще что-то, взорвалась брызгами, резво заскользила дальше, обогнала пароход, втянула свое гибкое угриное тело в темные непроницаемые облака, стихла. Едва исчезла небесная рыбина, как в прорехах между облаками засветились звездочки.
– Какая жуть! – зачарованно проговорил паренек-поваренок. – Как у Высоцкого: страшно, аж жуть. Так всегда бывает?
– Зимой каждый день. Ты иди, а то кок, наверное, уже все гляделки проглядел – сковородки, небось, некому мыть?
– Все сковородки давным-давно вымыты.
– Как тебя зовут?
– Романюк. Михаил Егорович Романюк.
– Давай, Михаил Егорович, дуй на свое рабочее место! А то генеральный директор камбуза пожалуется на меня капитану.
– Не должен. Он добрый. Можно мне сюда иногда приходить, а? В вашу вахту…
– Можно, – разрешил Суханов, в следующий миг услышал, как Романюк уже топает ботинками по крутой, с обмедненными ступеньками лесенке.
Суханов подумал, что надо обязательно сочинить письмо и послать Ольге. Каким оно будет, это письмо? Поежился и вздохнул: надо ли солью посыпать порезы?
«Прости меня, Ольга, за слюни, за телячью размягченность. Ты права – мужчине надо быть мужчиной. Примитивная истина, известная каждому школьнику. Не надо нюнить, не надо лить слезы, – в женскую жилетку тем более. Надо всегда бренчать в кармане деньгами, пахнуть водкой и табаком, иметь наготове разящую шутку и не киснуть, если даже тебя превратят в тесто и потребуют, чтобы вспух в квашне, не кашлять, аккуратно бриться и посещать сухопарку. Сухопаркой у нас на ледоколе зовут финскую баню. Работает баня семь дней в неделю, два дня для женщин, пять – для мужчин.
Я пишу не для того, чтобы покаяться, нет. Это уже в прошлом, а в прошлое, говорят, нельзя возвращаться, чтобы не получить удар в поддых. Ох, как это больно бывает, когда бьют под ложечку, с оттяжкой – будто колуном. Разваливают пополам. Дыхание рвется, вместо сердца одна только боль, в глазах – кровавые сполохи. Был человек как человек, две ноги, две руки, голова, сердце – все, что положено, имел, и вдруг все это исчезло, осталась одна боль. Куда деваться от этой боли – никому не ведомо. А такому простому смертному, как я, тем более.
А ты, душенька, во всех нарядах хороша. Твой отказ я пережил, хотя на следующий день чай был почему-то горьким, хлеб словно бы брал из чужих рук, а узенькие ступени, ведущие в ходовую рубку, скрипели, как рассохшиеся деревяшки, и были скользкими. Словно на чужое крыльцо всходил. Но как бы ни было печально, как ни допекала боль – все лечит время.
Теперь о красной чайке. Не верил я, что чайки могут быть алыми, ровно бы свежей кровью выкрашенные, и не поверил бы никогда, если б сам не увидел. Ты права – красные чайки есть, птицы имеют такой же опознавательный арктический цвет, как самолеты полярной авиации.
Он понимал, что будет тосковать по Ольге, иногда она ему будет чудиться среди многих лиц, обитающих на ледоколе, а женщин здесь много, больше, чем на других судах: и в медсанчасти, и на камбузе, и в кают-кампании, и среди обслуги – без женских рук железный ледокол превращается в угрюмую необихоженную железку.
Но любая потеря – это еще не остановка, жизнь продолжается, на то она и жизнь, чтобы в ней образовывались пустоты, от нас уходят женщины, уходят годы, уходит былой покой, на смену им мы получаем старость, которая также не является итогом, конечной точкой пути, а неким взволнованным и мудрым состоянием души, в котором будет немало светлых радостных дней, когда все бывает донельзя понятно, все счеты сведены и остается только одно – ждать, вместо одних женщин возникают другие, а покой, который сменила бессонница, возвращается с помощью целебных микстур и успокоительных таблеток, одно состояние диалектически вытесняется другим, и этой смены не надо бояться.
Улетучится тоска, пройдет печаль, вся нервная муть, обида, возникшие после расставания с Ольгой, улягутся, земные заботы свалятся с плеч, словно гнилые вериги, останутся только заботы морские – и это будут заботы одиночества, – в неделе просто станет больше воскресений. Хотя в море воскресений не бывает, воскресный день от обычного, невоскресного, отличается только тем, что в обед в кают-компании подают курицу – цыплячье крылышко либо грудку, – такое впечатление, что куры только и состоят из одних крыльев и жестких белых грудок, каждая несушка имеет по пять пар крыльев и ни одной ноги, сколько Суханов ни ел воскресную курицу, ему обязательно попадались синие пупырчатые крылья, обильно политые густым жиром, на завтрак – традиционный сыр и чай, а ужин, он уж вольный, что захочет кок на плите смастерить, то и мастерит.
В конце концов наступит момент, когда былые обиды и поражения покажутся мелкими, не заслуживающими того, чтобы по их поводу печалиться, произойдет окончательное отторжение от того, что было, и наступит облегчение. Но до этого момента надо еще дотянуть, не годится кричать «гоп», пока плетень не перепрыгнут и в самом себе не найден спасительный источник света, способный облегчить муку и помочь в одолении медленно тянущихся, будто специально созданных для пытки серых дней. Впрочем, и этих дней не надо бояться, они тоже останутся позади.
Когда прошли южное колено залива, за ним среднее, миновали заснеженный голый мыс Шавор и одолели часть северного колена, появилась чайка, на которую все обратили внимание. Чаек в этом колене было почему-то больше, чем в ковше, – нахальных, горластых, жадных. Чайки вечно волокутся за пароходами, ныряют вслед, выхватывают из пены зазевавшихся рыбешек, либо летят на уровне камбуза, который определяют безошибочно, заглядывают в иллюминатор, клянчат подачку, но никто никогда не обращает на них внимания, а на эту чайку обратили: грудь и крылья у нее были яркого брусничного цвета.
– Что за черт! – изумился лоцман, вытянул шею, привстал на цыпочки, чтобы получше рассмотреть диковинную птицу, и совсем забыл про ледокол, который вел, на висках у него проступили темные натуженные жилы, словно он поднимал что-то тяжелое. – Вот те раз!
Капитан Николай Иванович Донцов даже рот открыл, из зубов выпала трубка, полетела на пол, от удара выбило ароматный дорогой табак, и он золотым махристым сеевом распластался на ковре. Капитан на трубку даже не глянул, она сиротливым деревянным сучком валялась под ногами. Чтобы капитан не раздавил свою драгоценную трубку ботинками, Суханов нагнулся и поднял ее. Про себя удивился: надо же, если бы сейчас с небес посыпал дождь, на буях и швартовых бочках выросла бы крапива, а на земле, на частых, до основания промерзших островков, каких в Кольском чулке десятки, вымахали б апельсиновые деревья с оранжевой россыпью зрелых плодов, то Донцов рта бы не открыл, принял как должное, а тут распахнул его настежь, словно новобранец, хвативший перцу в батальонной столовой.
Из двери, ведущей в радиорубку, вымахнул Алеша Медведев, плотнотелый, с косолапой бесшумной поступью, выдававшей в нем охотника, любящего подобраться к зверю неслышно и потом уж наверняка угостить катаной свинцовой кашей, да и сама фамилия этого человека говорила о занятии его далеких славных предков, – одетый в неформенную джинсовую куртку с выпущенным наружу клетчатым воротом байковой ковбойки. Подойдя к лобовому стеклу рубки, Медведев замер и нехорошо покривился лицом. Может, жалел о том, что нет в руках ружья, не то бы хорошее чучело украсило его каюту. Пробормотал что-то невнятное.
Чайка, распластав длинные узкие крылья, шла перед судном. Она словно бы вела ледокол на невидимой привязи, легко скользила по воздуху, подхватываемая струистыми холодными потоками, иногда поток подбивал ее ладное легкое тело, подбрасывал вверх, тогда чайка кренилась, заваливала тело набок, спускалась, затем снова выравнивала свой полет. Вот уже целую минуту она шла рядом с ледоколом и ни разу не взмахнула крыльями – планировала умело, выгибала невесомую скульптурную головку, косила черным блестящим зернышком глаза на рубку. Суханову даже показалось, что он видит в этом зернышке нечто насмешливое, унижающее его, ему захотелось схватить что-нибудь тяжелое, швырнуть в чайку, но он стоял, не двигаясь, и грустно улыбался, поражаясь тому, что видел, правоте Ольги и своему оцепенелому состоянию.
В горле у него запершило, словно он принял какой-то невкусный порошок, запил его водой, но воды не хватило, и порошок, горький, сухой, прилип к глотке, вызвал нехороший зуд, жжение, Суханов поморщился: ловко выстрелила Ольга!
Эту птицу надо немедленно ловить и совать в спиртовой раствор, она же находка для ученого мира, Возможно, эта красная чайка перевернет все и вся, объяснит происхождение человека и птиц, поможет воссоздать выпавшие звенья цепи, которые вот уж столько лет пытаются отыскать, но увы, – пока эта задача из тех, что не решаются, зубы превращаются в крошево, стираются под корешок, а задача как была твердым орешком, который невозможно раскусить, так твердым орешком и осталась. Хотя чего общего может быть между чайкой и человеком? Человек далек от птицы, как канадский город Торонто от липецкой Добринки, а антоновское зимнее яблоко, произрастающее в средней полосе России, от диковинного аравийского фрукта хермеш, смахивающего на молодую кедровую шишку, но ничего общего с ней не имеющего. Человек начинается далеко за теми пределами, где кончатся животное – будь то зверь, птица или обезьяна; между животным и венцом природы – громадный черный пустырь, который никто не знает, как одолеть. Если бы знали, то многое можно было бы изменить, подправить, подретушировать, создать некое подобие человека, но совершенно иной, быть может, более добродушной ипостаси.
Возможно, явлением этого алого дива природа приоткрывает завесу над одной из самых туманных своих тайн. Всегда была, есть и будет природа загадочна: если что-то в ней умирает, то на смену приходит новое, и это новое бывает не менее интересно, чем умершее.
В рубке установилась глубокая проволглая тишина, каждому, кто смотрел на красную чайку, сделалось холодно, неуютно, что-то клейкое, чужое, здорово мешающее, схожее с паутиной, налипло на щеки, лица сделались далекими, лишенными обычной суеты и озабоченности, каждый ощущал свою принадлежность к природе и одновременно отторженность от нее. Суханов чувствовал, что у него такое же лицо, как у Донцова, как у лоцмана, как и у всех остальных. Лицо будто бы стянуло прочными нитями, как иногда стягивает кожу зарубцевавшаяся рана, рот твердо сжат, словно Суханов выслушивает неприятную новость, глаза сухи и ничего не выражают – ни боли, ни удивления, ни разочарования, будто Суханов не плоть во плоти, а состряпан из какого-то лишенного нервных клеток теста, либо вырезан из дерева.
Он сам себе напоминал знаменитого японского болванчика-пуговицу нецкэ с плотно захлопнутым ртом, сжатыми глазами и заткнутыми ушами: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу». Но он не был японской пуговицей нецкэ. В нем все стонало, дергалось от немощи и удивления, руки остыли, перестали что-либо ощущать – он впивался ногтями в ладони и не чувствовал их. Откуда взялась красная чайка, что она означает? И что она вообще: явь, реальность или давно исчезнувшая тень?
Чайка еще немного подержалась в воздухе, паря впереди ледокола, потом, подбитая сильным встречным потоком, споткнулась обо что-то невидимое, сломалась и, резко отвернув в сторону, исчезла. Исчезла так же мгновенно и неожиданно, как и возникла.
Очнувшись, Донцов поскреб пальцами подбородок, вытер мундштук трубки о носовой платок:
– Моряки, что это было, не знаете?
Никто не ответил капитану.
Ночью, в ноль-ноль часов, Суханов снова заступил на вахту. Первым делом узнал, какой процент готовности в машине. Процент готовности – понятие, которое введено, пожалуй, только на атомных судах. Суханову ответили:
– Готовность сорок процентов.
Это означало, что реактор работал на сорока процентах мощности. Судно шло со скоростью восемнадцать узлов.
Льда в Баренцевом море было мало, да и тот – слабый, ноздреватый, плохо склеенный. Лед вяло разваливался перед носом судна на рыхлую мясистую массу, с шорохом расползался в разные стороны. Слепящие прожекторные снопы выхватывали беспокойную темную воду, огрызки льдин с чьей-то вмерзшей топаниной – глубокими следами, то ли медвежьими, то ли еще чьими, – не понять, спекшиеся рыхлые блины, припорошенные снегом. Это выглядело несколько странно: на льдинах с топаниной снега не было, а на блинах был.
С камбуза прибежал какой-то шустрый паренек – видать, из новых, только что принятых, – принес чай на небольшом подносе, накрытом белой, негнущейся от крахмала салфеткой, поставил перед Сухановым. Тот кивком поблагодарил.
– Александр Александрович, можно мне немного побыть на мостике? – попросил разрешения паренек.
Суханов взглянул на него. Чем-то паренек напоминал того пухлогубого жениха, который устроил в «Театральном» смотрины, и эта схожесть кольнула Суханова, снова заставила думать об Ольге.
– Побудь, если нравится, – наконец разрешил Суханов.
– Нравится, – паренек встал рядом с Сухановым, вцепился руками в деревянный приклад, проложенный по всей рубке. – Скажите, Александр Александрович, а рыба здесь водится?
– Сайка, – однозначно ответил Суханов.
– Может, сайда? – не понял паренек и развел руки в стороны, показывая, каких размеров способна достичь эта северная рыба тресочьего происхождения.
– Сайка. Рыба без тела. Большая голова и большой хвост, – пояснил Суханов, – середины нету.
Когда ледокол находится в дрейфе и вмерзает в лед, то сзади, около кормы, у него обязательно образуется промоина – туда сливается отработанная теплая вода, промоина курится, пысит мокрым паром, пар этот замерзает, превращается в звонкую ледяную капель, со стеклянным щелком опускается в воду, в промоине что-то ворочается, бурлит, и невольно чудится, что из темной глубокой воды сейчас вымахнет чудище с ороговелой спиной, острозубой пастью и мечтательными фиолетовыми глазами, на нижней палубе всегда толпятся матросы, заглядывают в курящуюся промоину и пробуют свое рыбацкое счастье – насаживают на крючок кусок мяса либо хлебную горбушку, приправленную для «духа» подсолнечным маслом, плюют на наживку – традиционная шутка, не поплюешь, добычи не будет, рыбешка сдобренную наживу брать любит – и швыряют в дымную промоину: ловись рыбка большая и маленькая!
Иногда рыбка ловится, но чаще всего нет. Если ловится, то только сайка – головастая, дурная, с выпученными, подернутыми нездоровой желтизной глазами, такая тощая, что ребра у нее, как у подгнившей селедки, ощущаются даже сквозь чешую.
Изогнувшись кольцом, сайка немедленно приклеивалась мокрым хвостом к голове – словно бы на пяльцы насаживалась, и такая гнутая, как бублик, мгновенно одеревеневшая от мороза, поступала на камбуз. Там кок брал ее в руки, вертел оценивающе, подкидывал, пробуя на вес, и бросал в лохань с объедками. Намерзшимся же рыбакам готовил что-нибудь из мерлузы или простипомы, подавал на стол прямо в сковороде, те, обжигаясь, придыхая, ели, смачно обсасывали каждую косточку и хвалили самих себя: все-таки ловкие они добытчики, не последние, так сказать, на этом ледоколе!
Над «удачливыми» рыбаками потихоньку посмеивались.
Низко в небе, прямо по курсу, страшновато, мертвенно, одиноко высветлилось небо, изгибистая мутная полоса северного сияния проползла вперед, разрубая облака, шевелясь и кидая на воду зеленоватые отблески. К горлу подступило что-то нехорошее, шею под челюстями сдавило: ощущение такое, словно сверху кто-то наблюдает за судном, старается предугадать действия, того гляди, протянет хваткое сильное щупальце, попытается остановить, либо сделает что-то худое, причинит боль.
Человека почти всегда охватывает страх и восторг одновременно, когда он видит сполохи в небе, цветные жутковатые ленты северного сияния – от загадочного небесного свечения перехватывает дыхание, сердце останавливается, совсем его не слышно, все пропадает, даже судно проваливается под воду – ничего кругом нет, кроме человека и длинной светящейся бескостной рыбины, плывущей по-над облаками. Вот у рыбины светлеет, вспыхивает яркими брызгами пузо, наливаются яростным зеленым огнем глаза, видно, как работают ее хищные челюсти – наткнулась рыбина на что-то вкусное, приостановила свой лет, сжевала и снова, изгибаясь по-змеиному, вихляя хвостом, двинулась дальше, потом неожиданно скакнула вбок и назад, хапнула еще что-то, взорвалась брызгами, резво заскользила дальше, обогнала пароход, втянула свое гибкое угриное тело в темные непроницаемые облака, стихла. Едва исчезла небесная рыбина, как в прорехах между облаками засветились звездочки.
– Какая жуть! – зачарованно проговорил паренек-поваренок. – Как у Высоцкого: страшно, аж жуть. Так всегда бывает?
– Зимой каждый день. Ты иди, а то кок, наверное, уже все гляделки проглядел – сковородки, небось, некому мыть?
– Все сковородки давным-давно вымыты.
– Как тебя зовут?
– Романюк. Михаил Егорович Романюк.
– Давай, Михаил Егорович, дуй на свое рабочее место! А то генеральный директор камбуза пожалуется на меня капитану.
– Не должен. Он добрый. Можно мне сюда иногда приходить, а? В вашу вахту…
– Можно, – разрешил Суханов, в следующий миг услышал, как Романюк уже топает ботинками по крутой, с обмедненными ступеньками лесенке.
Суханов подумал, что надо обязательно сочинить письмо и послать Ольге. Каким оно будет, это письмо? Поежился и вздохнул: надо ли солью посыпать порезы?
«Прости меня, Ольга, за слюни, за телячью размягченность. Ты права – мужчине надо быть мужчиной. Примитивная истина, известная каждому школьнику. Не надо нюнить, не надо лить слезы, – в женскую жилетку тем более. Надо всегда бренчать в кармане деньгами, пахнуть водкой и табаком, иметь наготове разящую шутку и не киснуть, если даже тебя превратят в тесто и потребуют, чтобы вспух в квашне, не кашлять, аккуратно бриться и посещать сухопарку. Сухопаркой у нас на ледоколе зовут финскую баню. Работает баня семь дней в неделю, два дня для женщин, пять – для мужчин.
Я пишу не для того, чтобы покаяться, нет. Это уже в прошлом, а в прошлое, говорят, нельзя возвращаться, чтобы не получить удар в поддых. Ох, как это больно бывает, когда бьют под ложечку, с оттяжкой – будто колуном. Разваливают пополам. Дыхание рвется, вместо сердца одна только боль, в глазах – кровавые сполохи. Был человек как человек, две ноги, две руки, голова, сердце – все, что положено, имел, и вдруг все это исчезло, осталась одна боль. Куда деваться от этой боли – никому не ведомо. А такому простому смертному, как я, тем более.
А ты, душенька, во всех нарядах хороша. Твой отказ я пережил, хотя на следующий день чай был почему-то горьким, хлеб словно бы брал из чужих рук, а узенькие ступени, ведущие в ходовую рубку, скрипели, как рассохшиеся деревяшки, и были скользкими. Словно на чужое крыльцо всходил. Но как бы ни было печально, как ни допекала боль – все лечит время.
Теперь о красной чайке. Не верил я, что чайки могут быть алыми, ровно бы свежей кровью выкрашенные, и не поверил бы никогда, если б сам не увидел. Ты права – красные чайки есть, птицы имеют такой же опознавательный арктический цвет, как самолеты полярной авиации.