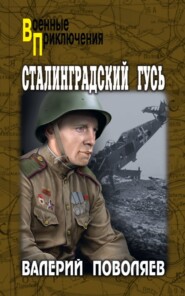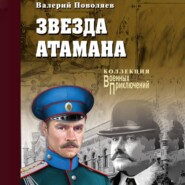По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охота на убитого соболя
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бич ойкнул задавленно, в себя, отплюнулся, целя попасть Суханову на ботинки, но промахнулся, да и не до того уже было: ноги его стремительно оторвались от пола, словно бич был не бичом, а невесомой мухой, любительницей перемещаться в пространстве, заперебирал лапами, стремясь найти что-нибудь твердое, надежное, но опоры не было, и он испуганно обмяк в крепких руках. В следующую минуту он, наверное, обмокрился бы, но не успел – набирая скорость, вынесся в приоткрытую дверь, разваливая неряшливые сырые взболтки, что как шары перекати-поля, подпрыгивая и жестяно громыхая на ходу, подкатывались со всех сторон к кафе, и чуть не сбил полоротого подростка-петеушника, получившего первый раз в жизни деньги и оттого обалдевшего, переставшего ощущать себя, видеть улицу и людей. Через несколько секунд до Суханова донеслось грузное сухое шварканье – бич въехал в сугроб.
«С благополучным приземлением! – мысленно поздравил Суханов. – Там тебе будет тепло и мягко». Ольга зааплодировала, но глаза ее были грустными – она не одобряла такого молодечества, в уголках ее губ появились скорбные глубокие точечки, похожие на уколы спицы, глаза потемнели, приобрели глубину.
– Не слишком ли жестоко? – спросила она у Суханова. – Ты раньше не был таким.
– То раньше, – спокойным тихим голосом произнес он. Ему было что-то не по себе. От того, что сегодня ему попался на глаза бич, что он расправился с ним, обидел, вогнал задом в сугроб, от того, что Ольга отказала ему, от выпитого, хотя он не пил, от крутобокой, дышащей любовью девицы, жаждущей познакомить его с гуманоидами, от сегодняшнего мороза, от завтрашнего выхода в море – от всего того, что произошло, и даже от того, что еще только должно было произойти.
Бич был в порядке и, похоже, трезв, хмель из него вышиб полет в сугроб. Он возился в снегу, кряхтел, бормотал что-то себе под нос.
– Ой, спасибо вам, большое спасибо, – ожила, запричитала гардеробщица, продолжая прижимать костлявые детские кулачки к щекам, из глаз ее полился дождь – слезки были мелкими, частыми, жгучими, лицо от плача исказилось, сморщилось, – спасибо вам большое, дяденька!
Суханов покосился на эту полушкольницу-полупенсионерку, пытаясь определить, сколько же ей лет, – что-то в гардеробщице было и старушечье, и девчоночье одновременно, она была робка и стеснительна, какими приезжают в города жители глухих комариных деревень, и вместе с тем была, что называется, себе на уме, – хмыкнул: ну уж и дяденька. В двери появилась Неля, быстро оценила ситуацию:
– Правильно поступили, Александр Александрович! Это вам в конце жизни при подбитии итогов зачтется, как доброе дело.
– Попросите, Неля, небесную канцелярию, чтобы не забыли занести в кондуит.
– Счастливого плавания, Александр Александрович! И столько футов под килем, сколько хотите.
Суханов поправил ллойдовскую фуражку на голове.
– Знаете, что такое фут, Неля?
– Сколько-то там сантиметров, не помню… А что?
– Фут – это расстояние от кончика носа до конца указательного пальца английского короля Генриха Девятого – большого оригинала и любителя пива.
– Интересно, интересно. Это из области морских баек, да?
– Нет, это из моих собственных сведений. А по энциклопедии фут – это длина человеческой стопы.
– Александр Александрович, говорят, что человек, солгавший один раз в жизни, обязательно солжет и в другой. Кто это сказал, не помните?
– За кого вы меня принимаете, Неля? Посмотрите на мое честное открытое лицо. – Суханов грустно усмехнулся, поглядел на Ольгу, та взяла Суханова под руку – защитное движение человека, который стремится сберечь другого человека, а в себе – непотревоженную тишь. Хотя часто эта тишь оказывается мнимой, придуманной – и не происходит ли подобное сейчас с Ольгой? Впрочем, может, и происходит, – Суханов сглотнул что-то горькое, резиновое, скопившееся во рту, зябко передернул плечами, подумал о том, что он может, в конце концов, поменяться местами с бичом, что сейчас пыжится, кряхтит, выкачивает себя из сугроба. У бича никаких забот, кроме как пожрать и выпить, и эта скудность желаний вызывает какую-то ущербную зависть: а почему бы, в конце концов, не сбросить с себя все заботы, не ограничиться минимумом?
Он отрицательно качнул головой: нет. Ольга еще теснее прижалась к Суханову, и это движение вызвало в нем приступ острой секущей тоски, он, сощурив глаза, шагнул к выходу, за дверью остановился, поднял голову, посмотрел вверх, в перистое, исчерканное белесым пухом невысокое небо, будто надеялся там найти что-то очень близкое, родное, принадлежащее только ему одному. Но что близкого и родного может найти в холодном далеком мареве непонятного переливчатого тона человек? Земным подавай земное – и нет им дела до разных небесных страстей. Он получил сейчас щелчок по носу, и нет бы ему улыбнуться, отойти в сторону, уступить место другому. А он? Что за пошлые думы роятся в голове? Это ведь все злое, чуждое, никак не присущее ему! И все-таки зачем он цепляется, будто утопающий, за обрывок бумажной бечевки, в которой крепости меньше, чем в пресловутой соломинке, тянет голову вверх, хватает ртом воздух, дышит и никак не может надышаться. Душно ему. Что-то хваткое, жесткое стискивает грудь, чужая рука пытается нащупать сердце и причиняет беспокойство.
Далекий, но очень отчетливый и остро ощущающийся страх возникает в нем, движется, подчиняя себе не только мозг, а и тело, мускулы – всего Суханова. И некуда от этого страха скрыться. Что происходит с ним, что?
Говорят, что если сощуриться посильнее, то в дневном небе можно различить звездочки, крохотные, блеклые, выстуженные долгой лютой зимой. Впрочем, что зима! Суханов относится к ней вон как: носит фуражку-ллойдовку и легкие, с тоненькой подошвой, сквозь которую чувствуется снег, туфли-мокасины. Все это пижонство, красивое лихачество, грозящее простудой. Либо, в крайнем случае, замелькает в глазах какое-нибудь верткое черное пшено, и все. И никаких тебе романтичных выстуженных звезд – мелких грустных осколков чьей-то разбитой радости.
Бич тем временем выкачался из сугроба, выплюнул изо рта мерзлое жеваное крошево, высморкался громко, лихо, потом сунул руку за пазуху, достал оттуда старую мятую кроличью шапку с мягкими вытертыми ушами и нахлобучил себе на голову. Суханов нащупал в кармане десятку, кинул ее бичу.
– Плата за мелкое неудобство, – сказал он тихо, только для одного бича, эту фразу даже Ольга не услышала. – Встань со снега, дурак! Простудишься! – поморщился недобро, встряхнул плечами, будто бы сам, а не бич, сидел на снегу.
Подумал о том, что совершил ошибку, пытаясь искать самого себя в женщине, в посторонних предметах, в отношении к этому бичу, в сравнении с ним: а как бы он поступил, находясь на его месте? Надо бы искать себя в самом себе и не виниться в том, что руки кривые, ботинки на ногах очень тесные, а на кухне перегорел утюг. Как не винить соседа, капитана парохода, директора универмага, жэковского электрика. Во всем худом, что происходит с человеком, виноват сам человек.
– Вот и шапка нашлась! – весело проговорила Ольга, глядя на бича.
Что шапка? Ох, если бы наши находки были равными нашим потерям. И не стоит ставить себя на место школяра, которому дозволено все, – он может и приударить за своей одноклассницей, и влюбиться в учительницу, и признаться в нежности к пионервожатой – для него все сойдет, все простительно. А для Суханова? Каждому свое: одним – сухое жаркое лето, розовые зори и тихая благостность вечеров, другим – мозготная холодная осень, дожди, пузырящиеся лужи, ревматическая ломота в ногах. Никакое ожидание чуда не спасает. У школяра ведь как? У него все обычно – как, собственно, у всякого обычного человека: кончается детство – начинается любовь, кончается любовь – начинается привязанность, кончается привязанность – что начинается? Скорее всего, неверность. Счастлив тот, кто ничего не знает о неверности близкого человека. Впрочем, какое уж это счастье – быть слепым?
Что-то затянулся у него нынешний день.
– Помни о красной чайке! – сказала Ольга.
– Помню. Моя игра – беспроигрышная. – Суханов хлопнул ладонью о ладонь, удар был громким, будто выстрел из дуэльного пистолета, из которого Суханов пробовал как-то пальнуть по пролетающей вороне. Пистолет, купленный им за триста рублей в комиссионке, стрелял исправно, но ствол у него был кривым, смотрел в сторону, мушка скособочена, и стрелять из него, наверное, лучше всего было рублеными гвоздями, но никак не прокатанными вручную свинцовыми пулями. Хотя, что гвозди, что пули, результат все равно один – мимо. – Красных чаек нет. Ни один мореход, плавающий в Арктике, не видел их. Нет таких чаек. – Голос у Суханова был тихим и, как показалось Ольге, рассеянным, она напряглась, чтобы услышать конец фразы, но конца фразы не последовало – Суханов замолчал.
Суханов был не в своей тарелке, и в этом была виновата она, на какое-то мгновение ей сделалось жаль его, но она изгнала из себя это чувство, будто рукой прихлопнула, – и Ольга и Суханов одинаково плохо относились к жалости. Ей понятно было состояние Суханова, так же как понятно и другое – никакая помощь ему сейчас не нужна, никакая и ничья, кто бы ее ни предлагал. В том числе и помощь Ольги.
– Любой твой проигрыш, Ольга, – это выигрыш, – проговорил Суханов, не обращаясь к Ольге, от этого у нее в груди сделалось тесно и холодно, словно бы в легких застрял морозный плотный воздух. Ольга качнула головой несогласно и начала думать о Вадиме.
Думала о Вадиме, а рядом с нею шагал Суханов.
Отходили в пятнадцать ноль-ноль. Без четверти три на борт атомохода поднялся лоцман Казаков, крутоскулый, с висячими, остриженными на монгольский лад обесцвеченно-рыжеватыми усами, легкий в движениях. Казаков появился на капитанском мостике, и через минуту заскрипели-заскрежетали якорные цепи, судно тряхнуло, со всех сторон зацокали каблучки: жены торопливо прощались с мужьями, ссыпались на парадный трап, прозвучала команда «Боцмана на бак!» Эта команда означала, что судно собирается отходить.
По соседству с атомоходом стоял «Капитан Сорокин» – дизельный ледокол, имеющий самую высокую надстройку в Арктике, этакий небоскреб, поставленный на плавучую платформу. Некоторые шутники этот небоскреб звали недоскребом, но сорокинцы на выпады не обращали внимания. Они говорили, что могут плюнуть в трубу любому пароходу – и верно, черт возьми: антенны у них щекочут пузо у неба, выдирают из облаков лохматые неряшливые клочья, схожие с кусками грязной ваты. За «Капитаном Сорокиным» рыжела яркими новенькими бортами «морковка» – финское судно, выкрашенное в красный цвет. «Кандалакша». Самый лучший цвет в Арктике – брусничный, он бьет в глаза в непроглядной северной мути, в белизне и серости пространства просматривается издалека.
К «морковке» тоже прилаживались два буксира-крохотули. Притерлись бортами к высокому мощному боку, затихли в ожидании. Первым надлежало выходить атомному ледоколу, «морковке» во вторую очередь.
С утра над заливом повис туман, густой, едкий, отрезал от воды большой и шумный город: откуда-то сверху, из вязкой плотной ваты доносились задавленные глухие звуки – гудели автомобили, скрежетал железным чревом работяга-кран, достающий своим длинным хоботом грузы из глубоких мрачных трюмов, перекладывал их в вагоны, урчал голодно, громыхал железными колесами по рельсам, сипло свистел, требуя, чтобы подвинули железнодорожный состав, и, отзываясь на этот простуженный свист, подавал голос маленький, схожий с черепашкой тепловозик, толкал вагоны. Суханов хоть и не видел всего этого, а знал, что тепловозик похож на черепашку, а кран – на злого длинношеего гуся, что они имеют такие же ранимые чувствительные души, как и живые существа. Самого города, как и порта, не было видно.
Когда в заливе туман – все выходы-приходы отменяются, залив узкий, морось плотная, в ней даже в собственных брюках запутаться можно, не то что в пароходах, которые надо разводить в разные стороны: отход был объявлен в девять ноль-ноль, но пришлось перенести на пятнадцать – зажал туман.
Старпомов на атомном ледоколе – три, не как на обычном судне, там по роли положен один – один и плавает, а на атомном у каждого старпома – своя вахта, вторым помощникам, дабы не случилось что-нибудь нехорошее, вахту не доверяют. Многие старпомы, плавающие на атомных ледоколах, уже побывали в роли капитанов, как, собственно, и Суханов, но потом сменили «четыре мостика» – четыре золотых нашивки, отличительный знак власти и единоначалия на пароходе, – на три, положенные старшему помощнику: атомоход есть атомоход. Недаром в институтах, когда читают лекции, говорят, что суда с атомными установками – это суда будущего. Штамп, конечно, насчет судов будущего, но против истины, как говорится, не попрешь. Отход выпадал на долю Суханова, он нес вахту с двенадцати до четырех дня.
В час дня туман приподнялся над заливом, смешался с облаками и унесся куда-то в сторону, обмокрив крыши частных домов поселка Минькино, куда любили наведываться моряки, содрал снеговое крошево с лобастых минькинских бугров и исчез.
В воде плавали ледяные блины, круглые, как лепешки, ноздреватые, без острых углов и застругов, действительно похожие на только что снятые со сковородки блины. Этот лед так и зовется – блинчатый.
Хотя и капитан находится в рубке, и вахтенный старпом со своей командой, и приборы все начеку, все горит, мигает, щелкает, светится – выход из залива положен только с лоцманом. Таково правило, и исключений из него нет, даже если пароход из залива будет выводить сам морской министр.
Суханов в последний раз посмотрел вниз, на причал: а вдруг придет Ольга? Тревожная щемящая боль сдавила ему виски, перед глазами забегали какие-то прозрачные козявки, он затянулся воздухом, остужая самого себя, – знал, что Ольга не должна сюда прийти, не может, в конце концов, прийти, у нее не заказан пропуск, это порт, а не ларек, где торгуют спичками, сюда всякприходящего не пускают, и все-таки ждал. Он знал, что если Ольга захочет что-то сделать – обязательно сделает. Город перевернет, снега на минькинских сопках растопит, тамошних куркулей лишат собственности, а сделает – своего она умеет добиваться.
Но Ольга не пришла.
Может быть, и к лучшему, что не пришла. Когда задуманное не получается, подвисает в воздухе, принося боль и муку, это задуманное надо вытравлять из себя с корнем, уничтожать все внешние приметы его, даже самые мелкие, косвенные, далекие, – только тогда можно уничтожить суматоху в собственной душе и навести порядок. Конечно, прием этот безжалостный, с кровью, но иного просто не дано.
Да, точно к лучшему, что Ольга не пришла. На сером, припорошенном угольной крошкой и отгаром дыма причале, среди черных, гибко расходящихся в стороны железнодорожных путей стояли человек тридцать одиноких женщин – каждая сама по себе – и прощально махали руками. Кому конкретно махали – не разобрать. Экипаж большой, много командированных набито в каютах: каждое плавание атомохода – это ведь еще и исследование, наука. «Наука» – в основном молодые горластые ребята, для которых высшей поэзией являются сложные многоэтажные формулы, что они читают запоем, как хорошие стихи; иногда, правда, попадаются почтенные старцы с гордой, как у богов, посадкой головы и легким белесым пухом над теменем, но это редко.
Под носом мелькают в стремительном бесшумном полете серые чайки. Чем-то они напоминают обычных городских голубей – чайки, так же как и голуби, ничем не брезгуют, питаться летают на городские помойки, сварливы и жадны, крикливы, своего не упустят, равнодушно относятся к своим товаркам и презрительно к человеку, от голубей отличаются лишь длинными узкими крыльями, способностью подхватывать любое, даже самое слабое движение воздуха и парить. Вода тоже серая, недобрая, видны качающиеся в воде кляксы – зимующие утки. Как только они зады себе в эту студь не отморозят – никому неведомо. Утки – существа более веселые, чем чайки, более дружелюбные, менее озабоченные, глаз радуют. Правда, лупят их почем зря. В основном мальчишки. Наловчились стрелять из рогаток, могут даже на лету сшибить крякву, словно из ружья, та только заорет задавленно и камнем шлепается вниз. Хотя над водой пацанье уток бьет редко – плюхнется кряква в какой-нибудь мазутный отстой, её все равно не достанешь, а коли достанешь – есть не будешь.
Кряквы хитрые, они не хуже пацанья научились ориентироваться и стараются держаться подле судов, под защитой железных бортов.
На мостик поднялся капитан Донцов – высокий, седой, гибкий, словно наездник, демонстрирующий в цирке джигитовку, с пронзительно-светлыми, будто бы позаимствованными на иконе глазами. Мастер. Капитанов на судах зовут мастерами. Старших помощников – чифами, первых помощников – помпами, старших механиков – дедами, вахтенных механиков – внуками, начальников раций – маркони, вторых помощников – ревизорами, у каждого свое обозначение, свой позывной. На Севере народ работает языкастый, тут на практике проверено, что юмор удлиняет «венцу природы» жизнь, поэтому дело с позывными поставлено на широкую ногу, кличку приладить – пустяковое дело. Но «Мастер» из всех позывных – самое уважительное.
Капитан без лоцмана не может в море выйти, а лоцман без капитана. Хоть и находится в ходовой рубке Казаков, перед ним уже стоит подносик со стаканом крепкого чая, горкой печенья, сыром и тоненько нарезанными скибками колбасы-салями, и вроде бы начал он отходом командовать, сыплет приказами налево-направо, а отвечает за отход капитан. Если лоцман своротит скулу какому-нибудь пароходу, снесет тяжелую швартовую бочку, подле которых иногда останавливаются суда, цепляются, чтобы перевести дыхание, либо переждать снеговой заряд, или залезет на какой-нибудь плоский наволок, то виноват будет не лоцман, а мастер.
Донцов, несмотря на свой секущий, пробивающий чуть ли не насквозь взгляд, был человеком спокойным, немногословным, интеллигентным – поклонялся искусству, любил книги.
«С благополучным приземлением! – мысленно поздравил Суханов. – Там тебе будет тепло и мягко». Ольга зааплодировала, но глаза ее были грустными – она не одобряла такого молодечества, в уголках ее губ появились скорбные глубокие точечки, похожие на уколы спицы, глаза потемнели, приобрели глубину.
– Не слишком ли жестоко? – спросила она у Суханова. – Ты раньше не был таким.
– То раньше, – спокойным тихим голосом произнес он. Ему было что-то не по себе. От того, что сегодня ему попался на глаза бич, что он расправился с ним, обидел, вогнал задом в сугроб, от того, что Ольга отказала ему, от выпитого, хотя он не пил, от крутобокой, дышащей любовью девицы, жаждущей познакомить его с гуманоидами, от сегодняшнего мороза, от завтрашнего выхода в море – от всего того, что произошло, и даже от того, что еще только должно было произойти.
Бич был в порядке и, похоже, трезв, хмель из него вышиб полет в сугроб. Он возился в снегу, кряхтел, бормотал что-то себе под нос.
– Ой, спасибо вам, большое спасибо, – ожила, запричитала гардеробщица, продолжая прижимать костлявые детские кулачки к щекам, из глаз ее полился дождь – слезки были мелкими, частыми, жгучими, лицо от плача исказилось, сморщилось, – спасибо вам большое, дяденька!
Суханов покосился на эту полушкольницу-полупенсионерку, пытаясь определить, сколько же ей лет, – что-то в гардеробщице было и старушечье, и девчоночье одновременно, она была робка и стеснительна, какими приезжают в города жители глухих комариных деревень, и вместе с тем была, что называется, себе на уме, – хмыкнул: ну уж и дяденька. В двери появилась Неля, быстро оценила ситуацию:
– Правильно поступили, Александр Александрович! Это вам в конце жизни при подбитии итогов зачтется, как доброе дело.
– Попросите, Неля, небесную канцелярию, чтобы не забыли занести в кондуит.
– Счастливого плавания, Александр Александрович! И столько футов под килем, сколько хотите.
Суханов поправил ллойдовскую фуражку на голове.
– Знаете, что такое фут, Неля?
– Сколько-то там сантиметров, не помню… А что?
– Фут – это расстояние от кончика носа до конца указательного пальца английского короля Генриха Девятого – большого оригинала и любителя пива.
– Интересно, интересно. Это из области морских баек, да?
– Нет, это из моих собственных сведений. А по энциклопедии фут – это длина человеческой стопы.
– Александр Александрович, говорят, что человек, солгавший один раз в жизни, обязательно солжет и в другой. Кто это сказал, не помните?
– За кого вы меня принимаете, Неля? Посмотрите на мое честное открытое лицо. – Суханов грустно усмехнулся, поглядел на Ольгу, та взяла Суханова под руку – защитное движение человека, который стремится сберечь другого человека, а в себе – непотревоженную тишь. Хотя часто эта тишь оказывается мнимой, придуманной – и не происходит ли подобное сейчас с Ольгой? Впрочем, может, и происходит, – Суханов сглотнул что-то горькое, резиновое, скопившееся во рту, зябко передернул плечами, подумал о том, что он может, в конце концов, поменяться местами с бичом, что сейчас пыжится, кряхтит, выкачивает себя из сугроба. У бича никаких забот, кроме как пожрать и выпить, и эта скудность желаний вызывает какую-то ущербную зависть: а почему бы, в конце концов, не сбросить с себя все заботы, не ограничиться минимумом?
Он отрицательно качнул головой: нет. Ольга еще теснее прижалась к Суханову, и это движение вызвало в нем приступ острой секущей тоски, он, сощурив глаза, шагнул к выходу, за дверью остановился, поднял голову, посмотрел вверх, в перистое, исчерканное белесым пухом невысокое небо, будто надеялся там найти что-то очень близкое, родное, принадлежащее только ему одному. Но что близкого и родного может найти в холодном далеком мареве непонятного переливчатого тона человек? Земным подавай земное – и нет им дела до разных небесных страстей. Он получил сейчас щелчок по носу, и нет бы ему улыбнуться, отойти в сторону, уступить место другому. А он? Что за пошлые думы роятся в голове? Это ведь все злое, чуждое, никак не присущее ему! И все-таки зачем он цепляется, будто утопающий, за обрывок бумажной бечевки, в которой крепости меньше, чем в пресловутой соломинке, тянет голову вверх, хватает ртом воздух, дышит и никак не может надышаться. Душно ему. Что-то хваткое, жесткое стискивает грудь, чужая рука пытается нащупать сердце и причиняет беспокойство.
Далекий, но очень отчетливый и остро ощущающийся страх возникает в нем, движется, подчиняя себе не только мозг, а и тело, мускулы – всего Суханова. И некуда от этого страха скрыться. Что происходит с ним, что?
Говорят, что если сощуриться посильнее, то в дневном небе можно различить звездочки, крохотные, блеклые, выстуженные долгой лютой зимой. Впрочем, что зима! Суханов относится к ней вон как: носит фуражку-ллойдовку и легкие, с тоненькой подошвой, сквозь которую чувствуется снег, туфли-мокасины. Все это пижонство, красивое лихачество, грозящее простудой. Либо, в крайнем случае, замелькает в глазах какое-нибудь верткое черное пшено, и все. И никаких тебе романтичных выстуженных звезд – мелких грустных осколков чьей-то разбитой радости.
Бич тем временем выкачался из сугроба, выплюнул изо рта мерзлое жеваное крошево, высморкался громко, лихо, потом сунул руку за пазуху, достал оттуда старую мятую кроличью шапку с мягкими вытертыми ушами и нахлобучил себе на голову. Суханов нащупал в кармане десятку, кинул ее бичу.
– Плата за мелкое неудобство, – сказал он тихо, только для одного бича, эту фразу даже Ольга не услышала. – Встань со снега, дурак! Простудишься! – поморщился недобро, встряхнул плечами, будто бы сам, а не бич, сидел на снегу.
Подумал о том, что совершил ошибку, пытаясь искать самого себя в женщине, в посторонних предметах, в отношении к этому бичу, в сравнении с ним: а как бы он поступил, находясь на его месте? Надо бы искать себя в самом себе и не виниться в том, что руки кривые, ботинки на ногах очень тесные, а на кухне перегорел утюг. Как не винить соседа, капитана парохода, директора универмага, жэковского электрика. Во всем худом, что происходит с человеком, виноват сам человек.
– Вот и шапка нашлась! – весело проговорила Ольга, глядя на бича.
Что шапка? Ох, если бы наши находки были равными нашим потерям. И не стоит ставить себя на место школяра, которому дозволено все, – он может и приударить за своей одноклассницей, и влюбиться в учительницу, и признаться в нежности к пионервожатой – для него все сойдет, все простительно. А для Суханова? Каждому свое: одним – сухое жаркое лето, розовые зори и тихая благостность вечеров, другим – мозготная холодная осень, дожди, пузырящиеся лужи, ревматическая ломота в ногах. Никакое ожидание чуда не спасает. У школяра ведь как? У него все обычно – как, собственно, у всякого обычного человека: кончается детство – начинается любовь, кончается любовь – начинается привязанность, кончается привязанность – что начинается? Скорее всего, неверность. Счастлив тот, кто ничего не знает о неверности близкого человека. Впрочем, какое уж это счастье – быть слепым?
Что-то затянулся у него нынешний день.
– Помни о красной чайке! – сказала Ольга.
– Помню. Моя игра – беспроигрышная. – Суханов хлопнул ладонью о ладонь, удар был громким, будто выстрел из дуэльного пистолета, из которого Суханов пробовал как-то пальнуть по пролетающей вороне. Пистолет, купленный им за триста рублей в комиссионке, стрелял исправно, но ствол у него был кривым, смотрел в сторону, мушка скособочена, и стрелять из него, наверное, лучше всего было рублеными гвоздями, но никак не прокатанными вручную свинцовыми пулями. Хотя, что гвозди, что пули, результат все равно один – мимо. – Красных чаек нет. Ни один мореход, плавающий в Арктике, не видел их. Нет таких чаек. – Голос у Суханова был тихим и, как показалось Ольге, рассеянным, она напряглась, чтобы услышать конец фразы, но конца фразы не последовало – Суханов замолчал.
Суханов был не в своей тарелке, и в этом была виновата она, на какое-то мгновение ей сделалось жаль его, но она изгнала из себя это чувство, будто рукой прихлопнула, – и Ольга и Суханов одинаково плохо относились к жалости. Ей понятно было состояние Суханова, так же как понятно и другое – никакая помощь ему сейчас не нужна, никакая и ничья, кто бы ее ни предлагал. В том числе и помощь Ольги.
– Любой твой проигрыш, Ольга, – это выигрыш, – проговорил Суханов, не обращаясь к Ольге, от этого у нее в груди сделалось тесно и холодно, словно бы в легких застрял морозный плотный воздух. Ольга качнула головой несогласно и начала думать о Вадиме.
Думала о Вадиме, а рядом с нею шагал Суханов.
Отходили в пятнадцать ноль-ноль. Без четверти три на борт атомохода поднялся лоцман Казаков, крутоскулый, с висячими, остриженными на монгольский лад обесцвеченно-рыжеватыми усами, легкий в движениях. Казаков появился на капитанском мостике, и через минуту заскрипели-заскрежетали якорные цепи, судно тряхнуло, со всех сторон зацокали каблучки: жены торопливо прощались с мужьями, ссыпались на парадный трап, прозвучала команда «Боцмана на бак!» Эта команда означала, что судно собирается отходить.
По соседству с атомоходом стоял «Капитан Сорокин» – дизельный ледокол, имеющий самую высокую надстройку в Арктике, этакий небоскреб, поставленный на плавучую платформу. Некоторые шутники этот небоскреб звали недоскребом, но сорокинцы на выпады не обращали внимания. Они говорили, что могут плюнуть в трубу любому пароходу – и верно, черт возьми: антенны у них щекочут пузо у неба, выдирают из облаков лохматые неряшливые клочья, схожие с кусками грязной ваты. За «Капитаном Сорокиным» рыжела яркими новенькими бортами «морковка» – финское судно, выкрашенное в красный цвет. «Кандалакша». Самый лучший цвет в Арктике – брусничный, он бьет в глаза в непроглядной северной мути, в белизне и серости пространства просматривается издалека.
К «морковке» тоже прилаживались два буксира-крохотули. Притерлись бортами к высокому мощному боку, затихли в ожидании. Первым надлежало выходить атомному ледоколу, «морковке» во вторую очередь.
С утра над заливом повис туман, густой, едкий, отрезал от воды большой и шумный город: откуда-то сверху, из вязкой плотной ваты доносились задавленные глухие звуки – гудели автомобили, скрежетал железным чревом работяга-кран, достающий своим длинным хоботом грузы из глубоких мрачных трюмов, перекладывал их в вагоны, урчал голодно, громыхал железными колесами по рельсам, сипло свистел, требуя, чтобы подвинули железнодорожный состав, и, отзываясь на этот простуженный свист, подавал голос маленький, схожий с черепашкой тепловозик, толкал вагоны. Суханов хоть и не видел всего этого, а знал, что тепловозик похож на черепашку, а кран – на злого длинношеего гуся, что они имеют такие же ранимые чувствительные души, как и живые существа. Самого города, как и порта, не было видно.
Когда в заливе туман – все выходы-приходы отменяются, залив узкий, морось плотная, в ней даже в собственных брюках запутаться можно, не то что в пароходах, которые надо разводить в разные стороны: отход был объявлен в девять ноль-ноль, но пришлось перенести на пятнадцать – зажал туман.
Старпомов на атомном ледоколе – три, не как на обычном судне, там по роли положен один – один и плавает, а на атомном у каждого старпома – своя вахта, вторым помощникам, дабы не случилось что-нибудь нехорошее, вахту не доверяют. Многие старпомы, плавающие на атомных ледоколах, уже побывали в роли капитанов, как, собственно, и Суханов, но потом сменили «четыре мостика» – четыре золотых нашивки, отличительный знак власти и единоначалия на пароходе, – на три, положенные старшему помощнику: атомоход есть атомоход. Недаром в институтах, когда читают лекции, говорят, что суда с атомными установками – это суда будущего. Штамп, конечно, насчет судов будущего, но против истины, как говорится, не попрешь. Отход выпадал на долю Суханова, он нес вахту с двенадцати до четырех дня.
В час дня туман приподнялся над заливом, смешался с облаками и унесся куда-то в сторону, обмокрив крыши частных домов поселка Минькино, куда любили наведываться моряки, содрал снеговое крошево с лобастых минькинских бугров и исчез.
В воде плавали ледяные блины, круглые, как лепешки, ноздреватые, без острых углов и застругов, действительно похожие на только что снятые со сковородки блины. Этот лед так и зовется – блинчатый.
Хотя и капитан находится в рубке, и вахтенный старпом со своей командой, и приборы все начеку, все горит, мигает, щелкает, светится – выход из залива положен только с лоцманом. Таково правило, и исключений из него нет, даже если пароход из залива будет выводить сам морской министр.
Суханов в последний раз посмотрел вниз, на причал: а вдруг придет Ольга? Тревожная щемящая боль сдавила ему виски, перед глазами забегали какие-то прозрачные козявки, он затянулся воздухом, остужая самого себя, – знал, что Ольга не должна сюда прийти, не может, в конце концов, прийти, у нее не заказан пропуск, это порт, а не ларек, где торгуют спичками, сюда всякприходящего не пускают, и все-таки ждал. Он знал, что если Ольга захочет что-то сделать – обязательно сделает. Город перевернет, снега на минькинских сопках растопит, тамошних куркулей лишат собственности, а сделает – своего она умеет добиваться.
Но Ольга не пришла.
Может быть, и к лучшему, что не пришла. Когда задуманное не получается, подвисает в воздухе, принося боль и муку, это задуманное надо вытравлять из себя с корнем, уничтожать все внешние приметы его, даже самые мелкие, косвенные, далекие, – только тогда можно уничтожить суматоху в собственной душе и навести порядок. Конечно, прием этот безжалостный, с кровью, но иного просто не дано.
Да, точно к лучшему, что Ольга не пришла. На сером, припорошенном угольной крошкой и отгаром дыма причале, среди черных, гибко расходящихся в стороны железнодорожных путей стояли человек тридцать одиноких женщин – каждая сама по себе – и прощально махали руками. Кому конкретно махали – не разобрать. Экипаж большой, много командированных набито в каютах: каждое плавание атомохода – это ведь еще и исследование, наука. «Наука» – в основном молодые горластые ребята, для которых высшей поэзией являются сложные многоэтажные формулы, что они читают запоем, как хорошие стихи; иногда, правда, попадаются почтенные старцы с гордой, как у богов, посадкой головы и легким белесым пухом над теменем, но это редко.
Под носом мелькают в стремительном бесшумном полете серые чайки. Чем-то они напоминают обычных городских голубей – чайки, так же как и голуби, ничем не брезгуют, питаться летают на городские помойки, сварливы и жадны, крикливы, своего не упустят, равнодушно относятся к своим товаркам и презрительно к человеку, от голубей отличаются лишь длинными узкими крыльями, способностью подхватывать любое, даже самое слабое движение воздуха и парить. Вода тоже серая, недобрая, видны качающиеся в воде кляксы – зимующие утки. Как только они зады себе в эту студь не отморозят – никому неведомо. Утки – существа более веселые, чем чайки, более дружелюбные, менее озабоченные, глаз радуют. Правда, лупят их почем зря. В основном мальчишки. Наловчились стрелять из рогаток, могут даже на лету сшибить крякву, словно из ружья, та только заорет задавленно и камнем шлепается вниз. Хотя над водой пацанье уток бьет редко – плюхнется кряква в какой-нибудь мазутный отстой, её все равно не достанешь, а коли достанешь – есть не будешь.
Кряквы хитрые, они не хуже пацанья научились ориентироваться и стараются держаться подле судов, под защитой железных бортов.
На мостик поднялся капитан Донцов – высокий, седой, гибкий, словно наездник, демонстрирующий в цирке джигитовку, с пронзительно-светлыми, будто бы позаимствованными на иконе глазами. Мастер. Капитанов на судах зовут мастерами. Старших помощников – чифами, первых помощников – помпами, старших механиков – дедами, вахтенных механиков – внуками, начальников раций – маркони, вторых помощников – ревизорами, у каждого свое обозначение, свой позывной. На Севере народ работает языкастый, тут на практике проверено, что юмор удлиняет «венцу природы» жизнь, поэтому дело с позывными поставлено на широкую ногу, кличку приладить – пустяковое дело. Но «Мастер» из всех позывных – самое уважительное.
Капитан без лоцмана не может в море выйти, а лоцман без капитана. Хоть и находится в ходовой рубке Казаков, перед ним уже стоит подносик со стаканом крепкого чая, горкой печенья, сыром и тоненько нарезанными скибками колбасы-салями, и вроде бы начал он отходом командовать, сыплет приказами налево-направо, а отвечает за отход капитан. Если лоцман своротит скулу какому-нибудь пароходу, снесет тяжелую швартовую бочку, подле которых иногда останавливаются суда, цепляются, чтобы перевести дыхание, либо переждать снеговой заряд, или залезет на какой-нибудь плоский наволок, то виноват будет не лоцман, а мастер.
Донцов, несмотря на свой секущий, пробивающий чуть ли не насквозь взгляд, был человеком спокойным, немногословным, интеллигентным – поклонялся искусству, любил книги.