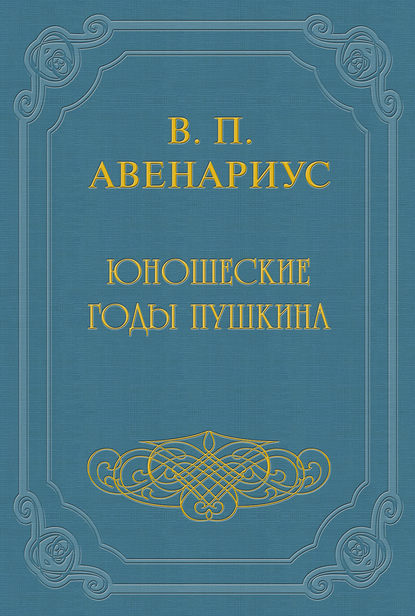По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Задержанная на бегу вместе с нею, орава малолеток шумно помчалась вслед.
– Это вы, Пушкин? – приветствовал молодого гостя по-французски с балкона звучный женский голос, и подошедшие к дому лицеисты увидели на низеньком балконе, за столиком, уставленным серебряным кофейным сервизом, двух лиц: цветущую и очень видную из себя средних лет даму, хозяйку дома Екатерину Андреевну Карамзину[49 - Вторая жена историографа, урожденная княжна Вяземская; первой женой его была Елисавета Ивановна Протасова, умершая в 1802 году и оставившая ему одну дочь, Сонюшку.], и молоденького, но не по летам серьезного усача лейб-гусара, Петра Яковлевича Чаадаева, как узнали они вслед за тем из рекомендации хозяйки.
На вопрос юношей: «Как здоровье Николая Михайловича?» – Екатерина Андреевна холодно поблагодарила и объяснила, что до обеда муж ее всегда занят и не выходит из кабинета. Налив затем обоим по чашечке кофею, она, по-видимому, сочла свои обязанности в отношении к ним оконченными и, не обращая уже на них никакого внимания, возобновила с Чаадаевым прерванную живую французскую болтовню.
Пушкин украдкой перемигнулся с Ломоносовым: «Смотри мол, как важничает!», однако невольно сам заинтересовался беседой или, вернее сказать, одним из беседующих, Чаадаевым. Не будь на нем военной формы, Чаадаева можно было бы принять за флегматического английского лорда; а его решительные, часто глубокомысленные отзывы о самых разнообразных предметах, его обдуманные, осмысленные рассказы о пребывании его за границей обличали в нем не только бывалого, всесторонне образованного, но и ученого человека.
Пушкин не вытерпел и вмешался в разговор. Меткие и остроумные замечания поэта-лицеиста, должно быть, обратили также внимание Чаадаева, потому что тот более чем с обыкновенною светскою любезностью удовлетворял его любознательность относительно заграничной жизни.
Так незаметно подошло время обеда Все собрались в столовой. Показался из своего кабинета и хозяин-историограф и с неизменной своей спокойной приветливостью поздоровался с гостями. В начале обеда все предались главному занятию – утолению голода, и самый разговор вращался около пищи. Когда всем подали к бульону горячих пирожков, Николаю Михайловичу поставили тарелку вареного рису.
– Без рису мне суп не в суп, – объяснил он гостям, подмешивая в бульон ложку рису. – Рис, рюмка портвейна да стакан пива из горькой квассии – вот ежедневная приправа к моему обеду; а на ночь пара печеных яблок – вот мой десерт.
– С ним у меня просто горе, – пожаловалась Екатерина Андреевна Чаадаеву на мужа, – самые любимые блюда мои бракует, да и ест-то, как птичка, два зернышка.
– Вам бы, Николай Михайлыч, брать пример с Крылова, – развязно подхватил Пушкин. – Я слышал от Жуковского, что они обедали раз вместе в Павловске у императрицы Марии Федоровны. Крылов всякого кушанья наваливал себе полную тарелку.
– Да откажись хоть раз, Иван Андреич, – шепнул ему Жуковский, – дай государыне возможность попотчевать тебя.
– А ну как не попотчует? – отвечал Иван Андреич и продолжал накладывать себе на тарелку. – Синица в руке все же вернее журавля в небе.
– Как это характеризует этого гиппопотама! – заметила Екатерина Андреевна, удостоив улыбкой рассказ Пушкина, тогда как другие взрослые смеялись, а дети громко хохотали. – Ч-ш-ш! Будьте же тише, дети!
– Нет, за Иваном Андреичем мне не угоняться, – добродушно отозвался Карамзин. – Да и дело не в количестве, а в качестве пищи. Для строгого труда нужна и строгая диета. Встаю я всегда рано, натощак отправляюсь гулять пешком или верхом, и зимой, и летом, какова бы ни была погода. Выпив затем две чашки кофею, выкурив трубку моего кнастеру, я сажусь за работу и не разгибаю спины вплоть до обеда. Так я сохраняю свое здоровье, которое мне нужно не столько для себя, не столько даже для моей семьи, сколько для моего усидчивого кабинетного труда.
– Я, папа, себе и представить не могу, чтобы вы были тоже когда-нибудь маленьким! – решилась ввернуть свое слово любимица его, Сонюшка.
– А между тем представь: я был когда-то даже еще меньше тебя!
Шутка его снова развеселила всех за столом.
– Право? – рассмеялась Сонюшка и, точас покраснев, робко оглянулась на мачеху и молодых гостей. – Но, верно же, папа, вы были не таким ребенком, как мы?
– Кое в чем, милая, я, точно, может быть, отличался от других детей. Очень рано лишившись матери, я не знал ее ласк и был предоставлен сам себе. Книги сделались для меня высшим наслаждением. Помнится, еще лет восьми-девяти от роду, читая в первый раз римскую историю, я воображал себя то маленьким Сципионом, то Ганнибалом. Когда же мне как-то попался в руки «Дон Кихот», я в один темный и бурный вечер прокрался в горницу, где хранился у нас разный старый хлам, разыскал ржавую саблю, заткнул ее себе за кушак и отправился на гумно – искать приключений со злыми духами. Но чем дальше, тем жутче мне становилось. Помахал я этак саблей по воздуху и с замирающим сердцем обратился вспять. Но подвиг мой казался мне тогда немалым!
– Однако не потому ли именно, Николай Михайлыч, что с детства уже побуждения ваши были всегда самые бескорыстные, возвышенные, и все сочинения ваши проникнуты насквозь тем же человеколюбивым, высоконравственным духом? – почтительно заметил Чаадаев. – Я сам, можно сказать, вскормлен на вашем «Детском чтении», на ваших «Аглаях» и «Аонидах». А после, когда вы стали издавать «Вестник Европы», – с каким нетерпением, скажу я вам, ожидал я всякую книжку этого журнала в розовой обертке! Вы, Николай Михайлыч, приохотили нас, русских, к чтению – к чтению и размышлению; вы создали наш литературный язык и нашу читающую публику!
– Вся заслуга моя в том, – скромно отвечал Николай Михайлович, – что я прислушивался к живой русской речи и старался писать возможно проще, а также возможно занимательней. Правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют. Точно так же и жизнь сама по себе занимательней всяких сказок и фантазий; надо только вглядеться, вслушаться в нее, а главное – руководствоваться при этом одними общими нравственными началами, а не мелкими житейскими расчетами. Я весь век свой держался и буду держаться золотого правила, которое преподал мне германский поэт Виланд, когда я навестил его в Веймаре: «Если бы судьба определила мне жить на пустом острове, – говорил он мне, – то я написал бы все то же и с таким же тщанием вырабатывал бы свои сочинения, думая, что музы слушают меня».
– А знаете ли, Николай Михайлыч, – вмешался тут Ломоносов, лукаво посматривая на своего приятеля-поэта, – знаете ли, какой книгой целое утро нынче зачитывался Пушкин?
– Какой?
– Вашей «Бедной Лизой».
Взоры всех присутствующих с любопытством обратились на Пушкина.
– Да ведь это же лучшая наша русская повесть… – слегка смутившись, проговорил он.
– Во всяком случае не русская, – возразил с улыбкой Карамзин, – русского в ней, кроме имен, ничего нет.
– То есть как же так?..
– А так, что моя «Бедная Лиза» – чистокровная француженка.
– Француженка?!
– Да. Когда я был в Париже, я любил гулять в Булонском лесу. Есть там полуразрушенный замок «Мадрид». Когда я раз как-то забрел туда, то нашел там старушку в лохмотьях, которая грелась у камина. Мы разговорились. Оказалось, что она нищая и что смотритель из состраданья дозволил ей с дочерью жить в пустынной зале. «У вас есть дочь?» – спросил я. «Была, – отвечала мне старушка, – была; теперь она там, выше… Ах! Мы жили с нею как в раю: жили в низенькой комнате, но спокойно и весело. Тогда и свет был лучше, и люди добрее. Она любила петь, сидя под окном или гуляя в роще; все останавливались и слушали. У меня сердце прыгало от радости. Тогда заимодавцы нас не мучили: Луиза попросит – и всякий готов ждать. Но вот Луиза умерла – и меня выгнали из хижины с клюкой и котомкой. Ходи по миру и лей слезы!» Эта-то канва и послужила мне для моей «Бедной Лизы»; самый эпизод я перенес только в Москву. Моя ли вина, что действующие лица у меня не похожи на русских, воркуют и стонут горлинками, рассуждают языком Лафатера и Боннега?
– А между тем, – подхватил тут Чаадаев, – вся читающая Россия заливалась над вашей «Лизой» горючими слезами; вся Москва ходила смотреть «Лизин пруд» и вырезывала на березах вокруг пруда разные чувствительные надписи.
– Потому что я был искренен и вывел хотя и не русских людей, но все же живых людей, а не марионеток.
– Но теперь, слава Богу, все эти вымышленные люди или марионетки давно отложены в сторону, – решающим тоном судьи перебила мужа Екатерина Андреевна. – Я вышла замуж не за писателя, а за историографа! Ты вполне достоин твоих древних предков…
– Каких? – шутливо спросил историограф. – Тех, чьих многочисленное потомство гуляет теперь по Москве и Петербургу, выкрикивая: «Халаты! халаты!»?
– Перестань, пожалуйста! Твой прапрадед был мурза, а это по-нашему по меньшей мере граф…
– А что вы думаете, господа? – отнесся Карамзин к гостям. – Захожу я как-то с визитом к одному петербургскому знакомому и не застаю его дома.
– Запиши-ка меня, братец, – говорю я слуге. Тот пошел в кабинет и вскоре возвратился.
– Записал, – говорит.
– Что же ты записал?
– Да Карамзин, граф истории.
Я был, признаться, очень приятно польщен. Носить этот графский титул мне куда почетнее, чем если бы меня, по пращуру, величали татарским мурзою.
Обед пришел к концу, и послеобеденный кофей был подан мужчинам в кабинет хозяина, помещавшийся в небольшом надворном флигере. Здесь разговор вскоре опять зашел о литературе.
– Извините меня, Николай Михайлыч, – сказал Пушкин, – но я не могу хорошенько уяснить себе: как это вы, после вашего громадного успеха в изящной словесности, вдруг решились совсем бросить ее для истории? Или, по-вашему, словесность – такое уже мелочное занятие, что недостойно серьезного человека?
– Нет, – отвечал Карамзин, – быть писателем или историком, быть министром или кабинетным ученым, по-моему, одно и то же. Мелочных занятий для меня нет; всякое занятие для меня важно, лишь бы оно вело к добру.
– Но почему же вы тогда занялись историей только в зрелые годы?
– Почему? Потому что ранее не был к ней подготовлен.
– Вы-то не были подготовлены? Да ведь вы были же в университете, вы перебывали у всяких ученых за границей, вы еще юношей издавали журналы…
– Все это так, но все же до историка мне было еще очень далеко! Когда я возвратился из-за границы и напечатал мои «Письма русского путешественника», какой-то шутник недаром сочинил про меня куплет, который повторялся потом по всей Москве:
Был я в Женеве, был я в Париже,
Спесью стал выше, разумом ниже.