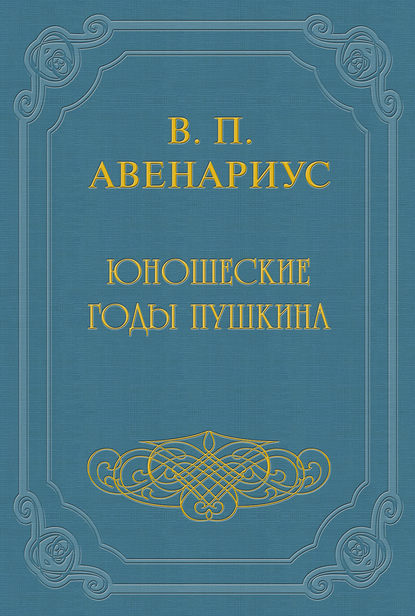По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юношеские годы Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но, положа руку на сердце, могу теперь сказать: спеси во мне и тогда много не было. Занялся я литературой по искреннему влечению. Молодым еще человеком я имел случай порядочно изучить иностранные языки: немецкий, французский, английский и итальянский, а также древние – греческий и латинский. От знания же языков до чтения в оригинале образцовых авторов – рукой подать. Моим пламенным желанием стало – дать возможность всем соотечественникам наслаждаться хоть в переводе лучшими сочинениями иностранцев. И так-то я сделался журналистом: переводил, пересказывал без отдыха… По мере же того, как кругозор мой расширялся, во мне проснулось неодолимое желание создать что-нибудь свое. Но где было взять тему? Заграничную жизнь я знал; русской, увы! нет. И так-то я перекрестил француженку Луизу в русскую Лизу. Вторую мою повесть – «Наталья боярская дочь» я хотя и позаимствовал уже из русской действительности (а именно – сюжетом мне послужил второй брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной), но, по цензурным условиям, я многое должен был переиначить, и повесть эта мне менее удалась. Но вот задумал я свою «Марфу Посадницу» и должен был для нее рыться в груде исторических материалов. Совершенно незаметно для самого себя я все глубже погружался умом в изучение судеб нашего отечества, все более привязывался к милой нашей России, и в то самое время, когда я слышал еще вокруг себя чрезмерные похвалы моей новейшей исторической повести, когда со всех сторон мне говорили, что наконец-то путь мой найден, – я уже втайне отказался от этого пути – сочинителя исторических повестушек – и задался одною заветною мыслью – написать настоящую историю моего отечества. Первые шаги мои предвещали, казалось, успех: государь был так милостив, что сделал меня историографом с ежегодным пособием в 2000 рублей из сумм Кабинета. Материально я был обеспечен и мог вполне предаться моей ответственной задаче. Но когда я серьезно приступил к ней, тогда только я понял, что труднейшее предстояло мне еще впереди…
На этом рассказ историографа был прерван появлением на пороге его супруги.
– Что же это вы, молодые люди, закупорились, как в банке? – обратилась Екатерина Андреевна к лицеистам. – Дети ждут вас не дождутся.
Пушкин даже вспыхнул и покосился на Чаадаева: что-то он подумает, что их, лицеистов, приравнивают к детям?
– Супруг ваш досказывал нам сейчас, как он сделался историографом, – объяснил Чаадаев.
– Досказать недолго, – успокоил Карамзин жену и продолжал: – Когда я обратился за материалами к нашим библиотекам и архивам, то очутился в невообразимом хаосе. Каталогов у нас не было и в помине; древние летописи ученой критикой не разработаны, не освещены; иностранные же летописи и сказания иностранцев о России никому у нас не известны. Три года бродил я как в дремучем лесу. Новые тропы перепутывались со старыми и вели все глубже в непроходимую чашу. Несколько раз я с отчаяния сжигал мои первые томы; несколько раз с каким-то ожесточением снова принимался за них. И вот густой лес понемногу поредел, и я увидел просвет на большую дорогу. Вдруг новое непредвиденное препятствие – пожар Москвы. Вся моя драгоценная историческая библиотека сгорела, и только рукописи уцелели, благодаря случайности, что мы гостили в подмосковной усадьбе Вяземских, Остафьеве.
– А между тем, – подхватила Екатерина Андреевна, слушавшая мужа стоя, изящно наклонившись сзади над спинкой его кресла, – между тем пожар этот был началом нашего счастья: когда мы лишились нашего дома в Москве, императрица Мария Федоровна приняла в нас такое живое участие, что пригласила нас к себе в Петербург или Павловск, и до сих пор хранится у меня еще роза, которую она сорвала у Розового павильона и принесла нам в виде привета! Теперь же вот и государь дал нам здесь приют… Но самого государя со времени нашего приезда мы еще не видели, и пока, мой друг, сердце у меня еще не на месте… – со вздохом прибавила Екатерина Андреевна, ласково проводя белой, выхоленной рукой по шелковистым сединам мужа.
– Чего же тревожиться? – спросил тот, оглядываясь на нее с успокоительной улыбкой.
– У тебя столько завистников…
– У кого их нет? По поводу завистников мне припоминается один аполог персидского стихотворца Саади: «Великий Хозрой, победив множество народов, сидел на троне в садах своих; вокруг него молча теснились его вельможи. „О чем вы думаете?“ – спросил их царь. „О врагах твоих, – отвечали вельможи с глубоким поклоном. – Все они лежат в земле. Кто посмеет теперь беспокоить тебя?“ „Комар! – сказал царь. – Он сейчас укусил меня и скрылся от моей мести“. Вельможи бросились за комаром. Царь же улыбнулся, сошел с трона и потер себе лоб». Против уколов комаров нет иного средства, – закончил Карамзин свой рассказ, машинально проводя также рукой по своему высокому лбу.
– Есть! – возразила жена и в доказательство наклонила назад к себе голову и с чувством поцеловала его в лоб.
– Да, слава – дым, а семья – все, – сказал Карамзин, обменявшись с нею нежным взглядом.
– В тебе слишком много смирения и слишком мало гордости, – мягко укорила она его.
– Я горд смирением и смирен гордостью.
Занятые разговором, ни хозяева, ни гости их не обратили внимания на усилившийся за дверью шорох. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в кабинет влетели хозяйские дети, впереди всех – подталкиваемая прочими – Сонюшка.
– Ну, говори же, говори! – смеясь, понукали они ее. Пунцовая, как пион, Сонюшка, видимо храбрясь, пролепетала:
– Мы хотели играть в горелки… Но нас так мало…
– Ну, что ж, господа, не смилуетесь ли вы наконец над ними? – отнесся Карамзин к лицеистам.
Те переглянулись и нерешительно приподнялись. Между тем Чаадаев уже выступил вперед.
– Если позволите, я буду «гореть», – любезно предложил он.
Пример лейб-гусара ободрил лицеистов.
– Хотите бежать со мной в первой паре? – спросил Пушкин Сонюшку, протягивая ей руку.
– Хорошо…
Ломоносов, уже не спрашивая, завладел ручкой ее младшей сестрицы, Кати, – и минуту спустя вся молодежь выстроилась парами в ближайшей аллее парка, чтобы бежать взапуски перед «горящим» гусаром.
Был уже крайний срок – 10 часов вечера, когда лицеисты наши вернулись к себе в лицей. Войдя в свою камеру, Пушкин, еще весь под впечатлениями прожитого дня, собирался только что раздеться, как внезапно вздрогнул: около него раздался тяжелый храп. В светлом сумраке летней ночи он разглядел на своей кровати в полулежачем положении спящего барона Дельвига. Последний так глубоко зарылся головой в подушку, что очки сдвинулись у него из-за ушей и съехали на самый кончик носа.
Пушкин усмехнулся и осторожно снял с него очки, потом толкнул его кулаком в бок, а сам скорее прикорнул за кровать.
– Ну, Леонтий… минуточку! – пробормотал сквозь сон Дельвиг, очевидно воображая, что старший дядька Леонтий будит его, по обыкновению, после второго утреннего звонка.
Пушкин почти громко уж рассмеялся.
– Ни минуточки, ваше благородие! Извольте вставать! – пробасил он голосом Леонтия и, протянув руку из-за края кровати, принялся тормошить друга по коротко остриженным волосам.
– Экой ты! – проворчал Дельвиг, потягиваясь присел на кровати и своими подслеповатыми глазами, лишенными теперь очков, мигая и щурясь, с недоумением огляделся кругом в пустой камере. – Что за оказия?.. Где же Леонтий? И очки-то где?
Он пошарил сперва около себя на постели, но, не найдя очков, присел на пол и стал искать их тут. Вдруг кто-то в полумраке черным привидением разом вырос перед ним и сел ему на шею.
– Кто это?! – не то испугался, не то рассердился Дельвиг.
– На тебе, на! – смеясь, говорил Пушкин, надевая ему опять очки и слезая с него.
– Ах, это ты, Пушкин? – сказал Дельвиг, приподнимаясь с полу и от души зевая. – Не можешь, чтобы не по-школьничать!
– А ты – чтобы не поспать!
– Да вольно ж тебе засиживаться до ночи.
– А ты, Тося, нарочно ждал меня здесь?
– Конечно. Хотелось услышать… Ну что, как Карамзин?
– Ах, братец, что это за человек! – с одушевлением заговорил Пушкин, садясь на кровать и усаживая друга рядом с собой.
В живом рассказе он передал ему все слышанное им за день. Пробила уже полночь, а два друга все сидели еще рядышком на кровати и не могли наговориться. Стук в стену за спиной их прекратил наконец их болтовню.
– Скоро ли вы угомонитесь, полуночники? – послышался из смежной камеры голос Пущина.
– А ты небось все слышал? – спросил Пушкин.
– Все не все, а два часа подряд затыкать уши тоже не приходится. Но теперь и вам, и мне пора честь знать. Доброй ночи!
– Доброй ночи!
И Дельвиг, крепко пожав руку Пушкину, вышел. Но Пушкина мысли его унесли опять в китайский домик, и даже во сне он то слушал историографа, то спорил с его женою, то бегал в горелки с их детьми.
Глава XXI
Господа лейб-гусары
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
«Песнь о вещем Олеге»
Встречаясь иногда на своей утренней прогулке по царскосельскому парку с директором Энгельгардтом, император Александр Павлович охотно с ним заговаривал.
На этом рассказ историографа был прерван появлением на пороге его супруги.
– Что же это вы, молодые люди, закупорились, как в банке? – обратилась Екатерина Андреевна к лицеистам. – Дети ждут вас не дождутся.
Пушкин даже вспыхнул и покосился на Чаадаева: что-то он подумает, что их, лицеистов, приравнивают к детям?
– Супруг ваш досказывал нам сейчас, как он сделался историографом, – объяснил Чаадаев.
– Досказать недолго, – успокоил Карамзин жену и продолжал: – Когда я обратился за материалами к нашим библиотекам и архивам, то очутился в невообразимом хаосе. Каталогов у нас не было и в помине; древние летописи ученой критикой не разработаны, не освещены; иностранные же летописи и сказания иностранцев о России никому у нас не известны. Три года бродил я как в дремучем лесу. Новые тропы перепутывались со старыми и вели все глубже в непроходимую чашу. Несколько раз я с отчаяния сжигал мои первые томы; несколько раз с каким-то ожесточением снова принимался за них. И вот густой лес понемногу поредел, и я увидел просвет на большую дорогу. Вдруг новое непредвиденное препятствие – пожар Москвы. Вся моя драгоценная историческая библиотека сгорела, и только рукописи уцелели, благодаря случайности, что мы гостили в подмосковной усадьбе Вяземских, Остафьеве.
– А между тем, – подхватила Екатерина Андреевна, слушавшая мужа стоя, изящно наклонившись сзади над спинкой его кресла, – между тем пожар этот был началом нашего счастья: когда мы лишились нашего дома в Москве, императрица Мария Федоровна приняла в нас такое живое участие, что пригласила нас к себе в Петербург или Павловск, и до сих пор хранится у меня еще роза, которую она сорвала у Розового павильона и принесла нам в виде привета! Теперь же вот и государь дал нам здесь приют… Но самого государя со времени нашего приезда мы еще не видели, и пока, мой друг, сердце у меня еще не на месте… – со вздохом прибавила Екатерина Андреевна, ласково проводя белой, выхоленной рукой по шелковистым сединам мужа.
– Чего же тревожиться? – спросил тот, оглядываясь на нее с успокоительной улыбкой.
– У тебя столько завистников…
– У кого их нет? По поводу завистников мне припоминается один аполог персидского стихотворца Саади: «Великий Хозрой, победив множество народов, сидел на троне в садах своих; вокруг него молча теснились его вельможи. „О чем вы думаете?“ – спросил их царь. „О врагах твоих, – отвечали вельможи с глубоким поклоном. – Все они лежат в земле. Кто посмеет теперь беспокоить тебя?“ „Комар! – сказал царь. – Он сейчас укусил меня и скрылся от моей мести“. Вельможи бросились за комаром. Царь же улыбнулся, сошел с трона и потер себе лоб». Против уколов комаров нет иного средства, – закончил Карамзин свой рассказ, машинально проводя также рукой по своему высокому лбу.
– Есть! – возразила жена и в доказательство наклонила назад к себе голову и с чувством поцеловала его в лоб.
– Да, слава – дым, а семья – все, – сказал Карамзин, обменявшись с нею нежным взглядом.
– В тебе слишком много смирения и слишком мало гордости, – мягко укорила она его.
– Я горд смирением и смирен гордостью.
Занятые разговором, ни хозяева, ни гости их не обратили внимания на усилившийся за дверью шорох. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в кабинет влетели хозяйские дети, впереди всех – подталкиваемая прочими – Сонюшка.
– Ну, говори же, говори! – смеясь, понукали они ее. Пунцовая, как пион, Сонюшка, видимо храбрясь, пролепетала:
– Мы хотели играть в горелки… Но нас так мало…
– Ну, что ж, господа, не смилуетесь ли вы наконец над ними? – отнесся Карамзин к лицеистам.
Те переглянулись и нерешительно приподнялись. Между тем Чаадаев уже выступил вперед.
– Если позволите, я буду «гореть», – любезно предложил он.
Пример лейб-гусара ободрил лицеистов.
– Хотите бежать со мной в первой паре? – спросил Пушкин Сонюшку, протягивая ей руку.
– Хорошо…
Ломоносов, уже не спрашивая, завладел ручкой ее младшей сестрицы, Кати, – и минуту спустя вся молодежь выстроилась парами в ближайшей аллее парка, чтобы бежать взапуски перед «горящим» гусаром.
Был уже крайний срок – 10 часов вечера, когда лицеисты наши вернулись к себе в лицей. Войдя в свою камеру, Пушкин, еще весь под впечатлениями прожитого дня, собирался только что раздеться, как внезапно вздрогнул: около него раздался тяжелый храп. В светлом сумраке летней ночи он разглядел на своей кровати в полулежачем положении спящего барона Дельвига. Последний так глубоко зарылся головой в подушку, что очки сдвинулись у него из-за ушей и съехали на самый кончик носа.
Пушкин усмехнулся и осторожно снял с него очки, потом толкнул его кулаком в бок, а сам скорее прикорнул за кровать.
– Ну, Леонтий… минуточку! – пробормотал сквозь сон Дельвиг, очевидно воображая, что старший дядька Леонтий будит его, по обыкновению, после второго утреннего звонка.
Пушкин почти громко уж рассмеялся.
– Ни минуточки, ваше благородие! Извольте вставать! – пробасил он голосом Леонтия и, протянув руку из-за края кровати, принялся тормошить друга по коротко остриженным волосам.
– Экой ты! – проворчал Дельвиг, потягиваясь присел на кровати и своими подслеповатыми глазами, лишенными теперь очков, мигая и щурясь, с недоумением огляделся кругом в пустой камере. – Что за оказия?.. Где же Леонтий? И очки-то где?
Он пошарил сперва около себя на постели, но, не найдя очков, присел на пол и стал искать их тут. Вдруг кто-то в полумраке черным привидением разом вырос перед ним и сел ему на шею.
– Кто это?! – не то испугался, не то рассердился Дельвиг.
– На тебе, на! – смеясь, говорил Пушкин, надевая ему опять очки и слезая с него.
– Ах, это ты, Пушкин? – сказал Дельвиг, приподнимаясь с полу и от души зевая. – Не можешь, чтобы не по-школьничать!
– А ты – чтобы не поспать!
– Да вольно ж тебе засиживаться до ночи.
– А ты, Тося, нарочно ждал меня здесь?
– Конечно. Хотелось услышать… Ну что, как Карамзин?
– Ах, братец, что это за человек! – с одушевлением заговорил Пушкин, садясь на кровать и усаживая друга рядом с собой.
В живом рассказе он передал ему все слышанное им за день. Пробила уже полночь, а два друга все сидели еще рядышком на кровати и не могли наговориться. Стук в стену за спиной их прекратил наконец их болтовню.
– Скоро ли вы угомонитесь, полуночники? – послышался из смежной камеры голос Пущина.
– А ты небось все слышал? – спросил Пушкин.
– Все не все, а два часа подряд затыкать уши тоже не приходится. Но теперь и вам, и мне пора честь знать. Доброй ночи!
– Доброй ночи!
И Дельвиг, крепко пожав руку Пушкину, вышел. Но Пушкина мысли его унесли опять в китайский домик, и даже во сне он то слушал историографа, то спорил с его женою, то бегал в горелки с их детьми.
Глава XXI
Господа лейб-гусары
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
«Песнь о вещем Олеге»
Встречаясь иногда на своей утренней прогулке по царскосельскому парку с директором Энгельгардтом, император Александр Павлович охотно с ним заговаривал.