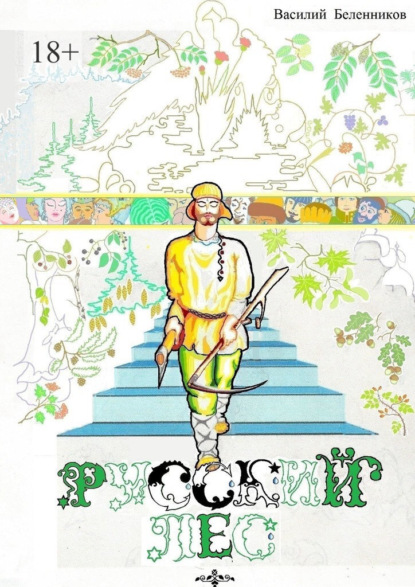По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский лес
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну и, конечно, противился тогда «пострел», как мог. Бессмысленно. Неуклюже. Неосознанно, на уровне чувств, ещё детского откровения. Вызывая непонимание у однокашников, осуждение у насельниц монастырских.
Противился как мог. Да только куда ж?! Хорошо, что у него ещё хоть единомышленник среди учеников, учениц был. Жовнёр прозывался. Который не смеялся и не издевался над ним, подобно некоторым… Конечно, Жовнёр, странное для русского человека имя. Игрей истинного значения этого слова не знал. Но по наитию переводил его для себя как что-то среднее между воином-новобранцем и жёлтым цыплёнком. Ну, или птенцом-желторотиком.
Этот (Жовнёр, который) в богадельне тоже оказался не случайно. И тоже попал сюда, надо полагать, – птенцом… Раз уж всё понимал и мог поддержать Игра в разговоре о ремесле. Без постороннего уха, поддержать, конечно. Впрочем, как и все нормальные люди-человеки, в делах житейских… Скорее даже не птенцом он сюда попал, а вот именно, – цыплёнком. Поскольку был помладше, пообщительнее и побойчее Игра. (Игр-то точно был птенцом. Определённо!). Жовнёр —бойкий такой пушистик, впору червячков собирать! Маленький, шустрый такой прожора! Который всё понимал правильно, но делал всё по сигналу своего растущего организма, а потому – как указывала наседка-Федермутер. Она самая этих самых червячков для цыплят и выкапывала. Вернее, выгребала из базового мусора (мусора на птичьем базу). Вот этот самый незаурядный аппетит и выдавал в нём то, что растёт и, даст бог, вырастет из него птица большая. Ну, наверное, и полёта высокого. Потому что, большому кораблю, деваться некуда, – большое плавание, одиночное плавание…
По причине своей уверенности в собственной то ли предусмотрительности, то ли гибкости, то ли хитрости, а скорее всего, пусть и небольшого, но жизненного опыта – каждый ведь под себя гребёт – пытался «цыплёнок», или, пусть, – телёнок, сосать от двух маток сразу. Или, как иногда выражаются, – на двух стульях усидеть пытался. То есть, сохранить и природой дарованное, и образование получить «каноническое». Так сказать, соединить несочетающееся для большого общего целого. Образно говоря, и крылышки, природой подаренные, сохранить (ещё лучше, конечно б, – развить!) и на ходули канонические взгромоздиться. Ну… чтобы подняться, стать заметным. Чтобы сразу не затолкли, скажем, – другие куры, гуси, утки, индюки… Так ведь часто бывает? Да, чего там, – кто сам не летает, тот и, зачастую, топчет. Цыплёнков топчут, гады! И не хочешь быть стоптанным (кто ж такого захочет?!), а стопчут! Ну, а если хочешь непременно уцелеть – милости просим на ходули!.. Но про крылышки придётся забыть. Не предполагают ходули развитие крыльев. Конструкция у них, у ходулей, такая!.. Да и у крыльев, – тоже! Не предполагает…
Невзирая на все эти подробности, Игр рад был Жовнёру, как единомышленнику. Надёжному, хоть и потайному. «Надёжному» потому, что тот никогда его не выдавал. Как раз потому, что сам, положа руку на сердце, был отчасти таким и думал так же. На худой конец, в случае чего заявлял «Федермутерше», что сам он ни при чём, и «ни сном, ни духом…». В общем, действовал по принципу: и нашим, и вашим. Но хотя бы давал-таки возможность соратнику соотнестись с запретным мировоззрением. Тому было с кем поговорить…
Это «и нашим, и вашим» ему потом ещё аукнется… За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Так говорят не зря. За этим занятием упустил Жовнёр главное в жизни – отпущенное время. Всё надо делать вовремя – это народная мудрость. Вот! Когда надо было сделать тот самый рискованный прямой выбор и учиться сокровенному, он вертелся и выгадывал. А потом, естественным образом, пришло суетное юношеское половодье: влюблённость, отношения, женитьба, семья. Естественно, на первый план вышли уже вопросы бытовые. Время постижения истинного предназначения было, в значимой мере, упущено. Важней стали заботы о хлебе насущном. Ну, конечно, ремесло помогало. Но звёзд с неба не хватал. Не подняться было до небес-то. Крыльев не хватало… Ремеслом, в основном, и пробавлялся.
Второй сотрудник-соученик был куда как сложнее и заковыристее. С этим равноправные отношения выстроить было совсем трудно. Во-первых, был старше. Это – раз! Во-вторых, норовист и заносчив. Это – два. Ну, а в-третьих, до богадельни прошёл обучение у маляра. Поэтому считал себя уже без пяти минут живописцем, до богомазания снизошедшим по обстоятельствам, от него не зависящим. Именно: отсутствием в округе возможности продолжения профильного обучения. На безрыбье, как говорится, и рак – рыба!
Как его на самом деле звали? А неизвестно! Называли, кто – Малер, на немецкий манер, кто – Маляр. Ну, Маляр, одним словом. Все так и звали – Малер-Маляр. Смысл и в том и в другом варианте близкий… хоть и не совсем. Там, у немцев, – художник. Здесь – маляр. Наверное всё-таки обидное для живописца прозвище. Всё-таки… Тем более, иконы у него, действительно, получались лучше, чем у остальных учеников. Ну, это ещё больше возвышало его в собственных глазах. До равноправного отношения с односумками он не снисходил. Хотя прекрасно отдавал себе отчёт, что если отойти от жёстких канонических правил и подобраться к божественному естеству образа, то «игреева мазня» вряд ли уступала его «живописи». Ну, это так… Положа руку на сердце… На самом деле, он кривил душой и держал дистанцию превосходства. К тому и были существенные причины. Писал он быстрее, охотнее, а потому работал продуктивнее. Обладал деловой хваткой и репутацией. Да и сам из себя был красив и статен. Не то что некоторые… И через это, по принципу, кто не работает, тот не ест, не гнушался подметать игреевы куски в трапезной – «всё равно добро пропадёт… – съест ещё кто-нибудь другой». Это происходило, когда Игр отбывал у Федермутер очередное наказание в алтарном углу кельи. Причём Маляр, как и всё делал, уминал его порцию так продуктивно быстро, что девчонки, которые сердобольно сочувствовали Игрею как безнадёжно неисправимому и старались потихоньку приносить ему из трапезной хотя бы вторые блюда, глазом моргнуть не успевали! Тогда Оленя – старшая из них – великодушно отряжала ему (Игру) своё второе. Что, кстати, шло ей только на пользу. Она к тому времени задевичилась. Всё чаще заглядывалась на Маляра, как он работает… над чем… Его легкомысленную небрежность по отношению к однокашнику ему прощала. А то, что свой скудный монастырский кусок отдавала ближнему своему (Игрею, например, а иногда и Маляру самому) делало её только стройнее. Ну, по этим же самым причинам и милее, конечно! Малярово криводушие её нисколько не смущало и не отталкивало. Наоборот, она считала это качеством деловым, необходимым условием успешности в жизни. В частности – семейной… Тут уже сказывалась Нютина школа.
Нюта же Маляра понимала, но недолюбливала принципиально. Хоть никогда и не наказывала. Оставляла ему возможность исправиться естественным образом, под влиянием обстоятельств. Резонно размышляя, перемелется, мол, – мука будет… Наказывать, надо сказать, не за что и было. Он всё делал по её правилам. Но нахватался этих правил, в основном, без её помощи. Ещё до неё. Где-то нахватался. У маляра, наверное. По этой причине часто, без нужды неуместно, демонстрировал свою осведомлённость и самостоятельность. Поэтому всё чаще в палитре их отношений возникал лёгкий мотив соперничества. Маляра всё больше тянуло на особицу. На особицу на Нютином поле. Вот в чём дело. Тут возникал некоторый парадокс положений. Поле было, определённо, Нютино, но на Маляровой, по праву, земле. Вот такая загогулина получается!..
Нюта держала ухо востро. Потихоньку, полегоньку обрубала маляровы поползновения на самостоятельность и независимость от неё. Ей это легко было делать. Маляр, по причине самомнения и молодой самонадеянности, действовал в одиночку. У Нюты за плечами был опыт, религия, система, целенаправленность, землячество, а потому мощная корневая поддержка. Маляр, кажется, сам рубил сук, на котором уселся. И сидел тут одиноким сычом. На чужом суку. Высматривал себе свою собственную добычу «на своей земле», вместо того чтобы, как и задумано было, работать на хозяйскую задачу. На основную идею хозяев этого сука, этого дерева. Что, конечно, по мнению Федермутер, было самонадеянным, ничем не оправданным «паразитством». Эдаким юношеским самолюбивым капризом, заскоком и попыткой использовать плоды и возможности этого дерева персонально для себя, ничем никому не одалживаясь. Пользоваться плодами, по её мнению, для него не предназначенными.
Хвост, таким образом получалось, пытался вертеть собакой. Вот Нюта его и обрубала потихоньку, сокращая эффект его влияния на беспокойство и разбалансировку общего организма.
Ну, а у Маляра была своя правда. Ему, в свою очередь, резонно казалось, что раз дерево «впёрлось» на его территорию (землю), то он, согласившись на такой захват, имеет полное право пользоваться его плодами. Использовать его возможности с пользой для себя.
Тут между ними и возникали, естественным образом, недоразумения. Которые красноречиво, образно можно описать русской народной пословицей: бодался телёнок с дубом… До Маляра никак не доходило, что чужеродный захватчик, этот сорняк на отчем поле, несмотря на все свои душеспасительные проповеди, родной земли цветам цвести не даст. Это он, чуженин этот, в проповедях для других призывал к кротости и смирению, «возлюби ближнего своего, молись за врагов своих». Сам же, под личиною евангельского смирения, был расчётливо холоден, бездушен, коварен и вероломен. В общем, на словах одно, на деле – всё наоборот!
Был и ещё соученик. Третий. Ну, этот вообще был фрукт тот ещё. На этом уж точно клейма негде было поставить. Из пройдох пройдоха! Звали его кто как. По-всякому. И так, и эдак. Кто Батоном, под стать Пончику. Кто Бутеном. Кто просто Бубном. Сам он о себе говорил довольно часто в третьем лице, как сказитель о каком-нибудь герое народной былины. Называл сам себя, как бы со стороны созерцая, одобрительно ласково – «Бутенко». Самодовольно часто провозглашая:
– Бутенко плавал, Бутенко знает, Бутенко нехрена учить!
Правда выговаривал он это своим окаянным языком, когда не было рядом Федермутер, или соученицы Колобка-Пончика-Нарыжи. Последняя могла рассказать Нюте. Ну, это – в первую очередь. А потом, по мере Колобка покатушек, узнал бы и весь остальной монастырь. И, конечно, раззвонила б она об этом не по злобе, а просто потому, что самовлюблённое высказывание Батона естественным образом ложилось в её тему «О мальчиках». А это её законная тема. И греха тут никакого и не было бы.
(Игру же всё казалось, что «бутенко» – это затычка. Которой непременно надо заткнуть, остановить любое естественное движение, любую свежую струю. Тем более, – не званную, не жданную. Как ни крути, получалось, что «бутенко» значит – без дыр, как бы. Бездырь одним словом! Тудыт твою!.. Без примеси… то есть.)
Бубном огольца этого называли ещё и за то, что бубен этот был казачьего, из Запорожья, роду-племени. Поэтому иногда дополняли – «казачий»… Бубен этот, казачий который, по своей неуёмной энергии был неразборчиво рисков на все руки. Да к тому же шустёр и пронырлив невероятно. Обладая неуёмной непоседливостью, отличался невероятной ненасытностью. Всё старался устроить самым наивыгоднейшим образом в пользу своим интересам. Совершенно не считаясь с остальными. Игру он удивительным образом напоминал галкиного Билю – деревенского соседского парнишку. С той только разницей, что своей, хоть и младшей, но грозной сестры Галки-левши (о которой речь пойдёт ниже) у самозабубённого «Бутенко» в детстве, отрочестве рядом не оказалось. « А не помешало б…» – мысленно прикидывал Игрей. Бубен и разговаривал как бубен. Бу-бу-бу-бу-бу. Половина – туда, половина – не туда! Неважно… Главное говорить ему самому и не дать говорить другому. А в коротких промежутках, когда удавалось говорить другим, он их совсем и не слушал, а думал в это время о том, что самому сказать дальше. Главная забота: забивать других всякой пафосной канонической ерундой, гнать «шелуху», «полову», «мякину». Проявлять бурную деятельность. Во всех делах быть первым. В каждой бочке (бутенко) затычкой, буквально. Этот бубен мог забить любого. Малого, взрослого – не важно! А раз мог забить, то и забивал. Чего ж?..
Любой другой, пусть и действительно – музыкальный инструмент этот мог забить запросто, навязывая ему свой собственный «ритм». Вот такой ударник!.. Исключением была только наседка Федермутер. В её присутствии его обычное бу-бу-бу, поднимаясь на верх, превращалось в вопросительно-заискивающее тень-тень-тень. Тут Бубен больше звенел боковыми подзвонками
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: