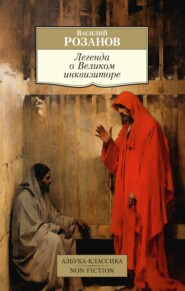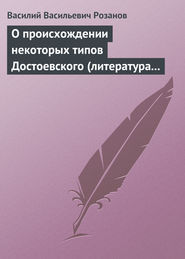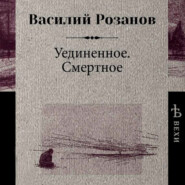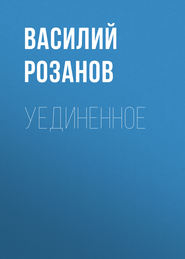По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При Николае Павловиче этого всего в помине не было. Русь, может быть, не растет, но еврей во всяком случае растет.
* * *
Дешевые книги – это некультурность. Книги и должны быть дороги. Это не водка.
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену ее сморщивается. «Проходи мимо» – должна сказать ему она и, кивнув в сторону «газетчика на углу», – прибавить: «Бери их».
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независима. Для этого она прежде всего д. быть дорога.
(за газетами утром).
* * *
Валят хлопья снега на моего друга, заваливают, до плеч, головы…
И замерзает он и гибнет.
А я стою возле и ничего не могу сделать.
(«надо показать 3-му специалисту: мы не понимаем этих явлений. Это – не наша, а другая какая-то болезнь». Крепилась. Пока не говорила, как замерзла. И за обедом молчала. А после обеда она легла на кушетку и заплакала «Все болезни», «болезни». С этой стороны все было хорошо после леченья: и вдруг – опять худо».
(16 октября 1912 г.).
* * *
Болит ли Б. о нас? Есть ли у Б. боль по человеке? Есть ли у Б. вообще боли как по «свойствам бытия Б – жия» (по схоластике).
(еду за деньгами).
* * *
Все глуше голоса земли…
И – не надо.
Только один слабый надтреснутый голосок всегда будет смешиваться с моими слезами.
И когда и он умолкнет для меня, я хочу быть слепым и глухим в себе самом, an und fur sich[26 - Сам по себе и для себя (нем.).].
(поздно ночью на даче и всегда).
P.S. К стр. 1-й: по поводу мысли о печатной литературе за три последние года, – об изменении тонап отчасти тем ее.
P.P.S. Место и обстановка «пришедшей мысли» везде указаны (абсолютно точно) ради опровержения фундаментальной идеи сенсуализма: «Nihil est in intellectu, quod non fuerat in sensu»[27 - Нет ничего в уме, чего бы не было раньше в ощущениях (лат.).]. Всю жизнь я, наоборот, наблюдал, что in intellectu происходящее находится в полном разрыве с quod fuerat in sensu. Что вообще жизнь душит течение ощущений, конечно, соприкасаются, отталкиваются, противодействуют друг другу, совпадают, текут параллельно: но лишь в некоторой части. На самом же деле жизнь души и имеет другое русло, свое самостоятельное, а, самое главное, – имеет другой исток, другой себе толчок.
Откуда же?
От Бога и рождения.
Несовпадение внутренней и внешней жизни, конечно, знает каждый в себе: но в конце концов с очень ранних лет (13-ти, 14-ти) у меня это несовпадение было до того разительно (и тягостно часто, а «служебно» и «работно» – глубоко вредно и разрушительно), что я бывал в постоянном удивлении этому явлению (степени этого явления); и пища здесь «вообще все, что поражало и удивляло меня», как и что «нравится» или очень «не нравится», записал и это. Где против «природы вещей» (время и обстановка записей) нет изменения ни йоты.
Это умственно. Есть для этих записей обстановки и времени и моральный мотив; о котором когда-нибудь потом.
Короб второй и последний
Чем старее дерево, тем больше падает с него листьев. Завещая по «?» моей перепечатывать все аналогичные и продолжающие «Уедин.» и «Опав, листья» книги в том непременно виде, как напечатаны они (т. е. с новой страницы каждый новый текст), я, в целях компактности и, след., ускорения печатания «павших листов», отступаю от прежней формы, с крайним удручением духа.
«Опав, листья» изд. 1913 г. представляет
/
или
/
того, что записалось за 1912 г., причем печатались они в таком состоянии духа, что я их почти не приводил в порядок хронологически. Так, все помеченное «Клиника Елены Павловны» – относится к октябрю, ноябрю и декабрю месяцам, – и должно быть отнесено в конец издания за этот год. Вообще же печатающееся ныне должно быть как-то «стасовано» («тасуем карты») с изданным в 1913 году, – листок за листом, – и, во всяком случае, не в том порядке и виде, как было издано в 1913 г.
Во 2-м коробе листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно было восстановить по пометкам и по памяти.
Самая почва «нашего времени» испорчена, отравлена. И всякий дурной корень она жадно хватает и произращает из него обильнейшие плоды. А добрый корень умерщвляет.
(смотря на портрет Страхова: почему из «сочинений Страхова» ничего не вышло, а из «сочинений Михайловского» вышли школьные учителя, Тверское земство и множество добросовестно работающих, а частью только болтающих, лекарей).
* * *
Страшная пустота жизни. О, как она ужасна…
* * *
Теперь в новых печках повернул ручку в одну сторону – труба открыта, повернул в другую сторону – труба закрыта.
Это не благочестиво. Потому что нет разума и заботы.
Прежде возьмешь маленькую вьюшку – и надо ее не склонить ни вправо, ни влево, – и она ляжет разом и приятно. Потом большую вьюшку, – и она покроет ее, как шапка.
Это правильно.
Раз я видел новое жнитво: не мужик, а рабочий сидел в чем-то, ни – телега, ни – другое что, ее тянула пара лошадей; колымага колыхалась, и мужик в ней колыхался. А справа и слева от колымаги, как клешни, вскидывались кверху не то косы, не то грабли. И делали дело, не спорю, – за двенадцать девушек. Только девушки-то эти теперь сидели с молодцами за леском и финтили. И сколько им наработает рабочий с клешнями, они все профинтят.
Выйдут замуж – и профинтят мужнее.
Муж, видя, что жена финтит, – завел себе на стороне «зазнобушку».
И повалилось хозяйство.
И повалилась деревня.
А когда деревни повалились – зачернел и город.