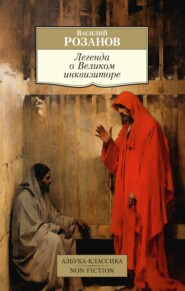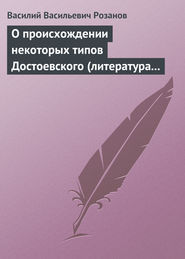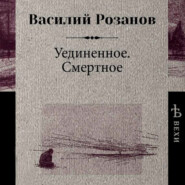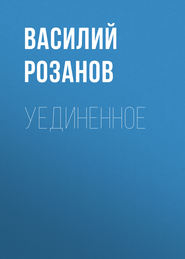По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они грубы, глупы и толстокожи. Ничего не поделаешь.
Из цензоров был литературен один – Мих. П. Соловьев. Но на него заорали Щедрины: «Он нас не пропускает! Он консерватор». Для всей печати «в цензора» желателен один Балалайкин, человек ловкий, обходительный и либеральный. Уж при нем-то литература процветет.
(арестовали «Уедин.» по распоряжению петроградск. цензуры).
* * *
Почему я издал «Уедин.»?
Нужно.
Там были и побочные цели (главная и ясная — соединение с «другом»). Но и еще сверх этого, слепое, неодолимое
НУЖНО.
Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматично начал нумеровать листочки и отправил в типографию.
* * *
Да, «эготизм»: но чего это стоило!
Отсюда и «Уед.» как попытка выйти из-за ужасной «занавески», из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти…
Это не физическая стена, а духовная, – о, как страшней физической.
Отсюда же и привязанность или, вернее, какая-то таинственная зависимость моя от «друга»… В которой одной я сыскал что-то нужное мне… Тогда как суть «стены» заключается в «не нужен я» — «не нужно мне»… Вот это «не нужно» до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, в которой невозможно жить: где, как в углекислоте, «все задыхается».
И, между тем, во мне есть «дыханье». «Друг» и дал мне возможность дыханья. А «Уед.» есть усилие расширить дыхание, и прорваться к люд., кот. я искренне и глубоко люблю.
Люблю, а не чувствую. Ловлю – но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.
Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова). Знал – читают. И как будто не читают. И «не читают», «не читает ни один человек» – живее и действительнее, чем что читают многие.
И тороплюсь издавать. Считаю деньги. Значит, знаю, что «читают»: но момент, что-то перестроилось перед глазами, перед мыслью, и – «не читают» и «ничего вообще нет».
Как будто глаз мой (дух) на уровне с доской стола. И стол – тоненький лист. Дрогнуло: и мне открыто под столом — вовсе другое, нежели на столе. Зрение переместилось на миллиметр. «На столе» – наша жизнь, «читают», «хлопочу»; «под столом» – ничего вообще нет или совсем другой вид.
* * *
Любить – значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; «везде скучно, где не ты».
Это внешнее описание, но самое точное.
Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без нее – нет дыхания, а при ней «дышится легко».
Вот и все.
* * *
Печальны и запутанны наши общественные и исторические дела… Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н.Н. Страхова, – снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какою-то тенью, а не реальностью, – только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, – у меня душа мутится… Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока…
Да и сколько таких. Поистине прогресс наш может быть встречен словами: «Morituri te salutant»[29 - Обреченные на смерть тебя приветствуют (лат.).] – из уст философов, поэтов, одиночек-мыслителей. «Прогресс наш» совершился при «непременном требовании», – как говорится в полицейских требованиях и распоряжениях, – чтобы были убраны «с глаз долой» все люди с задумчивостью, пытливостью, с оглядкой на себя и обстоятельства.
С старой любовью к старой родине…
Боже! если бы стотысячная, пожалуй, даже миллионная толпа «читающих» теперь людей в России с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и продумала из страницы в страницу Толстого и Достоевского, – задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом, – как это она сделала с каждою страницею Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы уже теперь в страшно серьезную величину. Ибо даже без всякого школьного учения, без знания географии и истории, – просто «передумать» только Толстого и Достоевского – значит стать как бы Сократом по уму, или Эпиктетом, или М. Аврелием, – люди тоже не очень «знавшие географию» и «не кончившие курса в гимназии».
Вся Греция и Рим питались только литературою: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература, собственно, есть естественная школа народа, и она может быть единственною и достаточною школою… Но, конечно, при условии, что весь народ читает «Войну и мир», а «Мальву» и «Трое» Горького читают только специалисты-любители.
И это было бы, конечно, если бы критика, печать так же «задыхались от волнения» при появлении каждой новой главы «Карениной» и «Войны и мира», как они буквально задыхались и продолжают задыхаться при появлении каждой «вещи» в 40 страничек Леонида Андреева и М. Горького.
Одно это неравенство весов отодвинуло на сто лет назад русское духовное развитие, – как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы, и оставлены одни младшие, одна прогимназия.
Но откуда это? почему?
Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были «прогрессивные писатели», а Достоевский и Толстой – русские оди-ночки-гении. «Гений – это так мало»…
Достоевский, видевший все это «сложение обстоятельств», желчно написал строки:
«И вот, в XXI столетии, – при всеобщем реве ликующей толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства»… «Не надо гениев: ибо это – аристократия». Сам Достоевский был бедняк и демократ: и в этих словах, отнесенных к будущему торжеству «равенства и братства», он сказал за век или за два «отходную» будущему торжеству этого строя.
* * *
Чего я совершенно не умею представить себе – это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворение.
В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. Душа его была совершенно без музыки.
И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии.
Базар. Целый базар в одном человеке. Вот – Герцен. Оттого так много написал: по ни над одной страницей не впадет в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечтается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк.
* * *
«Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому что мне хотелось накрыть их тепленькими».
Этот фольклор мне нравится.
Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное.
Сюда Далю не мешало бы заглянуть.
(на процессе Бутурлина мелкий чиновничек, выслеживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко).
* * *
Вся «цивилизация XIX-го века» есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака.
Кабак просочился в политику – это «европейские (не английский) парламенты».
Из цензоров был литературен один – Мих. П. Соловьев. Но на него заорали Щедрины: «Он нас не пропускает! Он консерватор». Для всей печати «в цензора» желателен один Балалайкин, человек ловкий, обходительный и либеральный. Уж при нем-то литература процветет.
(арестовали «Уедин.» по распоряжению петроградск. цензуры).
* * *
Почему я издал «Уедин.»?
Нужно.
Там были и побочные цели (главная и ясная — соединение с «другом»). Но и еще сверх этого, слепое, неодолимое
НУЖНО.
Точно потянуло чем-то, когда я почти автоматично начал нумеровать листочки и отправил в типографию.
* * *
Да, «эготизм»: но чего это стоило!
Отсюда и «Уед.» как попытка выйти из-за ужасной «занавески», из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти…
Это не физическая стена, а духовная, – о, как страшней физической.
Отсюда же и привязанность или, вернее, какая-то таинственная зависимость моя от «друга»… В которой одной я сыскал что-то нужное мне… Тогда как суть «стены» заключается в «не нужен я» — «не нужно мне»… Вот это «не нужно» до того ужасно, плачевно, рыдательно, это такая метафизическая пустота, в которой невозможно жить: где, как в углекислоте, «все задыхается».
И, между тем, во мне есть «дыханье». «Друг» и дал мне возможность дыханья. А «Уед.» есть усилие расширить дыхание, и прорваться к люд., кот. я искренне и глубоко люблю.
Люблю, а не чувствую. Ловлю – но воздух. И как будто хочу сказать слово, а пустота не отражает звука.
Ведь я никогда не умел себе представить читателя (совет Страхова). Знал – читают. И как будто не читают. И «не читают», «не читает ни один человек» – живее и действительнее, чем что читают многие.
И тороплюсь издавать. Считаю деньги. Значит, знаю, что «читают»: но момент, что-то перестроилось перед глазами, перед мыслью, и – «не читают» и «ничего вообще нет».
Как будто глаз мой (дух) на уровне с доской стола. И стол – тоненький лист. Дрогнуло: и мне открыто под столом — вовсе другое, нежели на столе. Зрение переместилось на миллиметр. «На столе» – наша жизнь, «читают», «хлопочу»; «под столом» – ничего вообще нет или совсем другой вид.
* * *
Любить – значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя»; «везде скучно, где не ты».
Это внешнее описание, но самое точное.
Любовь вовсе не огонь (часто определяют), любовь – воздух. Без нее – нет дыхания, а при ней «дышится легко».
Вот и все.
* * *
Печальны и запутанны наши общественные и исторические дела… Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н.Н. Страхова, – снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какою-то тенью, а не реальностью, – только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, – у меня душа мутится… Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока…
Да и сколько таких. Поистине прогресс наш может быть встречен словами: «Morituri te salutant»[29 - Обреченные на смерть тебя приветствуют (лат.).] – из уст философов, поэтов, одиночек-мыслителей. «Прогресс наш» совершился при «непременном требовании», – как говорится в полицейских требованиях и распоряжениях, – чтобы были убраны «с глаз долой» все люди с задумчивостью, пытливостью, с оглядкой на себя и обстоятельства.
С старой любовью к старой родине…
Боже! если бы стотысячная, пожалуй, даже миллионная толпа «читающих» теперь людей в России с таким же вниманием, жаром, страстью прочитала и продумала из страницы в страницу Толстого и Достоевского, – задумалась бы над каждым их рассуждением и каждым художественным штрихом, – как это она сделала с каждою страницею Горького и Л. Андреева, то общество наше выросло бы уже теперь в страшно серьезную величину. Ибо даже без всякого школьного учения, без знания географии и истории, – просто «передумать» только Толстого и Достоевского – значит стать как бы Сократом по уму, или Эпиктетом, или М. Аврелием, – люди тоже не очень «знавшие географию» и «не кончившие курса в гимназии».
Вся Греция и Рим питались только литературою: школ, в нашем смысле, вовсе не было! И как возросли. Литература, собственно, есть естественная школа народа, и она может быть единственною и достаточною школою… Но, конечно, при условии, что весь народ читает «Войну и мир», а «Мальву» и «Трое» Горького читают только специалисты-любители.
И это было бы, конечно, если бы критика, печать так же «задыхались от волнения» при появлении каждой новой главы «Карениной» и «Войны и мира», как они буквально задыхались и продолжают задыхаться при появлении каждой «вещи» в 40 страничек Леонида Андреева и М. Горького.
Одно это неравенство весов отодвинуло на сто лет назад русское духовное развитие, – как бы вдруг в гимназиях были срезаны старшие классы, и оставлены одни младшие, одна прогимназия.
Но откуда это? почему?
Как же: и Л. Андреев, и М. Горький были «прогрессивные писатели», а Достоевский и Толстой – русские оди-ночки-гении. «Гений – это так мало»…
Достоевский, видевший все это «сложение обстоятельств», желчно написал строки:
«И вот, в XXI столетии, – при всеобщем реве ликующей толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к чудному Лику Сикстинской Мадонны: и раздерет этот Лик во имя всеобщего равенства и братства»… «Не надо гениев: ибо это – аристократия». Сам Достоевский был бедняк и демократ: и в этих словах, отнесенных к будущему торжеству «равенства и братства», он сказал за век или за два «отходную» будущему торжеству этого строя.
* * *
Чего я совершенно не умею представить себе – это чтобы он запел песню или сочинил хоть в две строчки стихотворение.
В нем совершенно не было певческого, музыкального начала. Душа его была совершенно без музыки.
И в то же время он был весь шум, гам. Но без нот, без темпов и мелодии.
Базар. Целый базар в одном человеке. Вот – Герцен. Оттого так много написал: по ни над одной страницей не впадет в задумчивость читатель, не заплачет девушка. Не заплачет, не замечтается и даже не вздохнет. Как это бедно. Герцен и богач, и бедняк.
* * *
«Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому что мне хотелось накрыть их тепленькими».
Этот фольклор мне нравится.
Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное.
Сюда Далю не мешало бы заглянуть.
(на процессе Бутурлина мелкий чиновничек, выслеживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко).
* * *
Вся «цивилизация XIX-го века» есть медленное, неодолимое и, наконец, восторжествовавшее просачивание всюду кабака.
Кабак просочился в политику – это «европейские (не английский) парламенты».