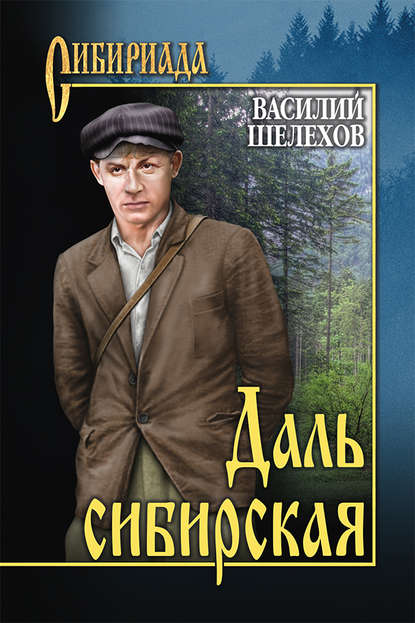По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Даль сибирская (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Где же ледоход?! – вскричал я с досадой. Товарищи недоумённо пожали плечами: чего, мол, тебе ещё надо? Я печально покачал головой, вздохнул и отвернулся: разве объяснишь, что такое настоящий ледоход! Это надо самому увидеть.
С ледоходом у меня связаны яркие впечатления ещё более раннего периода, витимского. Мощное течение Витима слегка подпруживало ледяным затором как раз около посёлка, свободный проход на середине реки то заклинивало ненадолго, то снова разбуравливало, уровень воды в этом гигантском дыроватом мешке беспрестанно менялся, гряду валунов то охватывало водою и таранило льдами, то опять оставляло на сухом берегу. Нам, малышам, было забавно попрыгать «на островах», а потом вернуться на материк. На таком валуне и остался в одиночестве я, шестилетний папанинец, не предугадав ухудшения ледовой обстановки. Вначале я надеялся, что вода рано или поздно схлынет, потом испугался и не знал, что делать. Растерявшиеся товарищи, пока около камня было мелко, кричали: «Прыгай!» Потом замолкли и с ужасом взирали, как ежесекундно прибывает вода, как надвигаются, зловеще шурша, льдины. Вдруг с бугра, откуда взрослые наблюдали ледоход, сбежал учитель Григорий Дмитриевич и кинулся в студёную воду спасать меня, я прыгнул навстречу ему…
Вся деревня выходит на берег, как на праздник, смотреть ледоход. Взрослые на бугре, сухом, утоптанном, словно танцевальный круг, а детвора внизу, около воды, вблизи льдов толчётся, просто созерцать – это ее не устраивает, хочется принять участие в событиях. Старики курят самосад и рассказывают про добрые старые времена, когда половодья бывали сердитые, не то что ныне, прополаскивало иные деревни так, что не только навоз и мусор, но и амбары, изгороди, дома уносило бог весть куда, целые деревни срезало льдами с лица земли. Особенно забавлял слушателей рассказ об одном старике, который понадеялся на авось, не успел заранее со скотом и пожитками убраться на ближайший холм и проплыл двести километров на крыше своей избы, выброшенной в конце концов смилостивившейся Леной в какой-то деревне в целости и сохранности.
Невозможно глаз оторвать от этого увлекательнейшего зрелища. Часами стояли на берегу люди и не уставали с живейшим интересом следить, как стремительно прут нескончаемой чередой льдины, белые, зеленоватые, с голубым оттенком – разные. И так спешат, так спешат все, что легко можно вообразить, будто это колонна живых существ, понимающих, что их спасение только в Ледовитом океане. Вот одна льдина призадержалась самую чуточку, но соседям ждать недосуг, они злятся и крушат с шумом её края, отталкивают или подминают под себя. Если же льдина крупная, то задние, наскочив, встают на дыбы и падают на неё или перевёртываются навзничь, а она, зажатая со всех сторон, звонко лопается, чёрные трещины запросто раскраивают белую пластину на несколько кусков. Похоже, что ученик балуется с чистым листом бумаги, как хочет, так и черкает карандашом. Порою льдины начинают вдруг напирать на берег. Со звоном, скрежетом, вспахивая каменистую почву, лезет… не льдина, конечно, нет, грозно лезет зловеще-зеленоватый морж, кровожадный крокодил лезет! А на нём едет (успел, шельмец, воспользоваться чрезвычайным моментом!) лёгкий, как воробышек, мальчишка, смеётся и жестикулирует, а в глазах восторг, удаль, торжество.
Чёрная точка на одном из ледяных полей, замеченная издали, тотчас приковывала внимание публики, принимались гадать и спорить, что бы это могло быть: человек, медведь или лодка. Всем хотелось быть зрителями чего-либо необычайного, приключенческого, но загадочный предмет оказывался просто корягой или кучей навоза.
Сразу за деревней, ниже по течению, бой воды и льдов устремлялся в обрывистый земляной берег. Чем сильнее напор льдов, тем чаще земляные глыбы, подрезанные снизу, тяжело обрушивались в мутную воду и с всплеском исчезали в глубине.
– Ухни туда – и всё, крышка, уже не выберешься! – лихорадочно сверкая глазами, твердили мы друг другу.
Смотришь, ещё один кусок землицы с увядшей прошлогодней травой отмежевался от родного массива дугообразной трещиной. Занятно и страшно было вскочить на обречённую кромку и тотчас отпрянуть назад, опасность пугала и манила, звала поиграть с нею.
А напротив без малого до середины реки протянулась длиннейшая галечная коса, скрытая полой водой, но льды уже натолкнулись на неё, застряли, на них полезли задние, а сверху третий и четвёртый слой, ещё и ещё. По всей косе полуторакилометровой длины нагромождались торосы в два-три человеческих роста. Оттуда доносился грозный грохот и треск, вроде бы скрежет танков и выстрелы орудий. Напрягая зрение, мы следили за ходом «ледового побоища», досадуя, что нельзя подобраться ближе и увидеть всё это во всех подробностях.
Отгрохочет былинный ледоход, проплывут молчаливо последние редкие группы льдин – это уже, так сказать, обоз, тылы великой армии Деда Мороза, но еще долго, почти до июня, будет загромождать местами подступы к реке поверженное воинство убежавшей зимы, со стеклянным звоном будут рушиться ледяные глыбы, рассыпаться на охапки длинных голубоватых игл, печально истекать ручейками разнеживающей мятной влаги. Занятно ребятне лазить по непрочным этим баррикадам, съедаемым ярым весенним солнцем, и помогать ему, солнцу, в меру своих сил. Сколько смеху, сколько радости доставляло нам свалить наземь высоко зависшую льдину и самим «проехаться» на ней! Сосание «ледяных конфет» при этом считалось обязательным, непременным наслаждением, вопреки родительским наказам не студить горло. Ну как же не полакомиться даровым угощением, слаще всякого лимонада?!
Ледоход возвещает наступление нового этапа в жизни природы и человека, он смело, резко подводит черту под зимою. Но, опережая ледоход, на оттаявших наполовину озёрах, на лужах талой воды средь лугов и жнивья закрякали вечером перелётные утки, наступил горячий сезон для охотников.
На второе лето нашего жительства в Петропавловске отец купил нам по дешёвке с рук одноствольное ружьишко двадцатого калибра с десятком-другим стареньких гильз. Изъеденное раковинами, отслужившее свой срок, ружьё вряд ли удовлетворило бы взыскательного, уважающего себя охотника, но мы с братом были без памяти и от этого.
Боже, сколько вёрст мы избраживали по раскисшим от воды полям, лугам, болотам! Сколько тёплых вечеров, сколько холодных рассветов провели у проток, луж, озёр, – усталые, мокрые, озябшие!.. Добывать дичь удавалось редко, да и то не мне. Стрелял обычно брат, а я довольствовался тем, что подгонял к нему уток или просто «болел», помогал искать подранка.
На первых порах подержать в руках оружие для меня уже было счастьем. Лишь выйдем за деревню, я забираю у брата ружьё и, со священным трепетом сжимая его, строевым шагом «иду в психическую атаку», дурачусь. До первого озерка, на котором могут быть утки, ружьё моё. Это уж позже я завоевал право охотиться самостоятельно.
Идём, а над нами, с характерным свистом рассекая воздух, проносятся косяки уток, мы же только слюнки глотаем: стрелять влёт тогда ещё не научились. Потом тихим вечером на озере отбиваемся от комаров, поджидаем уток, разбросав макеты близ берега, крякаем в кулак, ибо иных манков в заведении не было. Я настолько бывал возбуждён утиным сезоном, что от скрипа немазаной колхозной таратайки, донёсшегося с улицы, подпрыгивал, как от удара электрическим током: мне всюду мерещилось молодецкое кряканье селезня.
С охоты возвращались усталые до изнеможения и такие голодные, что словами не выразить. Редкая мизерная добыча, если подсчитать, ни в коей мере не возместила бы тех сил, тех калорий, что мы щедро теряли по утрам и вечерам в окрестностях села. Но тёмный силуэт утки на светлой поверхности озерка так и стоял всегда перед глазами и заставлял нас вновь и вновь колесить по полям. Поистине охота пуще неволи! Помнится, в ту пору более всего я любил рисовать партизан-лыжников, нападающих на немецкий обоз, и охотника, подкрадывающегося к утке.
Прочитав в районной газете объявление о наборе студентов в Бодайбинский геологоразведочный техникум, я вознамерился, окончив семилетку, поступить туда, чтобы всегда быть в тайге и невозбранно охотиться и рыбачить. «Так ты с какой целью хочешь геологом стать, чтобы полезные ископаемые искать или рябчиков гонять?» – спрашивали, смеясь, родители. «Главное, конечно, охота и рыбалка, рябчики и хайрузы, а разведка земных недр – это так, между прочим», – бредил я. «Нехорошо, некрасиво обманывать государство, – урезонивали они меня. – Где же твоя совесть?» Устыдившись, я выбросил из головы геологию.
Свою первую утку я добыл так: возвращаюсь с охоты пустой. Уже стемнело. Иду полем. Деревня близко. Вдруг в стороне закрякали утки. Озерков тут поблизости не было, видимо, табун заночевал на жнивье около лужи, во впадине, где за зиму наметает целые бугры снега. Тронулся на звук. Утки забеспокоились: грубая пружинистая стерня шуршит, хрустит под башмаками немилосердно.
Я лёг и пополз. Утки успокоились, но ненадолго: бесшумно передвигаться не удавалось. Всё ближе и тревожнее гомон табуна. Сейчас взлетят – и всё кончено. Взглянул перед собой – на белом фоне снежного сугроба отчётливо прорисовывались чёрные силуэты уток. Нечего было и думать целиться, искать мушку, я просто направил туда ствол ружья и бабахнул.
Сноп огня полыхнул из дула в чёрную ночь. Неудержимая сила подбросила меня и повлекла вперёд, вслед за выстрелом. Я бежал, а шум снявшегося табуна затихал вдали, шум, сопровождаемый ритмично-прерывистым писком, напоминающим радиопозывные звуки.
Вот светлая пластина лужи, здесь только что жировали, копались, чистились, прихорашивались утки, крупные, судя по мощному шуму при взлёте; здесь, здесь, где ступает моя нога, каждый сантиметр вязкой почвы прощупан их жадными клювами в поисках корма, они егозились, задевали друг дружку, устраивались поудобнее на ночлег, им было тесно, их было много… Именно то, что птиц было много, и всё это множество умчалось, недосягаемое, неуловимое, унеслось в свисте крыльев, в чудо-свисте, не оставило мне ничего, – казалось такой вопиющей несправедливостью, какую человеческое сердце не в силах перенести. Мне даже мерещилось, что я улавливаю запах уток, накопившийся тут в ночном застоялом воздухе. Я готов был завыть по-волчьи от сумасшедшей неудовлетворённости, я готов был, кажется, в отчаянии вцепиться зубами в собственную руку и грызть её, терзать её по-звериному, но вдруг… на другой стороне лужи что-то затрепыхалось! Я бросился, не разбирая дороги, через лужу – и в моих руках очутилась кряква, бестолково мотавшая то и дело сникающей головой. Позже, уже дома, выяснилось, что в неё попала одна-единственная дробинка и перебила ей шею. Восторг переполнял всё моё существо. Я охотник! Я мужчина! Я возвращаюсь с охоты домой, и богатая ценная добыча оттягивает мне руку!..
Охота на ондатр, в отличие от утиной, была исключительно простой: приходишь вечером на озеро, умащиваешься на кочку или валёжину поближе к воде и посиживаешь себе, от нечего делать наблюдая, как розовеет, будто праздничный крем, последняя льдина на середине озера под лучами заходящего солнца. Но вот солнце село, помаленьку тускнеет закат, льдина мертвенно и скорбно белеет и, похоже, выгибается горбом на потемневшей воде. Ни звука на озере, но не надо нервничать, водяной народец не высунется раньше сумерек.
Ага, наконец-то, поплыли!.. Одна, другая, третья. Бесшумно бороздят стоячую воду живые «кораблики», шуршат в береговой осоке, корм ищут. Наклоняешься головой к земле, чтоб отсвет с небосвода упал на воду, и недовольно отворачиваешься: нет, не то! Просто водяные крысы. Если глаз намётан, ондатру от крысы отличить с полвзгляда: у плывущей ондатры голова высоко поднята над водой, у крысы – наравне с туловищем, да и плывёт ондатра, как реактивная, так и режет озёрную гладь, так и гонит волну.
Подождёшь, когда она подплывёт поближе к берегу, чтоб достать палкой можно было, да и шарахнешь. Если попал, волчком закрутится, пока не застынет, если промазал, вскинет высоко зад, торчмя станет и в тот же миг уйдет вглубь. Но мазать нельзя, потому что за один вечер удаётся выстреливать только один раз: зверьки прячутся. Домой несёшь добытую ондатру за чешуйчатый хвост, похожий на змею, и руки потом долго хранят одеколонный запах.
Шкурки обезжиривали, обрабатывали мездру простоквашей, а мама из них шила нам шапки – красивые, тёплые, ноские.
В увлечении охотой много героического, мужественного, партизаны небось и воевали с охотничьими ружьями, значит, охотник, если понадобится, станет умелым, примерным воином. И чистое такое, благородное, аксаковско-тургеневское занятие, пиф-паф – и пожалуйста, без лишней возни получай «ягдташ с битой птицей». Уж очень мне нравилось это выражение, словно припев полюбившейся песенки, и я к месту и не к месту твердил его, как заклинание, даже просил мать сшить ягдташ, но она, смеясь, резонно заметила, что не стоит зря трудиться, ваш ягдташ, мол, всегда будет пустёхонький.
Справедливости ради надо сказать, что всё ж таки стреляли мы кроме уток и ондатр рябчиков, обычно осенью, полярных куропаток и белок – зимой, однако, мало было проку от нашей ружейной охоты, редка удача. Оправдывалась старая поговорка, что у рыбака голы бока, зато обед царский, у охотника дым густой, да обед пустой. А сухая ложка, как известно, рот дерёт. Потому-то рыбалка, не менее увлекательная, чем охота, но более отзывчивая на любовь к ней, в нашей ребячьей жизни занимала первое место.
* * *
Прелесть рыбалки заключается не только в самом процессе ловли, нет, всё, что относится к ней, все этапы подготовки интересны, полны наслаждения. Готовых рыболовных снастей в те времена негде было купить, мы их изготовляли своими руками. Шнур перемёта скручивали из толстых белых нитей, употребляемых для вязки неводов, поводки для закидушек сучили из швейных ниток десятого номера. С упоением, мечтая о добыче, крепишь крючки к поводкам, навешиваешь их на леску, выстрагиваешь дощечки для наматывания перемётов.
Сколько трогательных, глубоко задевающих душу, сладких мгновений испытаешь весной, когда развяжешь кулёк с рыболовными припасами и выложишь грошовое богатство своё: полусгнившие закидушки, крючки в спичечных коробках, свинцульки, мотки ниток!.. Я до бесконечности готов был копаться в таких примитивных снастях. Не дай бог потревожить, оторвать от этого священнодействия размечтавшегося, погружённого в воспоминания рыболова! Разве можно оставить подобные сокровища посреди комнаты на произвол судьбы?! Вдруг зайдут сестрёнки – они же всё своротят, запутают, растяпы и вреднюли!
А добывание червей! Весной, пока огороды не вспаханы, красотища, раздолье, копай, сколько нужно, на своём или на школьном, или на колхозном огороде. Во время пахоты можно даже сделать запас. Зато после приходится на задах деревни резать дёрн возле ямы, где добывали глину, или подле изгородей изыскивать их, или забираться под крыльцо, или бродить по выгону: как увидишь коровий шевяк, считай, что на одного червяка у тебя в банке больше стало. Отвернёшь «каравай», а червяк нырк в землю! Тут уж не зевай, быстрёхонько р-раз лопатой! Отрежь добрый ломоть дерновины и раздербанивай спокойно, покуда меж двумя разломанными кусками не потянется красновато-коричневая упругая нить. Ага, попался, миленький! Лезь в банку! Елец давно по тебе скучает. Осенью неплохо добывалось на овине, под слоями сырой перепревшей соломы. Черви там бывали, как на подбор, крупные, чистые, ленивые – это они к зимней спячке приготовились.
* * *
Сразу после ледохода начинался клёв ерша и налима. Налим брал везде, в том числе около села в громадном улове, вместо которого с убылью воды появлялась очень длинная дугообразная старица, соединённая с рекой в нижней части. Здесь и корягой не зацепит, и наносным хламом крючки с наживкой не забьёт.
Наживишь дождевых червей, какие покрупнее, и опустишь перемёт на дно, камень на одном конце, камень на другом, без всякого наплава, конечно, иначе плывущим лесом утащит. Чтоб не потерять снасть, замечаешь и запоминаешь ориентиры на той и другой стороне реки. А утром один направляет лодку поперёк хребтовины перемёта, другой держит в руке шнур якорька, называемого ещё кошкой, и слушает, как он царапает по дну. Лишь только появится ощущение, что якорёк схватился за что-то упругое, не сомневайся: это перемёт, тащи его на поверхность, выбирай налимов. Если якорёк остановился намертво – знай: за корягу задел. Тяни изо всех сил, чтоб разогнуть зубья его, а когда выручишь, поправь зубья и бросай сызнова.
Еще проще ловить ершей. Мы с братом не унижались до этого. Мелюзгу ершовую ловили ребятишки, как на подбор, самые мелюзгинные. Невозможно без смеха наблюдать за этой, с позволения сказать, рыбалкой. Представьте себе на береговой утоптанной полосе разномастно, плохо одетую, босую, непрокрытоголовую детвору, хлюпающую простуженными носами, занимающую друг у дружки по червяку до завтра, поддёргивающую короткие штанишки; представьте себе их промысловое оснащение в виде метровой хворостинки и такой же нитки с крючком и камешком на конце. У ног ребятни непроницаемо мутная, как кофе, вода с плывущим мусором, палками, поленьями. И как только камешек утопит крючок, червяком наживлённый, уже слышны и видны робкие подёргивания. Без всяких подсеканий и прочих премудростей четырёхлетний рыбачишка поднимает хворостину – и вот он, пожалуйста, на ниточке слабо извивается, растопырив все свои колючие иголки и пёрышки, серый ёршик вершковой величины. Один крючок – один ёршик, два крючка – два ерша. Исключений из этого правила не бывает. Далеко забросишь удочку или близко, не имеет значения. И невольно складывается впечатление, что вся река километровой ширины до отказа начинена ершами, как морковная грядка морковью.
После 20 мая начинался клёв ельца – настоящая страда наша. Но эта страда совпадала с другой страдой: в школе начинались экзамены. Родители отпускали нас на рыбалку с условием, что мы в свободное время будем усиленно готовиться к экзаменам. Но наука в голову не лезет, когда кругом столько интересного, соблазнительного: и гладкие глянцевито блещущие прутья ивняка, из которых можно сделать великолепную плётку, и костёр с пекущейся в нём картошкой, и россказни про «огромадного» тайменя.
Обо мне родители не беспокоились: я не признавал иных оценок, кроме пятёрок; мне так понравилась «Похвальная грамота», с золотым ободком и портретами вождей, полученная в первом классе, так щекотала самолюбие мысль, что сама Москва, само правительство награждает меня, что я задался целью накопить этих грамот ко времени окончания школы не менее десяти штук. В течение зимы я учился столь прилежно, что никакой подготовки к экзаменам, собственно, и не требовалось: весь пройденный за год учебный материал я уже знал назубок.
Брат же, будучи способным, ленился учиться. Без контроля, без пригрозки ничего не получалось. Стыдили и ставили в пример меня, но понапрасну: к славе отличников Гоша оставался равнодушен. Дневник его пестрел тройками, а двойка была неприятна ему лишь потому, что вызывала очередную головомойку.
Гоша с детства отличался сонливостью. По утрам стоило больших усилий добудиться его и отправить в школу: уже растормошённый, уже сидящий (вернее, насильно посаженный) в кровати и уверяющий, что проснулся, засоня, как только его оставляли в покое, мгновенно падал и засыпал в неловкой позе, с босыми ногами, спущенными на холодный пол. И если не подталкивать и не покрикивать ежесекундно, мог отключиться даже после того, как натянул на себя штаны и рубаху. В семье жило анекдотическое воспоминание о случае, когда Гоша уснул, зашнуровывая свои ботинки. А вот на охоту или рыбалку его не надо было будить, сам вставал чуть свет.
Излюбленные мальчишьи рыболовные местечки – у Маяка и Зуевой Дырки. Белые щиты перевальных знаков, на которых с наступлением темноты бакенщик зажигал огни, стояли чуть выше устья Захаровки на весёленькой поляне. Зуева же Дырка находилась в километре от села ниже по течению реки, там, где кончалась узкая береговая луговина и начинался обширный ивовый лес. Названием местечко было обязано еврашкам, зуйкам, испещрившим почву своими норами.
Народу тут собиралось много, никто не скучал, рыбная ловля сочеталась со всевозможными иными развлечениями и проказами, промысловый азарт был лишь предлогом для шумных сборищ, нам с братом это не нравилось, нас обуревали самые серьёзные, более того, неистовые намерения стать взаправдашними добытчиками, которых домашние встречали бы не кривыми ухмылочками и ироническими шуточками о кошкином ужине, а с почтительным нетерпением: ну, чем нас сегодня кормильцы порадуют?
Длителен и мучителен был этот начальный предстартовый период, период накопления самых элементарных знаний, навыков и обзаведения орудиями лова. Первыми учителями в этом деле стали Петька и Толька Жарковы, сыновья фельдшера, маленького, но очень плотно сложенного, самого уважаемого в округе человека.
Школьный дом, который предоставили нам под жильё, стоял как раз рядом с больницей, и наша семья сразу же по приезде познакомилась, а потом и сдружилась с Жарковыми. Фельдшер и его жена оказались простыми добрыми и гостеприимными людьми, а Петька с Толиком были такими же, как мы с братом, непоседливыми, весёлыми, смекалистыми пацанами. Мы часто собирались и играли вчетвером, на коньках катались, крепости из снеговых глыб строили, до упаду пушили друг в дружку снежками, вылазки в лес устраивали. Именно братья Жарковы научили нас охотиться на зайцев.
Особенно дружны, неразлучны были мы с Петькой. Учились в одном классе и настояли, чтобы сидеть за одной партой, даже уроки вместе готовили. Более впечатлительный, чем брат, я надоедал домашним бесконечными восхвалениями своего Петьки, втолковывая на тысячу ладов, что лучшего человека на свете не было и нет.
Мне так хотелось, чтобы у нас с Петькой всё было общее, что я опрометчиво попытался привлечь его к сочинению стихов для школьной стенгазеты, показывал ему письма из редакции «Пионерской правды», с которой переписывался: там считали, будто бы у меня есть поэтические способности и советовали развивать их. Однако со стихотворством у моего друга дело не клеилось: ни с размером, ни с рифмой он не мог сладить, это огорчало нас обоих, только по-разному: Петька стал втайне завидовать мне.
Братьям Жарковым доставляло немалое удовольствие вводить нас, несведущих пришельцев, в курс дела, рассказывать взахлёб, сколько у них сетей, ряжей, перемётов, как и сколько они добывают и засаливают рыбы. Нам, правда, обидно было, что ребята не уговорят отца взять нас с собой хоть разок на рыбалку.
В весеннее время, когда подтощавшая за зиму рыба валом валит вместе с полой водой в заливы и курьи, Жарковы вылавливали её пудами, центнерами. Они ставили сети в Зуевской старице, тянувшейся почти от самой Зуевой Дырки до Сукнёвской протоки, то есть четыре километра, одним словом, ребята вместе с отцом занимались серьёзным промыслом, если же кто из них в это время и появлялся в ребячьей компании, то лишь по пути в деревню: не было смысла ежедневно гонять лодку домой против бешеного течения, они прятали её в кустах и возвращались пешком.
Вся наша удочно-закидушечная рыбалка казалась им детским лепетом, но почему бы не посидеть у костра, не повозиться, не побороться? Боролся Петька мастерски, гибкий и ловкий, что соболь, он обладал необычайной крепостью мускулов. Мы с Гошей не считали себя неженками, на турнике подтягивались по десять раз, но по сравнению с братьями Жарковыми, в отца низкорослыми, были сущей лапшой. Петька, мой одноклассник, борол Гошу, а я даже с Толиком не мог справиться. Удивительного тут, как мы узнали много позже, ничего не было: Петька, оказывается, был ровесник брату, стыдился, должно быть, что отстал в учёбе, и старательно скрывал свой возраст.
Но сильнее всех среди ребят был Колька Захаров, обличьем явный негритос: курчавые чёрные волосы, бронзовый цвет лица, толстые губы, жизнерадостная белозубая улыбка. Ростом не выше сверстников, Колька мог бороться один против всех. Делалось это так: Захаров становился в круг, ноги в лёгких ичигах широко расставлены, голова на короткой мощной шее вертится вкруговую, как у совы, а в напружиненной ссутуленной фигуре и хищно растопыренных руках таилось столько буйной силы и уверенности в своей непобедимости, что становилось страшно. Мы переминались, трусили, никто не решался ринуться первым на этого буйвола. Кидались разом, стараясь облепить, придавить к земле, но Колька неожиданным броском прорывал кольцо. Преследовать его было бесполезно: во время бега компания рассеивалась, а с двумя-тремя Захаров справлялся совершенно свободно, укладывал поборотых в кучу, садился на верхнего, трясся, изображая верховую езду, и ликовал: «Аллюра, моя лошадка!»
Обидно было мне за брата, что он не самый сильный среди деревенских ребят. И голова у него большая, круглая, что арбуз, и лицо загорелое, щекастое, широкое, как у якута, про таких полнокровных говорят, что у них рожа кирпича просит. Волосы у Гоши были густые, чёрные и грубые, будто лошадиная грива, а нос – толстый, мясистый, некрасивый, на картофелину похожий, за что его дразнили «Гошкой-картошкой». Здоровенный парнюга, посмотреть, а вот нет, большой силой не мог похвастать.
С ледоходом у меня связаны яркие впечатления ещё более раннего периода, витимского. Мощное течение Витима слегка подпруживало ледяным затором как раз около посёлка, свободный проход на середине реки то заклинивало ненадолго, то снова разбуравливало, уровень воды в этом гигантском дыроватом мешке беспрестанно менялся, гряду валунов то охватывало водою и таранило льдами, то опять оставляло на сухом берегу. Нам, малышам, было забавно попрыгать «на островах», а потом вернуться на материк. На таком валуне и остался в одиночестве я, шестилетний папанинец, не предугадав ухудшения ледовой обстановки. Вначале я надеялся, что вода рано или поздно схлынет, потом испугался и не знал, что делать. Растерявшиеся товарищи, пока около камня было мелко, кричали: «Прыгай!» Потом замолкли и с ужасом взирали, как ежесекундно прибывает вода, как надвигаются, зловеще шурша, льдины. Вдруг с бугра, откуда взрослые наблюдали ледоход, сбежал учитель Григорий Дмитриевич и кинулся в студёную воду спасать меня, я прыгнул навстречу ему…
Вся деревня выходит на берег, как на праздник, смотреть ледоход. Взрослые на бугре, сухом, утоптанном, словно танцевальный круг, а детвора внизу, около воды, вблизи льдов толчётся, просто созерцать – это ее не устраивает, хочется принять участие в событиях. Старики курят самосад и рассказывают про добрые старые времена, когда половодья бывали сердитые, не то что ныне, прополаскивало иные деревни так, что не только навоз и мусор, но и амбары, изгороди, дома уносило бог весть куда, целые деревни срезало льдами с лица земли. Особенно забавлял слушателей рассказ об одном старике, который понадеялся на авось, не успел заранее со скотом и пожитками убраться на ближайший холм и проплыл двести километров на крыше своей избы, выброшенной в конце концов смилостивившейся Леной в какой-то деревне в целости и сохранности.
Невозможно глаз оторвать от этого увлекательнейшего зрелища. Часами стояли на берегу люди и не уставали с живейшим интересом следить, как стремительно прут нескончаемой чередой льдины, белые, зеленоватые, с голубым оттенком – разные. И так спешат, так спешат все, что легко можно вообразить, будто это колонна живых существ, понимающих, что их спасение только в Ледовитом океане. Вот одна льдина призадержалась самую чуточку, но соседям ждать недосуг, они злятся и крушат с шумом её края, отталкивают или подминают под себя. Если же льдина крупная, то задние, наскочив, встают на дыбы и падают на неё или перевёртываются навзничь, а она, зажатая со всех сторон, звонко лопается, чёрные трещины запросто раскраивают белую пластину на несколько кусков. Похоже, что ученик балуется с чистым листом бумаги, как хочет, так и черкает карандашом. Порою льдины начинают вдруг напирать на берег. Со звоном, скрежетом, вспахивая каменистую почву, лезет… не льдина, конечно, нет, грозно лезет зловеще-зеленоватый морж, кровожадный крокодил лезет! А на нём едет (успел, шельмец, воспользоваться чрезвычайным моментом!) лёгкий, как воробышек, мальчишка, смеётся и жестикулирует, а в глазах восторг, удаль, торжество.
Чёрная точка на одном из ледяных полей, замеченная издали, тотчас приковывала внимание публики, принимались гадать и спорить, что бы это могло быть: человек, медведь или лодка. Всем хотелось быть зрителями чего-либо необычайного, приключенческого, но загадочный предмет оказывался просто корягой или кучей навоза.
Сразу за деревней, ниже по течению, бой воды и льдов устремлялся в обрывистый земляной берег. Чем сильнее напор льдов, тем чаще земляные глыбы, подрезанные снизу, тяжело обрушивались в мутную воду и с всплеском исчезали в глубине.
– Ухни туда – и всё, крышка, уже не выберешься! – лихорадочно сверкая глазами, твердили мы друг другу.
Смотришь, ещё один кусок землицы с увядшей прошлогодней травой отмежевался от родного массива дугообразной трещиной. Занятно и страшно было вскочить на обречённую кромку и тотчас отпрянуть назад, опасность пугала и манила, звала поиграть с нею.
А напротив без малого до середины реки протянулась длиннейшая галечная коса, скрытая полой водой, но льды уже натолкнулись на неё, застряли, на них полезли задние, а сверху третий и четвёртый слой, ещё и ещё. По всей косе полуторакилометровой длины нагромождались торосы в два-три человеческих роста. Оттуда доносился грозный грохот и треск, вроде бы скрежет танков и выстрелы орудий. Напрягая зрение, мы следили за ходом «ледового побоища», досадуя, что нельзя подобраться ближе и увидеть всё это во всех подробностях.
Отгрохочет былинный ледоход, проплывут молчаливо последние редкие группы льдин – это уже, так сказать, обоз, тылы великой армии Деда Мороза, но еще долго, почти до июня, будет загромождать местами подступы к реке поверженное воинство убежавшей зимы, со стеклянным звоном будут рушиться ледяные глыбы, рассыпаться на охапки длинных голубоватых игл, печально истекать ручейками разнеживающей мятной влаги. Занятно ребятне лазить по непрочным этим баррикадам, съедаемым ярым весенним солнцем, и помогать ему, солнцу, в меру своих сил. Сколько смеху, сколько радости доставляло нам свалить наземь высоко зависшую льдину и самим «проехаться» на ней! Сосание «ледяных конфет» при этом считалось обязательным, непременным наслаждением, вопреки родительским наказам не студить горло. Ну как же не полакомиться даровым угощением, слаще всякого лимонада?!
Ледоход возвещает наступление нового этапа в жизни природы и человека, он смело, резко подводит черту под зимою. Но, опережая ледоход, на оттаявших наполовину озёрах, на лужах талой воды средь лугов и жнивья закрякали вечером перелётные утки, наступил горячий сезон для охотников.
На второе лето нашего жительства в Петропавловске отец купил нам по дешёвке с рук одноствольное ружьишко двадцатого калибра с десятком-другим стареньких гильз. Изъеденное раковинами, отслужившее свой срок, ружьё вряд ли удовлетворило бы взыскательного, уважающего себя охотника, но мы с братом были без памяти и от этого.
Боже, сколько вёрст мы избраживали по раскисшим от воды полям, лугам, болотам! Сколько тёплых вечеров, сколько холодных рассветов провели у проток, луж, озёр, – усталые, мокрые, озябшие!.. Добывать дичь удавалось редко, да и то не мне. Стрелял обычно брат, а я довольствовался тем, что подгонял к нему уток или просто «болел», помогал искать подранка.
На первых порах подержать в руках оружие для меня уже было счастьем. Лишь выйдем за деревню, я забираю у брата ружьё и, со священным трепетом сжимая его, строевым шагом «иду в психическую атаку», дурачусь. До первого озерка, на котором могут быть утки, ружьё моё. Это уж позже я завоевал право охотиться самостоятельно.
Идём, а над нами, с характерным свистом рассекая воздух, проносятся косяки уток, мы же только слюнки глотаем: стрелять влёт тогда ещё не научились. Потом тихим вечером на озере отбиваемся от комаров, поджидаем уток, разбросав макеты близ берега, крякаем в кулак, ибо иных манков в заведении не было. Я настолько бывал возбуждён утиным сезоном, что от скрипа немазаной колхозной таратайки, донёсшегося с улицы, подпрыгивал, как от удара электрическим током: мне всюду мерещилось молодецкое кряканье селезня.
С охоты возвращались усталые до изнеможения и такие голодные, что словами не выразить. Редкая мизерная добыча, если подсчитать, ни в коей мере не возместила бы тех сил, тех калорий, что мы щедро теряли по утрам и вечерам в окрестностях села. Но тёмный силуэт утки на светлой поверхности озерка так и стоял всегда перед глазами и заставлял нас вновь и вновь колесить по полям. Поистине охота пуще неволи! Помнится, в ту пору более всего я любил рисовать партизан-лыжников, нападающих на немецкий обоз, и охотника, подкрадывающегося к утке.
Прочитав в районной газете объявление о наборе студентов в Бодайбинский геологоразведочный техникум, я вознамерился, окончив семилетку, поступить туда, чтобы всегда быть в тайге и невозбранно охотиться и рыбачить. «Так ты с какой целью хочешь геологом стать, чтобы полезные ископаемые искать или рябчиков гонять?» – спрашивали, смеясь, родители. «Главное, конечно, охота и рыбалка, рябчики и хайрузы, а разведка земных недр – это так, между прочим», – бредил я. «Нехорошо, некрасиво обманывать государство, – урезонивали они меня. – Где же твоя совесть?» Устыдившись, я выбросил из головы геологию.
Свою первую утку я добыл так: возвращаюсь с охоты пустой. Уже стемнело. Иду полем. Деревня близко. Вдруг в стороне закрякали утки. Озерков тут поблизости не было, видимо, табун заночевал на жнивье около лужи, во впадине, где за зиму наметает целые бугры снега. Тронулся на звук. Утки забеспокоились: грубая пружинистая стерня шуршит, хрустит под башмаками немилосердно.
Я лёг и пополз. Утки успокоились, но ненадолго: бесшумно передвигаться не удавалось. Всё ближе и тревожнее гомон табуна. Сейчас взлетят – и всё кончено. Взглянул перед собой – на белом фоне снежного сугроба отчётливо прорисовывались чёрные силуэты уток. Нечего было и думать целиться, искать мушку, я просто направил туда ствол ружья и бабахнул.
Сноп огня полыхнул из дула в чёрную ночь. Неудержимая сила подбросила меня и повлекла вперёд, вслед за выстрелом. Я бежал, а шум снявшегося табуна затихал вдали, шум, сопровождаемый ритмично-прерывистым писком, напоминающим радиопозывные звуки.
Вот светлая пластина лужи, здесь только что жировали, копались, чистились, прихорашивались утки, крупные, судя по мощному шуму при взлёте; здесь, здесь, где ступает моя нога, каждый сантиметр вязкой почвы прощупан их жадными клювами в поисках корма, они егозились, задевали друг дружку, устраивались поудобнее на ночлег, им было тесно, их было много… Именно то, что птиц было много, и всё это множество умчалось, недосягаемое, неуловимое, унеслось в свисте крыльев, в чудо-свисте, не оставило мне ничего, – казалось такой вопиющей несправедливостью, какую человеческое сердце не в силах перенести. Мне даже мерещилось, что я улавливаю запах уток, накопившийся тут в ночном застоялом воздухе. Я готов был завыть по-волчьи от сумасшедшей неудовлетворённости, я готов был, кажется, в отчаянии вцепиться зубами в собственную руку и грызть её, терзать её по-звериному, но вдруг… на другой стороне лужи что-то затрепыхалось! Я бросился, не разбирая дороги, через лужу – и в моих руках очутилась кряква, бестолково мотавшая то и дело сникающей головой. Позже, уже дома, выяснилось, что в неё попала одна-единственная дробинка и перебила ей шею. Восторг переполнял всё моё существо. Я охотник! Я мужчина! Я возвращаюсь с охоты домой, и богатая ценная добыча оттягивает мне руку!..
Охота на ондатр, в отличие от утиной, была исключительно простой: приходишь вечером на озеро, умащиваешься на кочку или валёжину поближе к воде и посиживаешь себе, от нечего делать наблюдая, как розовеет, будто праздничный крем, последняя льдина на середине озера под лучами заходящего солнца. Но вот солнце село, помаленьку тускнеет закат, льдина мертвенно и скорбно белеет и, похоже, выгибается горбом на потемневшей воде. Ни звука на озере, но не надо нервничать, водяной народец не высунется раньше сумерек.
Ага, наконец-то, поплыли!.. Одна, другая, третья. Бесшумно бороздят стоячую воду живые «кораблики», шуршат в береговой осоке, корм ищут. Наклоняешься головой к земле, чтоб отсвет с небосвода упал на воду, и недовольно отворачиваешься: нет, не то! Просто водяные крысы. Если глаз намётан, ондатру от крысы отличить с полвзгляда: у плывущей ондатры голова высоко поднята над водой, у крысы – наравне с туловищем, да и плывёт ондатра, как реактивная, так и режет озёрную гладь, так и гонит волну.
Подождёшь, когда она подплывёт поближе к берегу, чтоб достать палкой можно было, да и шарахнешь. Если попал, волчком закрутится, пока не застынет, если промазал, вскинет высоко зад, торчмя станет и в тот же миг уйдет вглубь. Но мазать нельзя, потому что за один вечер удаётся выстреливать только один раз: зверьки прячутся. Домой несёшь добытую ондатру за чешуйчатый хвост, похожий на змею, и руки потом долго хранят одеколонный запах.
Шкурки обезжиривали, обрабатывали мездру простоквашей, а мама из них шила нам шапки – красивые, тёплые, ноские.
В увлечении охотой много героического, мужественного, партизаны небось и воевали с охотничьими ружьями, значит, охотник, если понадобится, станет умелым, примерным воином. И чистое такое, благородное, аксаковско-тургеневское занятие, пиф-паф – и пожалуйста, без лишней возни получай «ягдташ с битой птицей». Уж очень мне нравилось это выражение, словно припев полюбившейся песенки, и я к месту и не к месту твердил его, как заклинание, даже просил мать сшить ягдташ, но она, смеясь, резонно заметила, что не стоит зря трудиться, ваш ягдташ, мол, всегда будет пустёхонький.
Справедливости ради надо сказать, что всё ж таки стреляли мы кроме уток и ондатр рябчиков, обычно осенью, полярных куропаток и белок – зимой, однако, мало было проку от нашей ружейной охоты, редка удача. Оправдывалась старая поговорка, что у рыбака голы бока, зато обед царский, у охотника дым густой, да обед пустой. А сухая ложка, как известно, рот дерёт. Потому-то рыбалка, не менее увлекательная, чем охота, но более отзывчивая на любовь к ней, в нашей ребячьей жизни занимала первое место.
* * *
Прелесть рыбалки заключается не только в самом процессе ловли, нет, всё, что относится к ней, все этапы подготовки интересны, полны наслаждения. Готовых рыболовных снастей в те времена негде было купить, мы их изготовляли своими руками. Шнур перемёта скручивали из толстых белых нитей, употребляемых для вязки неводов, поводки для закидушек сучили из швейных ниток десятого номера. С упоением, мечтая о добыче, крепишь крючки к поводкам, навешиваешь их на леску, выстрагиваешь дощечки для наматывания перемётов.
Сколько трогательных, глубоко задевающих душу, сладких мгновений испытаешь весной, когда развяжешь кулёк с рыболовными припасами и выложишь грошовое богатство своё: полусгнившие закидушки, крючки в спичечных коробках, свинцульки, мотки ниток!.. Я до бесконечности готов был копаться в таких примитивных снастях. Не дай бог потревожить, оторвать от этого священнодействия размечтавшегося, погружённого в воспоминания рыболова! Разве можно оставить подобные сокровища посреди комнаты на произвол судьбы?! Вдруг зайдут сестрёнки – они же всё своротят, запутают, растяпы и вреднюли!
А добывание червей! Весной, пока огороды не вспаханы, красотища, раздолье, копай, сколько нужно, на своём или на школьном, или на колхозном огороде. Во время пахоты можно даже сделать запас. Зато после приходится на задах деревни резать дёрн возле ямы, где добывали глину, или подле изгородей изыскивать их, или забираться под крыльцо, или бродить по выгону: как увидишь коровий шевяк, считай, что на одного червяка у тебя в банке больше стало. Отвернёшь «каравай», а червяк нырк в землю! Тут уж не зевай, быстрёхонько р-раз лопатой! Отрежь добрый ломоть дерновины и раздербанивай спокойно, покуда меж двумя разломанными кусками не потянется красновато-коричневая упругая нить. Ага, попался, миленький! Лезь в банку! Елец давно по тебе скучает. Осенью неплохо добывалось на овине, под слоями сырой перепревшей соломы. Черви там бывали, как на подбор, крупные, чистые, ленивые – это они к зимней спячке приготовились.
* * *
Сразу после ледохода начинался клёв ерша и налима. Налим брал везде, в том числе около села в громадном улове, вместо которого с убылью воды появлялась очень длинная дугообразная старица, соединённая с рекой в нижней части. Здесь и корягой не зацепит, и наносным хламом крючки с наживкой не забьёт.
Наживишь дождевых червей, какие покрупнее, и опустишь перемёт на дно, камень на одном конце, камень на другом, без всякого наплава, конечно, иначе плывущим лесом утащит. Чтоб не потерять снасть, замечаешь и запоминаешь ориентиры на той и другой стороне реки. А утром один направляет лодку поперёк хребтовины перемёта, другой держит в руке шнур якорька, называемого ещё кошкой, и слушает, как он царапает по дну. Лишь только появится ощущение, что якорёк схватился за что-то упругое, не сомневайся: это перемёт, тащи его на поверхность, выбирай налимов. Если якорёк остановился намертво – знай: за корягу задел. Тяни изо всех сил, чтоб разогнуть зубья его, а когда выручишь, поправь зубья и бросай сызнова.
Еще проще ловить ершей. Мы с братом не унижались до этого. Мелюзгу ершовую ловили ребятишки, как на подбор, самые мелюзгинные. Невозможно без смеха наблюдать за этой, с позволения сказать, рыбалкой. Представьте себе на береговой утоптанной полосе разномастно, плохо одетую, босую, непрокрытоголовую детвору, хлюпающую простуженными носами, занимающую друг у дружки по червяку до завтра, поддёргивающую короткие штанишки; представьте себе их промысловое оснащение в виде метровой хворостинки и такой же нитки с крючком и камешком на конце. У ног ребятни непроницаемо мутная, как кофе, вода с плывущим мусором, палками, поленьями. И как только камешек утопит крючок, червяком наживлённый, уже слышны и видны робкие подёргивания. Без всяких подсеканий и прочих премудростей четырёхлетний рыбачишка поднимает хворостину – и вот он, пожалуйста, на ниточке слабо извивается, растопырив все свои колючие иголки и пёрышки, серый ёршик вершковой величины. Один крючок – один ёршик, два крючка – два ерша. Исключений из этого правила не бывает. Далеко забросишь удочку или близко, не имеет значения. И невольно складывается впечатление, что вся река километровой ширины до отказа начинена ершами, как морковная грядка морковью.
После 20 мая начинался клёв ельца – настоящая страда наша. Но эта страда совпадала с другой страдой: в школе начинались экзамены. Родители отпускали нас на рыбалку с условием, что мы в свободное время будем усиленно готовиться к экзаменам. Но наука в голову не лезет, когда кругом столько интересного, соблазнительного: и гладкие глянцевито блещущие прутья ивняка, из которых можно сделать великолепную плётку, и костёр с пекущейся в нём картошкой, и россказни про «огромадного» тайменя.
Обо мне родители не беспокоились: я не признавал иных оценок, кроме пятёрок; мне так понравилась «Похвальная грамота», с золотым ободком и портретами вождей, полученная в первом классе, так щекотала самолюбие мысль, что сама Москва, само правительство награждает меня, что я задался целью накопить этих грамот ко времени окончания школы не менее десяти штук. В течение зимы я учился столь прилежно, что никакой подготовки к экзаменам, собственно, и не требовалось: весь пройденный за год учебный материал я уже знал назубок.
Брат же, будучи способным, ленился учиться. Без контроля, без пригрозки ничего не получалось. Стыдили и ставили в пример меня, но понапрасну: к славе отличников Гоша оставался равнодушен. Дневник его пестрел тройками, а двойка была неприятна ему лишь потому, что вызывала очередную головомойку.
Гоша с детства отличался сонливостью. По утрам стоило больших усилий добудиться его и отправить в школу: уже растормошённый, уже сидящий (вернее, насильно посаженный) в кровати и уверяющий, что проснулся, засоня, как только его оставляли в покое, мгновенно падал и засыпал в неловкой позе, с босыми ногами, спущенными на холодный пол. И если не подталкивать и не покрикивать ежесекундно, мог отключиться даже после того, как натянул на себя штаны и рубаху. В семье жило анекдотическое воспоминание о случае, когда Гоша уснул, зашнуровывая свои ботинки. А вот на охоту или рыбалку его не надо было будить, сам вставал чуть свет.
Излюбленные мальчишьи рыболовные местечки – у Маяка и Зуевой Дырки. Белые щиты перевальных знаков, на которых с наступлением темноты бакенщик зажигал огни, стояли чуть выше устья Захаровки на весёленькой поляне. Зуева же Дырка находилась в километре от села ниже по течению реки, там, где кончалась узкая береговая луговина и начинался обширный ивовый лес. Названием местечко было обязано еврашкам, зуйкам, испещрившим почву своими норами.
Народу тут собиралось много, никто не скучал, рыбная ловля сочеталась со всевозможными иными развлечениями и проказами, промысловый азарт был лишь предлогом для шумных сборищ, нам с братом это не нравилось, нас обуревали самые серьёзные, более того, неистовые намерения стать взаправдашними добытчиками, которых домашние встречали бы не кривыми ухмылочками и ироническими шуточками о кошкином ужине, а с почтительным нетерпением: ну, чем нас сегодня кормильцы порадуют?
Длителен и мучителен был этот начальный предстартовый период, период накопления самых элементарных знаний, навыков и обзаведения орудиями лова. Первыми учителями в этом деле стали Петька и Толька Жарковы, сыновья фельдшера, маленького, но очень плотно сложенного, самого уважаемого в округе человека.
Школьный дом, который предоставили нам под жильё, стоял как раз рядом с больницей, и наша семья сразу же по приезде познакомилась, а потом и сдружилась с Жарковыми. Фельдшер и его жена оказались простыми добрыми и гостеприимными людьми, а Петька с Толиком были такими же, как мы с братом, непоседливыми, весёлыми, смекалистыми пацанами. Мы часто собирались и играли вчетвером, на коньках катались, крепости из снеговых глыб строили, до упаду пушили друг в дружку снежками, вылазки в лес устраивали. Именно братья Жарковы научили нас охотиться на зайцев.
Особенно дружны, неразлучны были мы с Петькой. Учились в одном классе и настояли, чтобы сидеть за одной партой, даже уроки вместе готовили. Более впечатлительный, чем брат, я надоедал домашним бесконечными восхвалениями своего Петьки, втолковывая на тысячу ладов, что лучшего человека на свете не было и нет.
Мне так хотелось, чтобы у нас с Петькой всё было общее, что я опрометчиво попытался привлечь его к сочинению стихов для школьной стенгазеты, показывал ему письма из редакции «Пионерской правды», с которой переписывался: там считали, будто бы у меня есть поэтические способности и советовали развивать их. Однако со стихотворством у моего друга дело не клеилось: ни с размером, ни с рифмой он не мог сладить, это огорчало нас обоих, только по-разному: Петька стал втайне завидовать мне.
Братьям Жарковым доставляло немалое удовольствие вводить нас, несведущих пришельцев, в курс дела, рассказывать взахлёб, сколько у них сетей, ряжей, перемётов, как и сколько они добывают и засаливают рыбы. Нам, правда, обидно было, что ребята не уговорят отца взять нас с собой хоть разок на рыбалку.
В весеннее время, когда подтощавшая за зиму рыба валом валит вместе с полой водой в заливы и курьи, Жарковы вылавливали её пудами, центнерами. Они ставили сети в Зуевской старице, тянувшейся почти от самой Зуевой Дырки до Сукнёвской протоки, то есть четыре километра, одним словом, ребята вместе с отцом занимались серьёзным промыслом, если же кто из них в это время и появлялся в ребячьей компании, то лишь по пути в деревню: не было смысла ежедневно гонять лодку домой против бешеного течения, они прятали её в кустах и возвращались пешком.
Вся наша удочно-закидушечная рыбалка казалась им детским лепетом, но почему бы не посидеть у костра, не повозиться, не побороться? Боролся Петька мастерски, гибкий и ловкий, что соболь, он обладал необычайной крепостью мускулов. Мы с Гошей не считали себя неженками, на турнике подтягивались по десять раз, но по сравнению с братьями Жарковыми, в отца низкорослыми, были сущей лапшой. Петька, мой одноклассник, борол Гошу, а я даже с Толиком не мог справиться. Удивительного тут, как мы узнали много позже, ничего не было: Петька, оказывается, был ровесник брату, стыдился, должно быть, что отстал в учёбе, и старательно скрывал свой возраст.
Но сильнее всех среди ребят был Колька Захаров, обличьем явный негритос: курчавые чёрные волосы, бронзовый цвет лица, толстые губы, жизнерадостная белозубая улыбка. Ростом не выше сверстников, Колька мог бороться один против всех. Делалось это так: Захаров становился в круг, ноги в лёгких ичигах широко расставлены, голова на короткой мощной шее вертится вкруговую, как у совы, а в напружиненной ссутуленной фигуре и хищно растопыренных руках таилось столько буйной силы и уверенности в своей непобедимости, что становилось страшно. Мы переминались, трусили, никто не решался ринуться первым на этого буйвола. Кидались разом, стараясь облепить, придавить к земле, но Колька неожиданным броском прорывал кольцо. Преследовать его было бесполезно: во время бега компания рассеивалась, а с двумя-тремя Захаров справлялся совершенно свободно, укладывал поборотых в кучу, садился на верхнего, трясся, изображая верховую езду, и ликовал: «Аллюра, моя лошадка!»
Обидно было мне за брата, что он не самый сильный среди деревенских ребят. И голова у него большая, круглая, что арбуз, и лицо загорелое, щекастое, широкое, как у якута, про таких полнокровных говорят, что у них рожа кирпича просит. Волосы у Гоши были густые, чёрные и грубые, будто лошадиная грива, а нос – толстый, мясистый, некрасивый, на картофелину похожий, за что его дразнили «Гошкой-картошкой». Здоровенный парнюга, посмотреть, а вот нет, большой силой не мог похвастать.