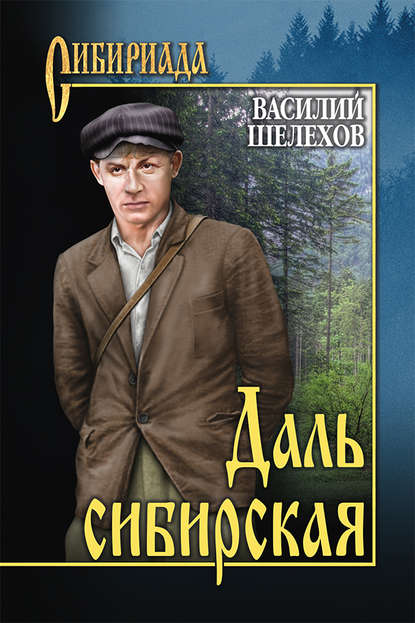По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Даль сибирская (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако наперекор многочисленным затруднениям, в каком-то радостном рисковом отчаянии родители запланировали-таки отправку ненадёжного школьника в Киренск. На этот раз имелось в виду, у него с учёбой будет полный порядок, пора мальчишеского легкомыслия будто бы миновала. Едва ли не главным доказательством в пользу такого домысла служил Гошин рост: он уже догонял отца. В том году, помнится, мама частенько, окинув любовным взглядом своего старшего сына, восхищённо, но сдержанно, боясь сглазить, приговаривала: «Ей-ей, в дядю Ваню пошёл! Такой же верзила вымахает!»
Дом кипел сборами. На расчёты, обсуждения, приготовления, наставления изводили время и энергию без сожаления. Родители и все мы крепко надеялись на чувство ответственности: после таких затрат, после стольких наказов, просьб, увещеваний, советов, поцелуев, после всей этой великой суеты Гоша должен был, мнилось, чтобы оправдать наше доверие, вгрызться в науки с остервенением.
И мы, естественно, не поверили, когда весною с первым пароходом возвратился наш «студент» и спокойнёхонько сообщил, что экзамены завалил, остался на осень по трём предметам, думали, это шутка, и ждали: вот сейчас Гоша расхохочется и выложит табель, в котором нет ни единой тройки; все как-то сразу онемели, поглупели, растерялись: как так, мы недоедали-недопивали ради его учёбы, а он… Да как он мог?! Это не просто разгильдяйство, это надругательство над всеми нами, да не только над нами… Красная Армия насмерть стояла под Москвой, народ напрягал все силы, помогая ей, а он… Чем он там занимался?! Как выяснилось позже, Гоша опаздывал на занятия, ленился ходить к товарищам за недостающими учебниками, зато частенько посещал кинотеатр, развлекался в своё удовольствие, навёрстывал упущенное за годы жизни в деревне и много, очень много спал.
О прощении не могло быть речи. Бездельник, тунеядец, предатель заслуживал жесточайшей кары. Со страхом и сознанием неизбежности справедливого возмездия все ждали, когда же наконец отец снимет свой широкий ремень из толстой бычьей кожи с тяжёлой металлической пряжкой, но… не дождались.
И сразу почувствовали облегчение: так неприятно, так тягостно видеть избиваемого, плачущего, извивающегося от боли. Задним числом ещё и посмеялись украдкой: ну как бы это, интересно, отец принялся пороть Гошу? Даже представить невозможно: за зиму нерадивый отпрыск так сильно вытянулся, что стал выше родителя, главы семьи, на целую голову!
Держался новоиспечённый геркулес уверенно, никаких угрызений совести не испытывал и, отметая укоры, заявил басом как о решённом:
– Учиться больше не буду. Работать пойду.
Нет, такого здоровущего и бесчувственного барбоса ничем не проймёшь. И, уж конечно, не выпорешь: отберёт ремень. Родители опустили руки.
Не скоро они поняли, что Гоша просто вытянулся, а не повзрослел. Взрослость пришла позже, в армии, где он окончил авиационный техникум, но не успокоился и в вечерней школе получил общее среднее образование, а затем, оставляя для сна лишь четыре часа в сутки, одолел-таки вуз. Даже внешне с годами, после двадцати лет, он изменился до неузнаваемости: шарообразность головы бесследно исчезла, лицо стало продолговатым, бледным и нервным, нос – тонким, длинным и плюс ко всему с маленькой горбинкой, а волосы – светлыми, мягкими и волнистыми!
Вечером на церковном дворе произошла встреча с друзьями-товарищами.
– Ого! Какой ты, Гошка, стал! С тобой, пожалуй, теперь не поборешься! – закричали ребята в изумлении и стали щупать бицепсы брата и подтыкать его, а он смущённо посмеивался и снисходительно поглядывал на них сверху вниз. Расшевеливался нехотя, наиболее назойливых хватал за ноги и держал вниз головой.
Петька Жарков стоял в стороне, небрежно подбоченясь, навалившись на одну ногу, и делал вид, что происходящее его не касается. А ребята всё поглядывали на него с надеждой и любопытством и пока что не раззадоривали, но дело шло к этому. Петька и сам понимал, что общество не допустит неопределённости, рано или поздно придётся доподлинно выяснить соотношение сил.
Я млел от гордости за своего брата и заранее злорадствовал в душе над Петькиным поражением. Жарков ринулся в бой неожиданно и яро, но боя не получилось. Гоша схватил его под мышки, мотнул в сторону, «матырнул», как говорили на селе, Петькины ичиги взметнулись, прочертили в воздухе круг, и вот он уже лежит на земле, причём брат не наваливается на него сверху и не требует признания своей победы, но отпускает тотчас в знак того, что бороться, собственно, не с кем.
И все подумали: «Ну, теперь очередь за Колькой Захаровым. Устоит, не устоит?..» Захарова в тот вечер в компании не было. Столкновение случилось через несколько дней на береговом бугре, напротив колхозных конюшен. Брата пытались побороть скопом, но он не давался, расшвыривал нападавших. Всех измял, извалял, разогнал – и вдруг появился Колька Захаров.
Гоша стоял на склоне бугра в том месте, где пологость переходит в крутяк, он стоял, можно подумать, расслабленно, беззаботно, посмеиваясь, а Колька матёрым кабаном пёр на него сверху, он рассчитывал, по-видимому, с размаху опрокинуть противника навзничь. Стычка свершилась до того быстро, в долю секунды, что не все успели увидеть и понять, что и как произошло. Гоша резко и сильно уклонился туловищем влево, так как Захаров бежал не просто сверху, а с правой стороны, и когда Колька наткнулся на согнувшуюся фигуру брата, тот разогнулся и кинул Захарова через колено под бугор. И утвердил тем самым за собой славу сильнейшего среди сверстников.
Но ничто не могло надолго оторвать нас от охоты, от рыбалки, от Лены. Это был наш труд и отдых, забота и радость, тревога и наслаждение.
Вторую половину лета мы обычно рыбачили на стрелке острова и в протоке, но всегда ниже мельницы, расположенной против середины длиннущего острова. Она стояла на безымянном ручье, тот самом, подле которого шла тропа на знаменитый Чистый бор, славившийся брусникой. Ручей был довольно полноводен, однако речушкой всё-таки не назовёшь: если разбежаться, то его можно было перепрыгнуть.
Мельница с зелёным лужком, окаймлённым рябинами и черёмухами, заслуживает особого разговора. Я любил бывать там с отцом в зимнюю пору. Старое здание из толстых сосновых брёвен, дрожавшее мелкой беспрерывной дрожью, представлялось мне хранилищем неисчислимого количества тайн; с восхищением я взирал и на бойко вращавшиеся умные жернова, и на глухие стены, обросшие нежным мучным бусом, и на гладкие грани бункеров, отшлифованные непрестанным скольжением зёрен, а когда заглядывал в приоткрытую дощатую дверь на обросшее зелёной тиной громаднейшее мельничное колесо, ворочавшееся с грозной медлительностью, то так и ждал, что из переплетения массивных спиц, обсыпаемых сверху крупными тяжёлыми брызгами воды, высунется плутовская рожица рогатого чертёнка и покажет мне язык. Помольщики съезжались, как правило, из разных деревень, и потому разговоры не затихали круглые сутки. Сельские новости перемежались с политическими дебатами, анекдоты – со страшными колдовскими байками, но более всего повествовалось охотничьих историй.
Протока тянулась на добрых два километра и была намного уже фарватера. Ширина её в разных местах менялась, и течение становилось то быстрее, то тише. Наиболее широкой и спокойной протока была в своём нижнем конце, а у самого острова, по-за мысочками, вода совсем не двигалась. Тут, в ямах-омутах с илистым дном, водились матёрые налимы, только добывать их было нелегко: глубина страшеннейшая и коряг затонувших полно.
Полуострова, мысы, мысочки… Рыбак никогда не останется равнодушен к мысочку, самому пустяковому на вид, потому что замечено: где мыс, там и залив, а где залив, там и рыба. Можно подумать, что рыба устаёт бороться с течением и потому ищет тиховодье. Однако обширные глухие заливы, к тому же бедные растительностью, зачастую удручающе пусты. Зато на границе быстрины и улова, там, где суводь, то есть течение воды в улове в обратную сторону, гаснет, где воронки-водоворотики сосут с поверхности воды в глубь листья, мусор, оплошавших насекомых, – вот тут обязательно толчётся рыбёшка. У коренного правого берега, где ток воды всюду напорист, рыболовы устраивали, чтобы приманить и поймать рыбу, искусственные заводи: забивали в дно колья по одной линии поперёк течения, а промежутки заполняли сосёнками, какие помохнатей.
Вольготно было в протоке! Поставим перемёты, закидушки, корчаги, а сами на остров махнём уток по озёрам гонять. Глядишь, и подстрелим какого-нибудь чирка. Или костёр разведём, шашлыки жарим. Удочки насторожим. Попавшихся ельцов сажали в лунку, вырытую около воды. Любопытно, что рыба в лунке тычется в сторону реки, чувствует родную стихию.
В конце июля начинается ход ельца в корчаги и морды, на крючок осенью ельца нипочём не поймаешь. Морды мы так и не научились плести, зато корчаг настряпали целую выставку. Резка зелёных, коричневых, багряных прутьев в зарослях ивняка, гладких, блестящих, словно бы покрытых лаком, неторопливый процесс плетения корчаги, переплетённый с мечтами, сколько и какой рыбы в неё попадёт, горьковато-терпкий дух подвяленного прутняка, – всё это нам нравилось чрезвычайно.
Более незамысловатую рыбалку трудно придумать: навешиваешь на корчагу камни-грузила, кладёшь внутрь прикормку – корочки хлеба, ломтики сырого картофеля, намазываешь воронкообразный вход тестом и ставишь хвостовиком вверх по течению. Торчать поблизости нет никакой необходимости, можешь грибы собирать, ягоды грести, в колхозе трудодни зарабатывать, вечерком же, раз в сутки, к ловушке своей наведываться.
Переплывёшь реку, отыщешь по приметам то место, где корчага поставлена, подденешь шестом верёвку, протянутую к берегу, но не до самого берега (иначе могут украсть), потянешь – корчага легко снимется с места, коричневым боровом притулится к лодке. Теперь самый интересный и важный момент – поднять и внести её в лодку. Напрягаешься и – р-раз! Возмущённый плеск на миг ошарашивает. Обрадованный, с трудом переваливаешь корчагу через борт. Пленники продолжат неистовую пляску-стукоток. Есть, есть добыча! Скорее вытаскиваешь травяную затычку в хвостовой части и вытряхиваешь содержимое – чистое живое серебро заливает дно лодки.
Так вот, корчаг этих, как я уже сказал, мы не поленились – навертели-накрутили больше, чем нужно, и поначалу настораживали по пяти штук за раз, но опыт показал, что рыбачить ими – только хлеб переводить, а хлеб в те трудные военные годы был очень и очень дорог, во много раз дороже рыбы. Почему-то недобычливым оказалось наше прутяное хозяйство. Стали подсчитывать и пришли к выводу: нет, овчинка выделки не стоит. Для семейного бюджета не прибыток, а явный разор.
Услышали про стеклянные корчаги, рыба в них будто бы лезет по-сумасшедшему. В детстве-то малявок бутылками ловили, а бутылка, по существу, стеклянная корчага в миниатюре, – бредилось нам. Загорелись идеей и стали осаждать просьбами знакомого столяра Телёнкова, большого мастера в своём деле. Он был дружен с нашей семьёй, не раз ел рыбные пироги материного изготовления, а потому согласился и соорудил из дерева и стекла невиданное сооружение, похожее на большой аквариум и отчасти на гроб. Однако зря были загроблены стёкла и силы: диковинное устройство не оправдало наших надежд.
Выручала, можно сказать, кормила нас одна-единственная корчага. Она имела свою историю. Однажды Гоша вытаскивал закидушку, но подавалось туго, что-то тяжёлое тащилось.
– Налим, должно быть, здоровенный попался, – смеялся брат. – Тяжёлый, как полкуля картошки, и ленивый, как старый кот, ни разу, ядрёна палка, не дернулся!
И вместо налима вытащил затонувшую корчагу, принесённую откуда-то сверху: камней мы на ней не обнаружили, вывалились, по-видимому, из верёвочных петель. Она была крупнее наших, сплетена, как видно, мастером, плотная, крепкая, аккуратная.
Опробовали и оценили трофей, конечно, не сразу, не в первый день. Привезли домой и забросили, как водится, на вышку, не подозревая, какое счастье нам привалило. Для сравнения годился разве что волшебный горшок из сказки, горшок с кашей: сколько ни ешь – не убывает.
Рыбы в этот подарок Водяного, хозяина Лены, как мы шутя окрестили чудодейственную находку, неизменно набивалось не менее, чем в пять наших уродин, вместе взятых. Знал, определённо знал секрет рыболовного искусства безвестный творец удивительный корчажки. Мама, помнится, не раз, довольная верными уловами, бормотала о заговоренности благоприобретенной ловушки.
В корчагу, поставленную в реке, лезет исключительно плотва. Помню, правда, случай, когда мы обнаружили в ловушке аршинного налима. Он заметил, надо полагать, рыбу, хотел обворовать нас, забрался внутрь, слопал ельцов и сам попал в уху. А однажды щука вознамерилась пробраться в корчагу, но горлышко оказалось узковато для неё, и она прочно застряла, так, что хвост торчит наружу, а голова внутри! Надо себе представить, какого страха натерпелись бедные ельчики, в течение многих часов наблюдавшие в непосредственной близости кровожадную щучью пасть!..
К спортивной рыбалке корчажный промысел не имеет, конечно же, никакого отношения, но мы с братом были счастливы хоть на часик отвлечься от прочих дел, счастливы вновь очутиться в лодке и, ритмично работая лопашниками, бездумно смотреть за борт на зеленоватую воду с уходящими в жуткую гипнотизирующую глубь радужными переливчатыми лучами. Да и не приходилось, по правде говоря, теперь чем-либо брезговать, война заставляла вырабатывать хозяйственную расчётливость, и мы с братом гордились тем, что часть добываемой нами рыбы родители меняли на молоко.
Уйма-уймища было ельца осенью в рдестовых зарослях на стрелке острова, смотришь с лодки: так и мелькают в траве, так и ходят руном по всем направлениям. Особенно интересно наблюдать за ними в «окно», то есть в просвет, чистый от водорослей до самого дна. Однако в корчаги тут они шли неохотно.
Добычливых мест в протоке мы знали немало, но корчажка-кормилица стояла обычно на стремнине, что находилась на полпути от стрелки острова к мельнице. Берег тут был булыжистый, крутой, с резко нарастающей глубиной. И почему-то в пору светлой воды эту быстринку обожали и ельцы, и окуни, здесь нам было не в диковинку снимать с перемёта килограммовых, величиной с тарелку, окуней.
Осенний жор окуня совпадал с началом уборки зерновых в колхозе, и потому в военные годы удавалось рыбачить в протоке целыми днями, на полный, так сказать, размах только в дождливую, нерабочую пору. Впрочем, один из перемётов, наживлённый ельцами и мандырышками, мы там держали постоянно и проверяли заодно с корчагой.
Замечательная рыба – окунь, красивая рыба: яркие красные плавники, зелёные поперечные полосы, веер грозных игл по горбатому хребту. Радостно почувствовать в руке остервенело-резкие рывки хищника, радостно увидеть в речной глубине его воинственную тигровидную полосатость. Никакая другая рыба не вызывала у нас такой же безоблачно-игривой весёлости: «окунёк», «окушок», «окунишка», «окунище» – так любовно, по-разному мы называли добытых окуней.
Вообще-то, окуни и летом, когда никто не хочет клевать, частенько нас, молодцы, выручали. Окунь ещё тем хорош, что наживку берёт без стеснения, уж глотанёт – так до хвоста утянет крючок, еле выручишь. Особенно нас смешило, когда, бывало, подготовляя перемёт к установке, пускаешь лесу с приткнутой к берегу лодки вниз по течению, и она, ещё не намокшая, плывёт подле берега с наживлёнными крючками – и вдруг чувствуешь резкие недовольные подёргивания, более сильные, чем могла бы сделать мандыра: оказывается, это уже успели напопадать мелкие окуньки, такая нетерпеливость нам, разумеется, очень нравилась.
Последние три года мы жили в самом центре села, около церкви, в бывшем поповском доме. Зимние вечера долгие, а керосин на вес золота, достать его можно было лишь на нефтеналивных баржах, идущих в Якутию. Экономя керосин, мы жгли не семилинейную лампу, а коптилочку ёмкостью полторы столовых ложки, свету эта коптилка давала не больше, чем обыкновенная свеча. И зажигали её, чтобы готовить уроки, не сразу с наступлением темноты, а только тогда, когда женщины вдоволь напоются песен.
Вечерние посиделки были в ходу. У нас на кухне тоже собирались соседки, рассаживались на лавках, стоявших у стен, на табуретках около русской печи и запевали проголосные песни. Пели в темноте. Иногда зажигали на шестке лучину, пламя её, то бурно вспыхивая, то сникая, беспрестанно вздрагивало и неровно, капризно освещало отрешённые от будничности лица поющих.
Мы, дети, догадывались, что для развлечения наши матери не стали бы так часто собираться, знать, была у них такая настоятельная потребность. В особенности в этом нуждались женщины, получившие похоронки. Можно было тут же и всплакнуть украдкой, благо в темноте не видно. Торжественно гремела песня, величавая, непобедимая, как гордый «Варяг» над погибельной морской пучиной, и уносила далеко-далеко, в удивительный сказочный мир, где не бывает смерти, где, взломав решётку, убегаешь с царской каторги, вместе со Стенькой Разиным ищешь богатства и воли, вместе с Ермаком завоёвываешь Сибирь.
Расходились певицы по домам умиротворённые, благодарные друг другу и ещё кому-то; так больные выходят от хорошего врача, сумевшего убедить, что надо не паниковать, а надеяться и бороться.
В то время люди не были запичканы музыкой: ни транзистора, ни телевизора (даже слов таких не существовало), ни радио, а если в какой семье и жил патефон, так пластинки крутили только по праздникам. Гармошка да частушки женихающихся парней и девок, гуляющих вдоль улицы села, – вот тебе и вся музыка, вся эстрада. Поэтому безыскусные песни солдаток доставляли нам, детям, огромное наслаждение. И хотя репертуар исполнявшихся песен не отличался разнообразием, это не отбивало желания слушать их вновь и вновь.
Недоброе сердце могло бы позавидовать нашей семье: отец по возрасту не подлежал призыву в армию, а мы с братом ещё не доросли, так что никто из нас в окопах не сидел, в атаку не ходил, смертельной опасности не подвергался. И всё же матери было о ком плакать, тосковать, тревожиться: старшую сестру Анну мобилизовали в школу ФЗО, и она слала из Киренска неутешительные письма: кормят скудно, в мастерских холодно, токарное дело не даётся. Забегая вперёд, скажу, что всё ж таки Анна освоила его и до конца войны работала в Иркутске на оружейном заводе, вытачивала корпуса для артиллерийских снарядов.
Сельские люди, и без того приветливые, общительные, теперь сильнее потянулись друг к другу. Испытывая непреодолимое стремление как можно чаще проверять, правильно ли понимают происходящее в мире, люди лишний раз удостоверялись в том, что составляют единое целое. В клубе изредка читались лекции о международном положении, но в тысячу раз больше собраний, митингов и дискуссий о том, скоро ли Гитлеру капут и что для этого надо делать, проводилось стихийно ежедневно и ежечасно там, где по какой-либо надобности сходилось несколько человек: в колхозной конторе на раскомандировке, на мельнице, на полевом стане, на крыльце магазина в ожидании его открытия. Когда в школе организовали курсы по противовоздушной и противохимической обороне, так даже неграмотные и тугие на ухо деды потащились на эти курсы и внимали преподавателю, выставив бороды, серьёзно и важно, правда, пересказать услышанное не могли: память в преклонном возрасте дыроватая.
А с какой охотой готовили тёплые вещи для фронтовиков! Зимние дни коротки, работы в колхозе и дома невпроворот, керосина нет, однако ж ухитрялись бабы, вязали носки, рукавицы, перчатки. Сколько возвышенно-праздничного было в этих хлопотах! Мы, школьники, прясть и вязать не умели, но хоть как-то приобщаться к великому делу нам тоже очень и очень хотелось, мы увивались около матерей и упрашивали дать покрутить веретено, но самое большее, что нам доверяли – это шиньгать, то есть растеребливать шерсть.
Тёплые вещи сдавали в сельсовет, там их упаковывали в посылочные ящики и подводой отправляли в Киренск. Адрес на всех посылках значился один: «Действующая армия». Для брата-свата можно отдельную посылочку соорудить, но стыдно отделять свой род от других: все они, кто там в окопах мёрзнет, родные.
У колхозников свои овцы. Где же нам, учителям, взять пряжу?.. Мама догадалась растеребить подник, то есть матрац из верблюжьей шерсти, купленный в Монголии ещё нашим дедом до Октябрьской революции. Пыль от расшиньганного войлока щекотала в носу, мы чихали и за однообразной работой рассуждали, вот, мол, какой у нас подник молодец-удалец, мы столько лет на нём спали-похрапывали, но не подозревали, что он не тюфяк, а грозное оружие, равное противотанковой пушке, что он в виде носков и варежек поможет нашим славным воинам угробить Гитлера, закопать изверга вместе со всей грабительской сворой и в ту могилу, как поётся в частушке, кол осиновый забить.
Сбор тёплых вещей для фронтовиков был делом добровольным и касался не нас, а родителей наших. А вот заготовка шерсти – это уже наша, пионерско-октябрятская, кампания и – строго обязательная, как экзамены. Каждый школьник должен был заготовить и сдать 400 граммов шерсти, любой шерсти, не обязательно овечьей. Для пимокатного производства годится и коровья, и лошадиная шерсть, было б что валять-катать.
Ближе к весне, когда воздух после обеда начинал заметно разжижаться, скотницы выпускали из длинных хлевов во двор рогатое стадо, и коровы с удовольствием, прищурив глаза, подставляли солнцу необъятные бока и нажёвывали свою жвачку. Тут мы и заготавливали шерсть. Бурёнкам хоть бы что. Иной раз хлобыстнет хвостом по плечу, но не со зла, а просто так, ненароком. Возможно, им даже приятно было освободиться от лишней, вылинявшей шерсти.
Дом кипел сборами. На расчёты, обсуждения, приготовления, наставления изводили время и энергию без сожаления. Родители и все мы крепко надеялись на чувство ответственности: после таких затрат, после стольких наказов, просьб, увещеваний, советов, поцелуев, после всей этой великой суеты Гоша должен был, мнилось, чтобы оправдать наше доверие, вгрызться в науки с остервенением.
И мы, естественно, не поверили, когда весною с первым пароходом возвратился наш «студент» и спокойнёхонько сообщил, что экзамены завалил, остался на осень по трём предметам, думали, это шутка, и ждали: вот сейчас Гоша расхохочется и выложит табель, в котором нет ни единой тройки; все как-то сразу онемели, поглупели, растерялись: как так, мы недоедали-недопивали ради его учёбы, а он… Да как он мог?! Это не просто разгильдяйство, это надругательство над всеми нами, да не только над нами… Красная Армия насмерть стояла под Москвой, народ напрягал все силы, помогая ей, а он… Чем он там занимался?! Как выяснилось позже, Гоша опаздывал на занятия, ленился ходить к товарищам за недостающими учебниками, зато частенько посещал кинотеатр, развлекался в своё удовольствие, навёрстывал упущенное за годы жизни в деревне и много, очень много спал.
О прощении не могло быть речи. Бездельник, тунеядец, предатель заслуживал жесточайшей кары. Со страхом и сознанием неизбежности справедливого возмездия все ждали, когда же наконец отец снимет свой широкий ремень из толстой бычьей кожи с тяжёлой металлической пряжкой, но… не дождались.
И сразу почувствовали облегчение: так неприятно, так тягостно видеть избиваемого, плачущего, извивающегося от боли. Задним числом ещё и посмеялись украдкой: ну как бы это, интересно, отец принялся пороть Гошу? Даже представить невозможно: за зиму нерадивый отпрыск так сильно вытянулся, что стал выше родителя, главы семьи, на целую голову!
Держался новоиспечённый геркулес уверенно, никаких угрызений совести не испытывал и, отметая укоры, заявил басом как о решённом:
– Учиться больше не буду. Работать пойду.
Нет, такого здоровущего и бесчувственного барбоса ничем не проймёшь. И, уж конечно, не выпорешь: отберёт ремень. Родители опустили руки.
Не скоро они поняли, что Гоша просто вытянулся, а не повзрослел. Взрослость пришла позже, в армии, где он окончил авиационный техникум, но не успокоился и в вечерней школе получил общее среднее образование, а затем, оставляя для сна лишь четыре часа в сутки, одолел-таки вуз. Даже внешне с годами, после двадцати лет, он изменился до неузнаваемости: шарообразность головы бесследно исчезла, лицо стало продолговатым, бледным и нервным, нос – тонким, длинным и плюс ко всему с маленькой горбинкой, а волосы – светлыми, мягкими и волнистыми!
Вечером на церковном дворе произошла встреча с друзьями-товарищами.
– Ого! Какой ты, Гошка, стал! С тобой, пожалуй, теперь не поборешься! – закричали ребята в изумлении и стали щупать бицепсы брата и подтыкать его, а он смущённо посмеивался и снисходительно поглядывал на них сверху вниз. Расшевеливался нехотя, наиболее назойливых хватал за ноги и держал вниз головой.
Петька Жарков стоял в стороне, небрежно подбоченясь, навалившись на одну ногу, и делал вид, что происходящее его не касается. А ребята всё поглядывали на него с надеждой и любопытством и пока что не раззадоривали, но дело шло к этому. Петька и сам понимал, что общество не допустит неопределённости, рано или поздно придётся доподлинно выяснить соотношение сил.
Я млел от гордости за своего брата и заранее злорадствовал в душе над Петькиным поражением. Жарков ринулся в бой неожиданно и яро, но боя не получилось. Гоша схватил его под мышки, мотнул в сторону, «матырнул», как говорили на селе, Петькины ичиги взметнулись, прочертили в воздухе круг, и вот он уже лежит на земле, причём брат не наваливается на него сверху и не требует признания своей победы, но отпускает тотчас в знак того, что бороться, собственно, не с кем.
И все подумали: «Ну, теперь очередь за Колькой Захаровым. Устоит, не устоит?..» Захарова в тот вечер в компании не было. Столкновение случилось через несколько дней на береговом бугре, напротив колхозных конюшен. Брата пытались побороть скопом, но он не давался, расшвыривал нападавших. Всех измял, извалял, разогнал – и вдруг появился Колька Захаров.
Гоша стоял на склоне бугра в том месте, где пологость переходит в крутяк, он стоял, можно подумать, расслабленно, беззаботно, посмеиваясь, а Колька матёрым кабаном пёр на него сверху, он рассчитывал, по-видимому, с размаху опрокинуть противника навзничь. Стычка свершилась до того быстро, в долю секунды, что не все успели увидеть и понять, что и как произошло. Гоша резко и сильно уклонился туловищем влево, так как Захаров бежал не просто сверху, а с правой стороны, и когда Колька наткнулся на согнувшуюся фигуру брата, тот разогнулся и кинул Захарова через колено под бугор. И утвердил тем самым за собой славу сильнейшего среди сверстников.
Но ничто не могло надолго оторвать нас от охоты, от рыбалки, от Лены. Это был наш труд и отдых, забота и радость, тревога и наслаждение.
Вторую половину лета мы обычно рыбачили на стрелке острова и в протоке, но всегда ниже мельницы, расположенной против середины длиннущего острова. Она стояла на безымянном ручье, тот самом, подле которого шла тропа на знаменитый Чистый бор, славившийся брусникой. Ручей был довольно полноводен, однако речушкой всё-таки не назовёшь: если разбежаться, то его можно было перепрыгнуть.
Мельница с зелёным лужком, окаймлённым рябинами и черёмухами, заслуживает особого разговора. Я любил бывать там с отцом в зимнюю пору. Старое здание из толстых сосновых брёвен, дрожавшее мелкой беспрерывной дрожью, представлялось мне хранилищем неисчислимого количества тайн; с восхищением я взирал и на бойко вращавшиеся умные жернова, и на глухие стены, обросшие нежным мучным бусом, и на гладкие грани бункеров, отшлифованные непрестанным скольжением зёрен, а когда заглядывал в приоткрытую дощатую дверь на обросшее зелёной тиной громаднейшее мельничное колесо, ворочавшееся с грозной медлительностью, то так и ждал, что из переплетения массивных спиц, обсыпаемых сверху крупными тяжёлыми брызгами воды, высунется плутовская рожица рогатого чертёнка и покажет мне язык. Помольщики съезжались, как правило, из разных деревень, и потому разговоры не затихали круглые сутки. Сельские новости перемежались с политическими дебатами, анекдоты – со страшными колдовскими байками, но более всего повествовалось охотничьих историй.
Протока тянулась на добрых два километра и была намного уже фарватера. Ширина её в разных местах менялась, и течение становилось то быстрее, то тише. Наиболее широкой и спокойной протока была в своём нижнем конце, а у самого острова, по-за мысочками, вода совсем не двигалась. Тут, в ямах-омутах с илистым дном, водились матёрые налимы, только добывать их было нелегко: глубина страшеннейшая и коряг затонувших полно.
Полуострова, мысы, мысочки… Рыбак никогда не останется равнодушен к мысочку, самому пустяковому на вид, потому что замечено: где мыс, там и залив, а где залив, там и рыба. Можно подумать, что рыба устаёт бороться с течением и потому ищет тиховодье. Однако обширные глухие заливы, к тому же бедные растительностью, зачастую удручающе пусты. Зато на границе быстрины и улова, там, где суводь, то есть течение воды в улове в обратную сторону, гаснет, где воронки-водоворотики сосут с поверхности воды в глубь листья, мусор, оплошавших насекомых, – вот тут обязательно толчётся рыбёшка. У коренного правого берега, где ток воды всюду напорист, рыболовы устраивали, чтобы приманить и поймать рыбу, искусственные заводи: забивали в дно колья по одной линии поперёк течения, а промежутки заполняли сосёнками, какие помохнатей.
Вольготно было в протоке! Поставим перемёты, закидушки, корчаги, а сами на остров махнём уток по озёрам гонять. Глядишь, и подстрелим какого-нибудь чирка. Или костёр разведём, шашлыки жарим. Удочки насторожим. Попавшихся ельцов сажали в лунку, вырытую около воды. Любопытно, что рыба в лунке тычется в сторону реки, чувствует родную стихию.
В конце июля начинается ход ельца в корчаги и морды, на крючок осенью ельца нипочём не поймаешь. Морды мы так и не научились плести, зато корчаг настряпали целую выставку. Резка зелёных, коричневых, багряных прутьев в зарослях ивняка, гладких, блестящих, словно бы покрытых лаком, неторопливый процесс плетения корчаги, переплетённый с мечтами, сколько и какой рыбы в неё попадёт, горьковато-терпкий дух подвяленного прутняка, – всё это нам нравилось чрезвычайно.
Более незамысловатую рыбалку трудно придумать: навешиваешь на корчагу камни-грузила, кладёшь внутрь прикормку – корочки хлеба, ломтики сырого картофеля, намазываешь воронкообразный вход тестом и ставишь хвостовиком вверх по течению. Торчать поблизости нет никакой необходимости, можешь грибы собирать, ягоды грести, в колхозе трудодни зарабатывать, вечерком же, раз в сутки, к ловушке своей наведываться.
Переплывёшь реку, отыщешь по приметам то место, где корчага поставлена, подденешь шестом верёвку, протянутую к берегу, но не до самого берега (иначе могут украсть), потянешь – корчага легко снимется с места, коричневым боровом притулится к лодке. Теперь самый интересный и важный момент – поднять и внести её в лодку. Напрягаешься и – р-раз! Возмущённый плеск на миг ошарашивает. Обрадованный, с трудом переваливаешь корчагу через борт. Пленники продолжат неистовую пляску-стукоток. Есть, есть добыча! Скорее вытаскиваешь травяную затычку в хвостовой части и вытряхиваешь содержимое – чистое живое серебро заливает дно лодки.
Так вот, корчаг этих, как я уже сказал, мы не поленились – навертели-накрутили больше, чем нужно, и поначалу настораживали по пяти штук за раз, но опыт показал, что рыбачить ими – только хлеб переводить, а хлеб в те трудные военные годы был очень и очень дорог, во много раз дороже рыбы. Почему-то недобычливым оказалось наше прутяное хозяйство. Стали подсчитывать и пришли к выводу: нет, овчинка выделки не стоит. Для семейного бюджета не прибыток, а явный разор.
Услышали про стеклянные корчаги, рыба в них будто бы лезет по-сумасшедшему. В детстве-то малявок бутылками ловили, а бутылка, по существу, стеклянная корчага в миниатюре, – бредилось нам. Загорелись идеей и стали осаждать просьбами знакомого столяра Телёнкова, большого мастера в своём деле. Он был дружен с нашей семьёй, не раз ел рыбные пироги материного изготовления, а потому согласился и соорудил из дерева и стекла невиданное сооружение, похожее на большой аквариум и отчасти на гроб. Однако зря были загроблены стёкла и силы: диковинное устройство не оправдало наших надежд.
Выручала, можно сказать, кормила нас одна-единственная корчага. Она имела свою историю. Однажды Гоша вытаскивал закидушку, но подавалось туго, что-то тяжёлое тащилось.
– Налим, должно быть, здоровенный попался, – смеялся брат. – Тяжёлый, как полкуля картошки, и ленивый, как старый кот, ни разу, ядрёна палка, не дернулся!
И вместо налима вытащил затонувшую корчагу, принесённую откуда-то сверху: камней мы на ней не обнаружили, вывалились, по-видимому, из верёвочных петель. Она была крупнее наших, сплетена, как видно, мастером, плотная, крепкая, аккуратная.
Опробовали и оценили трофей, конечно, не сразу, не в первый день. Привезли домой и забросили, как водится, на вышку, не подозревая, какое счастье нам привалило. Для сравнения годился разве что волшебный горшок из сказки, горшок с кашей: сколько ни ешь – не убывает.
Рыбы в этот подарок Водяного, хозяина Лены, как мы шутя окрестили чудодейственную находку, неизменно набивалось не менее, чем в пять наших уродин, вместе взятых. Знал, определённо знал секрет рыболовного искусства безвестный творец удивительный корчажки. Мама, помнится, не раз, довольная верными уловами, бормотала о заговоренности благоприобретенной ловушки.
В корчагу, поставленную в реке, лезет исключительно плотва. Помню, правда, случай, когда мы обнаружили в ловушке аршинного налима. Он заметил, надо полагать, рыбу, хотел обворовать нас, забрался внутрь, слопал ельцов и сам попал в уху. А однажды щука вознамерилась пробраться в корчагу, но горлышко оказалось узковато для неё, и она прочно застряла, так, что хвост торчит наружу, а голова внутри! Надо себе представить, какого страха натерпелись бедные ельчики, в течение многих часов наблюдавшие в непосредственной близости кровожадную щучью пасть!..
К спортивной рыбалке корчажный промысел не имеет, конечно же, никакого отношения, но мы с братом были счастливы хоть на часик отвлечься от прочих дел, счастливы вновь очутиться в лодке и, ритмично работая лопашниками, бездумно смотреть за борт на зеленоватую воду с уходящими в жуткую гипнотизирующую глубь радужными переливчатыми лучами. Да и не приходилось, по правде говоря, теперь чем-либо брезговать, война заставляла вырабатывать хозяйственную расчётливость, и мы с братом гордились тем, что часть добываемой нами рыбы родители меняли на молоко.
Уйма-уймища было ельца осенью в рдестовых зарослях на стрелке острова, смотришь с лодки: так и мелькают в траве, так и ходят руном по всем направлениям. Особенно интересно наблюдать за ними в «окно», то есть в просвет, чистый от водорослей до самого дна. Однако в корчаги тут они шли неохотно.
Добычливых мест в протоке мы знали немало, но корчажка-кормилица стояла обычно на стремнине, что находилась на полпути от стрелки острова к мельнице. Берег тут был булыжистый, крутой, с резко нарастающей глубиной. И почему-то в пору светлой воды эту быстринку обожали и ельцы, и окуни, здесь нам было не в диковинку снимать с перемёта килограммовых, величиной с тарелку, окуней.
Осенний жор окуня совпадал с началом уборки зерновых в колхозе, и потому в военные годы удавалось рыбачить в протоке целыми днями, на полный, так сказать, размах только в дождливую, нерабочую пору. Впрочем, один из перемётов, наживлённый ельцами и мандырышками, мы там держали постоянно и проверяли заодно с корчагой.
Замечательная рыба – окунь, красивая рыба: яркие красные плавники, зелёные поперечные полосы, веер грозных игл по горбатому хребту. Радостно почувствовать в руке остервенело-резкие рывки хищника, радостно увидеть в речной глубине его воинственную тигровидную полосатость. Никакая другая рыба не вызывала у нас такой же безоблачно-игривой весёлости: «окунёк», «окушок», «окунишка», «окунище» – так любовно, по-разному мы называли добытых окуней.
Вообще-то, окуни и летом, когда никто не хочет клевать, частенько нас, молодцы, выручали. Окунь ещё тем хорош, что наживку берёт без стеснения, уж глотанёт – так до хвоста утянет крючок, еле выручишь. Особенно нас смешило, когда, бывало, подготовляя перемёт к установке, пускаешь лесу с приткнутой к берегу лодки вниз по течению, и она, ещё не намокшая, плывёт подле берега с наживлёнными крючками – и вдруг чувствуешь резкие недовольные подёргивания, более сильные, чем могла бы сделать мандыра: оказывается, это уже успели напопадать мелкие окуньки, такая нетерпеливость нам, разумеется, очень нравилась.
Последние три года мы жили в самом центре села, около церкви, в бывшем поповском доме. Зимние вечера долгие, а керосин на вес золота, достать его можно было лишь на нефтеналивных баржах, идущих в Якутию. Экономя керосин, мы жгли не семилинейную лампу, а коптилочку ёмкостью полторы столовых ложки, свету эта коптилка давала не больше, чем обыкновенная свеча. И зажигали её, чтобы готовить уроки, не сразу с наступлением темноты, а только тогда, когда женщины вдоволь напоются песен.
Вечерние посиделки были в ходу. У нас на кухне тоже собирались соседки, рассаживались на лавках, стоявших у стен, на табуретках около русской печи и запевали проголосные песни. Пели в темноте. Иногда зажигали на шестке лучину, пламя её, то бурно вспыхивая, то сникая, беспрестанно вздрагивало и неровно, капризно освещало отрешённые от будничности лица поющих.
Мы, дети, догадывались, что для развлечения наши матери не стали бы так часто собираться, знать, была у них такая настоятельная потребность. В особенности в этом нуждались женщины, получившие похоронки. Можно было тут же и всплакнуть украдкой, благо в темноте не видно. Торжественно гремела песня, величавая, непобедимая, как гордый «Варяг» над погибельной морской пучиной, и уносила далеко-далеко, в удивительный сказочный мир, где не бывает смерти, где, взломав решётку, убегаешь с царской каторги, вместе со Стенькой Разиным ищешь богатства и воли, вместе с Ермаком завоёвываешь Сибирь.
Расходились певицы по домам умиротворённые, благодарные друг другу и ещё кому-то; так больные выходят от хорошего врача, сумевшего убедить, что надо не паниковать, а надеяться и бороться.
В то время люди не были запичканы музыкой: ни транзистора, ни телевизора (даже слов таких не существовало), ни радио, а если в какой семье и жил патефон, так пластинки крутили только по праздникам. Гармошка да частушки женихающихся парней и девок, гуляющих вдоль улицы села, – вот тебе и вся музыка, вся эстрада. Поэтому безыскусные песни солдаток доставляли нам, детям, огромное наслаждение. И хотя репертуар исполнявшихся песен не отличался разнообразием, это не отбивало желания слушать их вновь и вновь.
Недоброе сердце могло бы позавидовать нашей семье: отец по возрасту не подлежал призыву в армию, а мы с братом ещё не доросли, так что никто из нас в окопах не сидел, в атаку не ходил, смертельной опасности не подвергался. И всё же матери было о ком плакать, тосковать, тревожиться: старшую сестру Анну мобилизовали в школу ФЗО, и она слала из Киренска неутешительные письма: кормят скудно, в мастерских холодно, токарное дело не даётся. Забегая вперёд, скажу, что всё ж таки Анна освоила его и до конца войны работала в Иркутске на оружейном заводе, вытачивала корпуса для артиллерийских снарядов.
Сельские люди, и без того приветливые, общительные, теперь сильнее потянулись друг к другу. Испытывая непреодолимое стремление как можно чаще проверять, правильно ли понимают происходящее в мире, люди лишний раз удостоверялись в том, что составляют единое целое. В клубе изредка читались лекции о международном положении, но в тысячу раз больше собраний, митингов и дискуссий о том, скоро ли Гитлеру капут и что для этого надо делать, проводилось стихийно ежедневно и ежечасно там, где по какой-либо надобности сходилось несколько человек: в колхозной конторе на раскомандировке, на мельнице, на полевом стане, на крыльце магазина в ожидании его открытия. Когда в школе организовали курсы по противовоздушной и противохимической обороне, так даже неграмотные и тугие на ухо деды потащились на эти курсы и внимали преподавателю, выставив бороды, серьёзно и важно, правда, пересказать услышанное не могли: память в преклонном возрасте дыроватая.
А с какой охотой готовили тёплые вещи для фронтовиков! Зимние дни коротки, работы в колхозе и дома невпроворот, керосина нет, однако ж ухитрялись бабы, вязали носки, рукавицы, перчатки. Сколько возвышенно-праздничного было в этих хлопотах! Мы, школьники, прясть и вязать не умели, но хоть как-то приобщаться к великому делу нам тоже очень и очень хотелось, мы увивались около матерей и упрашивали дать покрутить веретено, но самое большее, что нам доверяли – это шиньгать, то есть растеребливать шерсть.
Тёплые вещи сдавали в сельсовет, там их упаковывали в посылочные ящики и подводой отправляли в Киренск. Адрес на всех посылках значился один: «Действующая армия». Для брата-свата можно отдельную посылочку соорудить, но стыдно отделять свой род от других: все они, кто там в окопах мёрзнет, родные.
У колхозников свои овцы. Где же нам, учителям, взять пряжу?.. Мама догадалась растеребить подник, то есть матрац из верблюжьей шерсти, купленный в Монголии ещё нашим дедом до Октябрьской революции. Пыль от расшиньганного войлока щекотала в носу, мы чихали и за однообразной работой рассуждали, вот, мол, какой у нас подник молодец-удалец, мы столько лет на нём спали-похрапывали, но не подозревали, что он не тюфяк, а грозное оружие, равное противотанковой пушке, что он в виде носков и варежек поможет нашим славным воинам угробить Гитлера, закопать изверга вместе со всей грабительской сворой и в ту могилу, как поётся в частушке, кол осиновый забить.
Сбор тёплых вещей для фронтовиков был делом добровольным и касался не нас, а родителей наших. А вот заготовка шерсти – это уже наша, пионерско-октябрятская, кампания и – строго обязательная, как экзамены. Каждый школьник должен был заготовить и сдать 400 граммов шерсти, любой шерсти, не обязательно овечьей. Для пимокатного производства годится и коровья, и лошадиная шерсть, было б что валять-катать.
Ближе к весне, когда воздух после обеда начинал заметно разжижаться, скотницы выпускали из длинных хлевов во двор рогатое стадо, и коровы с удовольствием, прищурив глаза, подставляли солнцу необъятные бока и нажёвывали свою жвачку. Тут мы и заготавливали шерсть. Бурёнкам хоть бы что. Иной раз хлобыстнет хвостом по плечу, но не со зла, а просто так, ненароком. Возможно, им даже приятно было освободиться от лишней, вылинявшей шерсти.